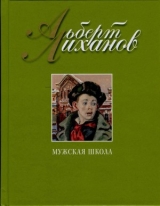
Текст книги "Мужская школа"
Автор книги: Альберт Лиханов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
13
Ну а теперь поговорим на политические темы.
Был я, конечно, пионер. Впрочем, все были пионерами в нашем детстве за исключением ребят из сильно верующих семей или таких, как Коряга, который за пять первых классов уноровил остаться два раза на второй год.
В бывшей моей начальной пионерство было красивым, почётным, желанным – нашивки на рукаве, барабанный бой, печатный шаг, громкие голоса: «Рапорт сдал!» – «Рапорт принял!».
Следует, кроме того, заметить, что в пионеры нас принимали, когда шла война или же сразу после неё, и наше детское осознание войны, страданий, победы все действующие в стране системы накрепко привязывали к имени Сталина, к партии, комсомолу и пионерам. Думать как-нибудь по-другому не то чтобы возбранялось, а было совершенно невозможно. Портреты, бюсты и статуи Сталина провожали нас с детства на каждом шагу, и мы так к ним привыкали, что совершенно, ну нисколечко их не замечали, как не замечает человек мебели в своем доме так она привычна. И наше пионерство было тоже чем-то неодушевлённым – может, как нарядные занавески в комнате. Сначала они нравятся, бросаются в глаза, эти красные занавески, а потом к ним привыкаешь, вот и всё. В начальной школе это привыкание выглядело хотя бы внешне культурным, а в мужской… Ну, судите сами.
Я вернулся в класс, отсутствовав месяц с хвостиком, и, ясное дело, забуксовал. Учителя оставляли меня после уроков, занимались дополнительно, чтобы я догнал класс, особенно усердствовала Зоя Петровна – как-то она поглядывала на меня слегка виновато. Учителей было много, но, скажем, ботанику я одолел с налёту, да и всё остальное тоже, но было три предмета, где я просто запурхался – математика (алгебра и геометрия), русский язык и ещё господи прости, французский.
Словом, вместо пяти уроков у меня каждый день оказывалось шесть, семь, а то и все восемь. Ну и воспаление лёгких всё-таки не фунт изюму, крепенько, видать, измотало меня, так что я совсем доходил.
Плюс Рыжий Пёс.
Он, может, денёк только и пожалел меня. Наутро опять меня щелбанами донимать принялся.
Не думайте, что я так спокойно говорю об этом, потому что смирился и сломался. Впрочем, может, и сломался, и смирился, но всё-таки не так, как поначалу, потому что теперь у меня был дружбан Гер-ка Рыбкин, и хотя он не мог по-настоящему противиться Женюре, кое-когда меня защищал. Говорил Рыжему:
– Подожди, атаман! Или:
– Ну хватит, босс!
Почему такое американское выражение – босс, спросите вы? Да потому, что, как известно, нашими союзниками на войне были американцы, и кое-какие приветы из-за океана достигали и нас, грешных. Например, американская тушёнка в банках с маленькими ключиками, пристёгнутыми к ним. Надеваешь такой ключик прорезью, которая в нём есть, на жестяное ушко, прижатое к банке, начинаешь крутить, полоска железа сворачивается на ключе в пружину, а пред тобой открывается аппетитная, в слезах, ветчина, ёлки-палки! Или яичный порошок – тоже американское изобретение. Кто бы мог подумать, что яйца можно сохранять и довольно надолго? А они научились – превращали их в порошок, пожалуйста, залей водой, но ещё лучше – молоком, и на сковородку – омлет получается, пальчики оближешь.
Так что слово «босс» было в ту пору – в мальчишеских, ясное дело, кругах шутливо-уважительным, и Рыжий Пёс от таких обращений млел и таял, оставляя меня до следующего приступа своей жестокой страсти.
Но кроме щелбанов было в нашу пору ещё одно средство подавления и морального уничтожения – резинки.
Из трусов или им подобных нательных предметов вынималась резинка, которая расщеплялась на тонкие нити, по краям которых выделывались петли для пальцев. А пули «отливались» из обыкновенной бумаги. Скатывается кусок, точно тесто, для прочности надо слюной смочить, прокатить несколько раз по парте, вдвое согнуть – и готово!
Так вот, в пятом, шестом и даже седьмом классе – в восьмом только, кажется, избавились мы от этой затяжной кори – народ ходил вооружённым резинками и пулями, и дело доходило до полного безумства. Ладно, в перемену, но и прямо на уроке жители «Камчатки», обитатели задних парт, выцеливали впереди сидящих и лупили по затылкам. Да как больно! Ну а передние – ведь на шее глаз нет осатанев от боли, разворачивались и пуляли назад – на сей раз норовя попасть в лоб, в щеку, в подбородок, а то и в глаз.
Сложная и жестокая, доложу я вам, велась перестрелка. Сидевшие впереди объединялись в пары или даже тройки, а то и вообще в целые отряды, потому что уцелеть в этой войне поодиночке было совершен но немыслимо. А так кто-то один караулит, косит одним глазом назад, обнаруживает стрелка, даёт знак, и передние лупят по врагу залпом.
У такой стрельбы свои правила, чаще всего они совершенно не совпадают со школьными, потому что, стрельнув, задний боец легко может укрыться от ответа, прикрыв голову книгой, портфелем, а то и вообще нырнув под парту. Поэтому передние должны среагировать быстро, изменить позицию, выбравшись в проход или даже вскочив на сиденье. Но это хорошо, когда учитель спиной к классу, а если лицом? Если учитель даже лицом стоит, а выстрел оказался точным и тяжёлым, народ, бывало, сходил с ума и, не страшась двоек, записей в дневнике, учительского крика, устраивал минутное побоище по всем правилам психической атаки, с громкими криками, вроде:
– Ах ты, падла!
Ясное дело, немного времени потребовалось и мне, чтобы с помощью Герки вначале вооружиться, сделать дома запасы бумажных пуль – аж полные карманы, – а потом и отточить снайперское мастерство. Но поначалу и тут я был неумехой, – а слабым, неопытным, неумелым и честным, зарубим на носу это вновь, достается всегда больше и горше, – так что я опять оказался жертвой. Затылок мой был изжален вражескими пулями, когда учителя отворачивались, я делал себе искусственный воротник из распахнутого, корочками наружу, учебника, отчего хлопки были смачные и громкие, при этом иногда попадало по пальцам, и я не всегда мог удержаться от отдельных междометий и даже целых реплик, которые помимо моей воли становились всё менее цензурными.
Накануне знаменательного политического события в моей судьбе я просто дошёл до ручки. На дополнительном уроке Француз против всяких правил грохнул мне пару, и я до полночи зубрил спряжение глагола «хотеть» – я хочу, ты хочешь, же вулю, тю вулю, – не выспался, опоздал на урок, ненамного, правда, был сильно обстрелян врагами, а за минуту до пионерского сбора рыжий тиран прямо в упор вмазал влажноватую пулю по моему затылку. Боль была адская, я не выдержал, и слёзы рванулись из меня; обхватив голову, я упал на парту и закрылся руками, а Герка сказал громко этому идиоту:
Слушай, штурмбанфюрер, хватит издеваться!
Где он только взял это словечко?
То ли оттого, что Рыбкин выступил громко и явно возмущённо, то ли потому, что название он применил явно фашистское, а война только что кончилась, и такой клички, если она прилепится, никто не желал, Щепкин вдруг неожиданно сказал:
– Извини, браток, не рассчитал.
И потрепал меня по плечу. Я, конечно, руку его стряхнул.
И тут явились они – Зоя Петровна и девушка с нетогдашним именем Марианна, старшая пионервожатая. Марианна, Марианна, – покрутив имя это на своем языке, Рыбка тотчас переделал его в более понятное Мариванну (Марью Ивановну).
Мне, честно говоря, было не до этого сбора, к тому же совершенно не торжественного – что за сбор, когда все сидят в классе, на своих партах, и у половины народа даже галстуков нет? Но сбор был организационный, требовалось избрать председателя совета отряда, я хоть слезы и вытер украдкой, но ещё пережевывал свою обиду, как вдруг услышал голос Рыжего Пса: Николаева!
Единственное, что я успел сделать, так это повернуться к проклятому Женьке и громко, на весь класс, сказать ему, что он охренел – правда, слово я употребил на уровень посложнее. Все хорошо услышали это, и Мариванна, и классная. Но Зоя Петровна только слабо качнулась, сказав:
– Он долго болел, ему надо нагонять!
Давайте голосовать, нагло воскликнул мой закадычный враг. – Имеем право!
Конечно, имеете! залыбилась дурная Мариванна, и – хлоп! меня избрали пионерским начальником.
Самого зачуханного, больного, отставшего в учении, самого неуважаемого и избитого выдвинули в вожди.
Подставляя слабого, мужская школа уклонялась от своих общественных обязанностей. И это тоже был важнейший её урок.
14
Впрочем, уроки бывали уж совершенно, как говорится, из другой оперы и совсем иного, даже для мужской школы, невероятного свойства.
Это происшествие случилось со мной на перекрёстке моей политической деятельности и французского языка, и здесь я вначале расскажу про нашего Француза. Видать, после войны преподавателей иностранных языков решительно не хватало, и у нас с пятого до седьмого класса сменилось, по нашим подсчётам, шестеро учителей. Потом это все были женщины старые и молодые, но первым у нас оказался мужик. С нынешней моей точки зрения – просто пацан.
Он ходил во всем военном, и это военное было тёмно-зелёное, добротное, офицерское, только без знаков отличия. Учитель французского, имя которого начисто стерлось в моей памяти, сразу же растолковал нам, что он боевой офицер, прошёл фронт, цацкаться с нами тут не намерен и, значит, чтоб на уроках была военная дисциплина, иначе ему придётся оценить нас по фронтовым меркам. Его командный слог заворожил нас, привыкших всё больше к женским увещеваниям или к неполноценным стариковским угрозам престарелых мужчин учительского сословия, да к тому же туманно-опасной звучала угроза оценки по фронтовым меркам и любопытство разбирало, и страх: как это? К стенке, что ли, поставит? На всякий случай мы изготовились к подчинению, но высокий, черноволосый и, в общем, не откажешь, симпатичный Француз в офицерском облачении пал в наших глазах сам, довольно примитивно, на самых первых подступах к твердыням знаний.
Просто-напросто он сам не знал французского как, впрочем, и любого другого иностранного языка – и учить нас принялся по учебнику да по блокноту, который вынимал из своего щегольского планшета. Пока мы одолевали слова и артикли, он ещё смахивал на учителя, особенно когда отвлекался. А отвлекался он неустанно. Рассказывал нам про Париж, про совершенно небывалую Эйфелеву башню, Парижскую коммуну, книгу «Отверженные» французского писателя Виктора Гюго, которую, похоже, и сам-то прочел совсем недавно, потому что излагал нам её сюжет с большими подробностями и долго, а согласитесь, всякий пересказ всё-таки скучнее самой книги, объяснял, что многие слова и выражения в наш язык перекочевали из великого французского, такие, например, как костюм (по-французски – ле костюм всего лишь артикль «ле» надо приставить), ле буфет, а пропо (между прочим), шерше ля фам (ищите женщину). Насчёт пропо и фам мы плохо его разумели, но переспрашивать не хотелось, потому что, задавая вопросы этому щеголю, мы видели, что спасаем его, – смешно, но факт. Он хватался за всякий дополнительный вопрос, особенно если наше любопытство не касалось грамматики, будто за спасательный круг, про Париж, к примеру, рассказывал урока три раскусив его, мы азартно играли в жмурки: ученики, чтобы оттянуть опасное время, когда могут спросить, учитель, чтобы оттянуть не менее опасное мгновение, когда он должен обогащать нас не байками, а программными знаниями.
В общем, как только с большой взаимной неохотой мы добрались до склонений и спряжений, на боевого офицера стало просто страшно смотреть. Пытаясь обогатить нас знанием французского, он стоял неподвижно у края стола и, словно двоечник, то и дело косил в свой конспект. Потом, видно уж совсем махнув рукой, садился и дул прямо по бумажке.
Так что все эти военно-фронтовые обещания оказались полной туфтой, ибо боевой Француз без признаков элементарного сопротивления оказался в плену даже у пятиклашек – уж не знаю, как он с остальными справлялся.
Ниже троек он нам никогда не ставил и слабо попробовал рыпнуться, когда Коряга вообще отказался отвечать.
Ну, ядрёна-матрёна, взбеленился Француз на грубом отечественном языке, – хотя бы повтори вслед я же только что вам рассказывал!
Но Коряга, понятное дело, если и слышал учителя, если даже и понял его, то выговорить уж совершенно никак не мог эти дурацкие французские слова. Да и стеснялся, пожалуй, говорить ещё на каком-нибудь наречии кроме иногда русского, а чаще – матерного.
Всё! Всё! Конец! забунтовал учитель, замахиваясь блестящей, видать трофейной, самопиской на журнал.
– Не надо, Француз Французович! – нагло, но в то же время просительно, не настырно сказал Коряга.
– Он двойку не заслужил! – горячился кто-то. Не меньше трояка! – каждый норовил подать реплику в этом замечательном спектакле.
– Пощадите, вы же добрый!
– Смилуйтесь!
– Весь класс просит!
Какой там французский! Русский бы выучить!
– Где Париж, а где мы!
Рыжий Пёс, как всегда, за самый кадык схватил:
– Не имеете права!
Как это не имею?! – воскликнул бывший офицер, откладывая самописку. Он уже сдавался. Надо было дожать.
Герка Рыбкин загудел первым. Был у нас такой способ забастовки – гудёж. Все сидят спокойно, для блезиру даже ручки на парте калачиком сложив, смотрят невинно на учителя и все гудят.
Три десятка пацанов – и гудят. Учитель по потолку ходить готов, кричит:
– Рыбкин, встань! Ты что себе позволяешь?! А Рыбкин пожимает плечами, глаза округляет:
– Что позволяю? Я ничего!
И действительно, он – ничего, он говорит с учителем и вовсе не гудит, зато все остальные гудят, так что с этим гудением бороться нельзя, как нельзя заставить сразу всех объяснить своё поведение. Француз наш уже раньше познакомился с гудячей забастовкой. Сразу слинял: уж не ему ли бежать жаловаться на нас директору? Хохотнул, схватил трофейную самописку, бабахнул Коряге тройку – мы заржали: тройка-то ни за что, за молчание, за полный нуль.
Ну ладно. Так это ещё не всё про нашего Француза.
Приближался день рождения Сталина, и наша Марианна-Мариванна велела провести слет, посвященный годовщине.
– Пусть ребята почитают стихи, споют песни, – наставляла она меня, – а ты как вожатый сделай доклад.
Я было пригорюнился, но Герка, добрая душа, меня надоумил:
– Ништяк! – сказал он, было у нас такое оптимистическое словечко. – Ништяк! У тебя настенный календарь дома есть?
– Ну, есть.
А ты возьми страничку за этот день и перепиши. У меня дед всегда так делает.
Переписать-то я переписал, но Марианна-Мариванна предупредила заранее, чтобы я дал ей свой доклад на проверку.
Словом, я последовал совету доброго друга, основанному на опыте старого дедушки-марксиста, вручил на перемене вожатой тетрадку, договорившись, что после занятий зайду к ней в пионерскую комнату и она мне выскажет свои замечания.
Часа два или три в пустой учительской под наблюдением Бегемота я нарешался всяческих задач и просто обалдел. Бегемотом звался не такой уж страшный учитель Иван Петрович Тетёркин, вот только голосина у него был самого что ни на есть густого басу. Он даже когда тихо говорил, вот, например, мне на дополнительных занятиях в пустой учительской, я уши прикрывал. И хотя бегемотов лично я не видал и не слыхал, как, пожалуй, никто другой из пацанов мужской школы, потому что в городе у нас зоопарка не было, в душе я соглашался: да, Иван Петрович действительно Бегемот. Добрый математик обладал в то же время всем набором учительских строгостей растолковывал подробно и популярно, а когда после объяснений я пытался решить задачу сам, голос, если до меня не доходило, всё же возвышал.
Ну да ладно, речь пока не о нём, а о Французе и пионервожатой. Нарешавшись до умопомрачения, я попёрся в пионерскую комнату.
Что за комната, объясню, и что за Марианна.
Под пионерскую отвели часть коридора, перегородили до шеи фанера, а сверху – стеклянные рамы. Рамы почему-то закрасили белой масляной краской.
В самой пионерской, как водится, знамя, барабаны, горны, стол, покрытый красной тряпицей, ну и пара дерматиновых диванов друг против друга. Над диванами портреты: Ленин и Сталин.
Ну и Марианна вот она: губы пухлые, навыворот, как у негритянки, носик вздернутый, симпатичный, глаза карие и всегда как бы смеются, но вообще на лице написано удивление, какой-то вопрос, будто она о чём-то всех спрашивает, да вот ответа не получает. Ещё у Марианны большие груди, которые покачиваются в такт её шагам. Их не в силах замаскировать даже свободная синяя блузка, которую носит вожатая, к тому же, хочешь не хочешь, воротничок на таких кофточках должен быть простой, без всяких там бантиков, под галстук, который двумя скрученными концами, как морковками, трепыхался у Мари-ванны между её арбузных грудей. При этом у вожатой была осиная талия и ладные пухленькие ноги. Словом, она обладала набором таких достоинств, что на переменах пионерская комната походила скорее на комсомольский клуб, потому что там вечно толкались старшеклассники, а нас, мелюзгу, если мы там появлялись, выдвигали вон прямо в лоб. За неверность пионеры мстили своей вожатой нескромными звуками и вульгарными жестами, когда она проходила мимо, но прикоснуться к ней всё же никто не решался – и она ходила по коридору с гордым видом ничего не замечающей победительницы.
И зря. Зоя Петровна уже дала нам несколько раз понять, что не одобряет Марианну. Хотя бы тем, что, обычно сдержанная, неожиданно громко и раскованно расхохоталась прямо на уроке, прознав, что мы переиначили вожатую в Мариванну. И другие учительницы подчёркиваем, исключительно женщины – всем своим видом демонстрировали такое же своё нерасположение к вожатой, а ведь получалось – ко всему пионерскому делу.
Итак, вернёмся в тот день. Уроки кончились, народ давно разошёлся, оставалось только несколько учителей; я с Бегемотом закончил допза-нятия, да в зале раздаётся бодрая песня: это наш класс под жестоким надзором классной и под управлением старичка Алгебраистова – надо же, Бог фамилию дал учителю пения! – репетируют праздничную песню:
О Сталине мудром,
Родном и любимом
Мы светлую песню поём!
Я подхожу к пионерской, деликатно тяну на себя дверь глухо, никого нет, закрыто. Ну вот! Обещала, а сама… Я разворачиваюсь, чтобы, чертыхаясь, уйти, но мне слышится, что за перегородкой какая-то возня. Воспитанный, как все, на книге писателя Губарева о Павлике Морозове, я первым же делом воображаю, что какой-то враг вознамерился утянуть наше славное пионерское знамя. Вот так да!
Ведь я читал, если украдут знамя полка, этот полк сразу расформировывают, значит, и нашу дружину распустят, если что.
Первая мысль побежать в зал, завопить, поднять тревогу. А вдруг мне послышалось? Я тихонько кладу портфель и начинаю двигаться вдоль замазанного стекла: вдруг есть щёлка. Но выкрашено как следует, без дураков. И тут мне приходит в голову спасительная мысль. Я достаю из кармана монетку, отыскиваю место, где краска потекла, да так и застыла каплями, осторожно, но сильно сдираю её. Получается! Ещё чуточку и я бесшумно выскребаю дырку размером с копеечную монету. Вглядываюсь в полумрак.
Первое, что попадает в поле моего зрения, – пионерский барабан с красными боками, а на нём вот черт, я даже проморгался, себе не поверив, – белые дамские трусы.
Сердце моё заметалось, точно птица в клетке, ещё бы, разве это для пионеров зрелище? Но ничего не попишешь – из песни слова не выкинешь. Что было, то было.
Это уж точно, не всегда нашим взорам, даже в самом нежном и педагогически тонком возрасте, открываются картины, дозволенные родителями и учителями, – увы, такова жизнь. Она, эта жизнь, неспроста тоже ведь называется школой, потому что преподносит нам без всякого на то согласия уроки, не запланированные школой обыкновенной. Жизнь вообще гораздо пространнее, чем все наши попытки научиться ей под присмотром старших, ведь уже самое понятие – присмотр – означает ограничение, окорот, присутствие заборов, выше которых не подпрыгнешь и не увидишь, что там за ними.

Но там, за забором, много чего грешного, дурного. Рано или поздно оно всё равно потрясет нас – сначала потрясет, а потом приручит своей неизбежностью и обыкновенностью.
Ребёнку не закроешь глаза на греховность, окружающую его, он и сквозь пальцы взрослой ладони увидит всё и, как ни зажимай уши, всё услышит.
Вот и я – разве что плохое мной руководило? Обыкновенное любопытство! В общем, мой маленький объектив размером в копейку зафиксировал: Марианна без юбки, одна нога согнута, белая ягодица едва прикрыта синей блузкой, а за её ногой, впиваясь в неё, как припадочный, дёргается Француз. Зелёные галифе съехали до колен, да и вообще не очень-то эстетичная предстала картина, особенно если к этому прибавить красный галстук, непотребно трепещущий в такт любви. А со стены на них взирал Сталин.
Поначалу я даже откинулся от стекла. Мне было тоскливо и стыдно сразу, но любопытство и какая-то тайная, почти преступная страсть вернули меня к зрелищу. Сердце бухало во мне, точно молот, я вспотел и в то же время дрожал, словно от холода. Мне было не только интересно, хотя я видал такое первый раз, что-то ещё захватывало меня, какая-то новая, незнакомая мне власть.
И тут я чуть не вскрикнул. Кто то прошептал над ухом:
Дай позыкать! Это был Рыжий Пёс. Как он так тихо подкрался! – Чё там?
Я подвинулся, он на секунду прилип к дырке и тут же откинулся. Глаза и рот у Женюры походили на три ровных кругляша.
– Тсс, – шепнул он мне. – Шаг!
Наклонившись, он быстро снял ботинки и побежал на цыпочках по коридору. Я вновь ненадолго вернулся к зрелищу, а когда обернулся, то сперва испугался, а потом чуть не захохотал.
Поперёк всего коридора на цыпочках и в носках двигалась наша пацанва целая гурьба. А первый ряд волок стулья! Если кто пытался хохотнуть, рыжий Щепкин громогласно шептал – «Тс-с!» – он бежал впереди и правда смахивал на какого-то штурм-банфюрера вёл на штурм целый класс.
Сопя, мальчишки подставили стулья спинками вперёд к перегородке, самые настырные взобрались на них и прильнули к стеклу там, где кончалась масляная краска. Те, кто добирался до зрелища, сразу замирали, но нижние дёргали их за штаны, и фюреру пришлось отоварить кое-кого щелбанами.
Ясное дело, тихо такой разворот событий завершиться не мог. Женюра, наводя порядок, дёрнул за ногу Герку Рыбкина, тот с перепугу сунулся вперёд и трахнулся лбом о стекло. Оно, правда, не разбилось, но звук произошёл громкий, вся перегородка затряслась, пацаны, уже не таясь, хором спрыгнули со стульев, произведя гулкий грохот, и все мы с топотом рванули в зал, при входе чуть не сбив с ног старичка Алгебраистова.
Последующее покрыто мраком.
Впрочем, не вполне. Марианна, теперь окончательно и бесповоротно перекомпоссированная в Мариванну, пыталась высказать критические замечания к докладу о Сталине, переписанному из отрывного календаря, требуя расширения и углубления, а я, не глядя на неё, скептически улыбался, говоря сам себе: «Как бы не так, стану я тебе переделывать. Ведь это же не урок, а сбор, и мне товарищ Сталин это простит, а вот тебе…»
Мариванна говорила со мной в переменку, выбрав для беседы коридор, нас тотчас окружил народ, издающий непотребные звуки, а я старался держаться на расстоянии вытянутой руки. Мариванна делала шажок ко мне ближе, чтобы, видно, доходчивее объяснить, но я отодвигался, кивал, чтобы скорее отделаться от неё, и глядел в сторону, а когда снова глянул на вожатую, обнаружил, что она густо покраснела.
Я схватил тетрадку, сбор наш длился ровно сорок пять минут, один урок, и свой доклад произнёс, не переменив в нём ни слова. Далее Сашка Кутузов прочитал стих Симонова, все вместе, под управлением Алгебраистова спели заздравную песню: «О Сталине мудром, родном и любимом…» Герка пере сказал главу про смерть сапожника, отца вождя, и трудное детство будущего революционера. Зоя Петровна устроила викторину с вопросами для первоклашек: когда и где он родился, роль вождя в подготовке революции…
Сам Иосиф Виссарионович взирал на нас из золотой рамы в форме генералиссимуса – довольно добродушно, привыкший, видать, к тому, что все пионерские классы по очереди на своих сборах клялись ему в верности и пересказывали его биографию, написанную неживыми, чужими, взрослыми словами. Никого, впрочем, это не волновало, потому что все – и классная, и вожатая, и старичок Алгебраистов, и мы, таракашки, были совершенно убеждены в необходимости именно таких слов и именно этих песен, потому как их пело и без конца произносило радио и печатали газеты. Ну а мы были, как все.
Это же так замечательно жить, как все.
А что Мариванна и Француз?
Бывший командир исчез ещё до Нового года, и недели две мы ликовали, потому что ему не могли найти замену. Вожатая с годик ещё командовала пионерами, но что касается именно нашего класса, то нас она старалась обходить, в результате чего я совсем забыл о своих обязательствах, и если бы не Зоя Петровна, то от пионерского движения в пятом «а» остались бы одни лишь галстуки, без которых в школу теперь не пускали. К Октябрю и дню рождения Сталина повторялось примерно одно и то же действие. Разве что разучивали другие песни да менялись в докладах местами слова.








