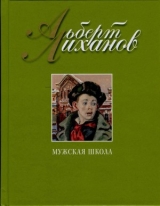
Текст книги "Мужская школа"
Автор книги: Альберт Лиханов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
23
А потом пришла и моя победа. Не тайная, а настоящая, с пьедесталом почёта и даже с нескрываемым удивлением окружающих. Тоже, доложу вам, немалое испытание.
Ну так вот, начались первые городские соревнования легкоатлетов в закрытом помещении. Тренер, то есть Васильевич, заявил нас всех на все виды программы, хотя видов-то этих, как я теперь понимаю, кот наплакал. Дом физкультуры наш – обыкновенный спортзал в старом монастыре, так что беговая дистанция – всего тридцать метров, суперспринт. Да ещё прыжки: высота и длина. Ну, толкание ядра – на маты. Правда, можно заработать настоящий разряд и чемпионский титул, ну и народу немало, я имею в виду участников. Зрителей, увы, в зал не пускали, потому что поместить их было просто некуда.
Ни о какой такой славе я не думал, в прыжках силен не был, тут сразу ясно, кто победит – Лешка Масляков, худющий, доброжелательный парень, он даже спортивной-то зависти не вызывает: скок, и выше всех, а сам виновато улыбается, простите, мол, братцы, я не виноват, просто так получилось.
Тут надо заметить, что прыжки в высоту тогда разрешались всего лишь двумя способами – ножницами и перекатом. Ножницами чаще прыгали женщины, а перекатом мужчины. И в нашу эпоху мировой рекорд для мужчин составлял ровно два метра, так что у мальчиков младшего возраста в провинциальном городке рекордом было сто шестьдесят сантиметров. Лешка его и установил прямо у меня на глазах под наши искренние аплодисменты. Я взял сто сорок. Кимка на пять сантиметров больше. По прыжкам в длину я вообще в хвосте оказался, к пяти метрам всерьёз не приблизившись. Оставался бег.
Вообще первые соревнования в закрытом помещении торжественно назывались открытыми стартами, это значит, любой человек мог прийти, заявить свою фамилию и участвовать – выявлялись как бы неожиданные и неизвестные таланты, и один такой дядька нашёлся. В Доме физкультуры кроме легкоатлетического были и ещё зальчики поменьше, так вот оттуда вдруг зашёл штангист по фамилии Щукин, прямо в тренировочном штангистском костюме и специальных ботинках, попробовал толкнуть ядро, да сразу и засандалил его в дальний угол, побив областной рекорд – вот шуму-то было! Здоровенный и добродушный мужик смеялся от неожиданности, его окружили судьи, среди них наш Васильевич, главный сегодня среди всех судей, предлагали ему сделать ещё две попытки, но он отмахивался, говорил, что шутит, что никакой он не легкоатлет, а штангист, и всё это недействительно, но всё-таки толкнул очень нетехнично, как бы шутя – второй, третий раз и снова установил рекорды – один чище другого.
Словом, к весне сманят Щукина всё-таки из штанги, и он этим же летом станет чемпионом России по метанию молота, мастером спорта, будет захватывать призовые места по толканию ядра, диску и копью это я к тому, что польза от тех знаменитых соревнований была, и, видать, спортивное начальство возлагало на них надежды не зря.
Среди участников, а не тренеров, на этот раз был и наш Борбор. Он прыгал, показывая хорошие результаты, толкал, готовился к бегу, а главное, то и дело подходил к нам и давал разные советы. Всё теперь смешалось в наших двух секциях – ведь старший Мазин на лето брал Борбора себе в помощники по лёгкой атлетике, но сейчас была зима, и Борбор был наш главный по лыжам. Ну а тут снова лёгкая атлетика, только в зале, и Васильевич занят судейством. Мне, ей-богу, нравились их такие отношения один другого заменяет не когда попросят, а когда надо, и всё это как-то по-хорошему получается. Такое нормалецкое настроение у всех выходит – ведь наши группы, что в лёгкой, что на лыжах, всегда не разлей вода, все подражают отношениям тренеров. Если чего-то получается, какое-нибудь недоразумение, учились мы говорить об этом тут же, без всякого ехидства или подъелдыкивания, голосом спокойным и рассудительным, как наш главный тренер. Вообще же все эти подробности не нужны даже, они, пожалуй, от запоздалого волнения. Тогда-то, в свои четырнадцать с половиной, я ни чуточки не волновался, не заглядывал вперёд. Но сейчас смотрю я сам на себя в ту минуту, из седых своих лет, и, честное слово, волнуюсь за мальчишку, люблю его и жалею.
Вы скажете, любить себя легко.
Однако ведь главное то, что именно тогда я себя не любил, так что не страшно. Не только не был самовлюблённым пацаном, а напротив, презирал себя за кое-что уже, увы, случившееся со мной. Так что не считаю великим грехом сейчас любить того худенького голенастого мальчишку в единственной своей приличной спортивной майке, и той-то казённой, выданной спортивным обществом.
Нет у того пацана больших спортивных шансов, и вовсе другие преодоления ждут его. Ничегошеньки-то он не ведает о своем будущем, даже самом ближайшем, и похож на слепого щенка, который тычется во все стороны, отыскивая мамкину сиську.
Тыкается в занятия фотографией, в книги, теперь вот в спорт, и есть какая-то непростая правда в этой, на ощупь, пробе жизни. Так оно устроено, это беличье колесо, что все бегут в одну сторону и, в общем, одним способом. Примерно одинаково и кончается это всё, так что дальнейшее не так и интересно, вопреки заклинаниям мудрых, нежели самое начало. Вот начало – оно действительно непохоже у каждого. И прекрасно непохоже своей искренностью – снимем же шляпу, седые люди, перед своим собственным детством! Снимем и поклонимся этим мальчикам и девочкам нам самим, без всяких хитростных уловок выбирающим жизнь, пробующим её на вкус, тем, кто, в отличие от нас, ещё не знает, что же, когда и как случится с ними. Да здравствуем мы, не знающие себя, мы, вступающие в мир и полные надежд, люди, не имеющие представления, чем кончится следующий час их жизни, и так легкомысленно верящие ей!
Итак, сначала были забеги предварительные – девочек, девушек, женщин. Дистанция – эта волшебная тридцатиметровка – казалась забавой, аттракционом, обставленным, впрочем, со всей торжественностью момента: множество судей на финише в белых брюках, стартовый пистолет, протоколы, в которых фамилии сверяют с номерами, предстартовая гробовая тишина, нервность, вызываемая краткостью дистанции, а по этому поводу и фальстарты, так что иной раз, прежде чем побежать, дважды понуро остановятся и вернутся на исходную позицию – словом, бег был заключительным номером программы, получалось, самым торжественным, не хватало только циркового треска барабана, как перед смертельно опасным номером.
А номер был действительно опасным: из-за малости зала противоположная стена его была увешана спортивными матами для бурных финишей. Травма, правда всего одна, уже была, её заработала Кимкина пассия Валентина, не сумевшая остановить свою пышную плоть после финиша и врезавшаяся в эти самые маты так плотно, что поначалу показалось, будто они – маты и тело – слиплись навсегда.
Когда настала моя очередь стартовать, я идиотски улыбался и вовсе не готовил себя к успеху. Видно, сказывалась манера Лёшки Маслякова.
Васильевич скомандовал «на старт», поднял стартовый пистоль, под его грохот я вовремя сошёл с места и финишировал в забеге первым.
Никто не знал, каким должен быть результат. Тридцать метров, таких дистанций не существует теперь. А тогда в нашем городе не было иных залов – да и теперь, впрочем, нет. Так что три секунды ровно был мой первый результат, абсолютно не взволновавший меня.
Я даже на Кимку не обиделся, когда он прямо в глаза сказал мне:
– Хо! Случайность! – а подумав, добавил: – Хотя неплохая случайность!
– А чё? – не понял я.
Если тридцать метров – три секунды, значит, сотка за десять. Мировой рекорд негра Оуэна! Представляешь?
Я отмахнулся, хотя знал, что в теории старт – самый сложный кусок всей спринтерской дистанции. Хорошо стартовал, значит, победа.
Тем временем Кимка показал три и три десятых, мосластый Лёшка – три и две. Стартовали и взрослые. Лучшее время вышло у Борбора, и тоже три секунды ровно, как и у меня. Надо же, а он мой тренер и соревнуется, естественно, со взрослыми, а не со мной.
Мне стало неловко, ни о какой борьбе со взрослыми я не думал, время своё действительно считал случайным, в душе соглашаясь с Кимкой. Объявили общий финал. Юношей и взрослых объединили в один забег, примерно с одинаковым временем набиралось четверо – двое взрослых и мы с Лёшкой.
Я совершенно не мандражил, странное дело. Я только испытывал неловкость перед людьми, которые, явное дело, сильнее меня. Вот и всё. Я был совершенно уверен, что в финале меня обставят все трое, но это был замечательный результат попасть в сводный финал, хотя я в группе младших юношей.
Наверное чтобы заранее утешить меня, подошёл Борбор и на глазах у большой массы наблюдателей, включая Кимку, сказал:
У тебя хорошо отработан ударный шаг. То, что и нужно при низком старте! Сила и скорость!
Я с благодарным смущением махнул рукой, ну что, мол, там, говорить, какой там ударный!
Вызвали на старт. Краем глаза я видел, как тщательно расставляют икры ног Борбор, Лёшка и ещё какой-то незнакомый мужик. Это был признак профессионализма, настоящего мастерства – последние мгновения перед огромным напряжением. Потом они долго устраивались на стартовые колодки – деревянные подставки со скошенными углами. Я уже давно поставил ноги, куда положено, и замер, а они все шевелились, шуршали, действовали друг другу на нервы.
И тут меня вдруг каким-то словно светом озарило: я выиграю! Неизвестно почему, я с облегчением почувствовал, что мне сейчас повезет.
Васильевич подал команду «внимание», грохнул пистолет, я рванул вперёд и тут же финишировал. В одно лишь мгновение моё боковое зрение зафиксировало Борбора. Он был рядом со мной. А финишируя, резко подался грудью. Но завершать дистанцию я тоже уже научился.
Судьи объявили: у нас с моим тренером одинаковый результат, две и девять десятых секунды. Установлена целая пачка рекордов и сразу опять же двоими: мужской рекорд города и области, мужской – спортивного общества «Искра», городской и областной рекорд для юношей старшего возраста, также рекорды для мальчиков и опять же – спортобщест-ва «Искра». Чемпион первенства в закрытом помещении для трех возрастов. Мне выдали целый ворох грамот, по каждому случаю отдельную, фотографы, сверкая блицами, сняли меня в обнимку с Борбором. Я растерянно пожимал его руку. Потом нас с ним попросили пробежаться ещё раз, просто так, для опоздавшей кинохроники.
Я слышал, как за спиной, теперь, правда, совершенно с иной интонацией, Кимка снова рассуждал о рекорде мира Оуэна и о том, что ведь после старта скорость обычно нарастает и, таким образом, у нас на глазах состоялось сенсационное событие.
– Вот если бы там не было стены, – говорил он, и наш зал позволял пробежать все сто метров, сегодня здесь бы произошло чрезвычайное событие.
Он был прав и не прав. Летом Борбор установит областной рекорд и на сто метров – десять и пять десятых секунды, а я не установлю ничего, потому что на меня, к сожалению, не все расчёты распространяются, и даже при беге на сотку я не набирал скорость, как правило, выигрывая старт, а напротив, замедлял её и обычно проигрывал, едва достигая третьеразрядного результата.
Но не будем заглядывать в пока невидимое далеко.
Назавтра фотографию, где я был вместе с Борбо ром, напечатали во взрослой газете, а где я один – в молодёжной. Газеты эти висели в школе на стендах, и о моих рекордных стартах загалдел не толь ко наш класс.
Через неделю на общем собрании физкультурного коллектива школы меня выбрали председателем. И предложил это не кто-нибудь, а Щепкин, вернувшийся с зоны перворазрядником.
Второй раз предлагал он мою кандидатуру, если вы помните. В первый раз измываясь, но теперь было всё по-другому. Теперь мы строгими голосами рассуждали о том, что наша школа может быть лучшей по спорту, что в разных городских секциях занимается много наших ребят, что глупо не замечать серьёзных конкурентов, четырнадцатую и тридцать восьмую мужские школы, в которых тоже полно отличных ребят.
Наш Негр горячился, разжигая нас.
– Впереди эстафета, ребята, – воскликнул он. А мы уже давненько не видали кубков!
Честно говоря, не очень-то удачно совпали газетные фотографии с обычным собранием.
Люди часто поддаются настроению дня, а ещё охотнее ложному слуху. Слух о рекорде Оуэна, который может быть перекрыт при известных стечениях обстоятельств, обволакивал умы очень многих своей пушистой неопределённостью, благостным желанием, наваливая на мои плечи совершенно непосильный груз ответственности какого-то обеща-тельного свойства.
Тьфу ты! Но делать нечего, меня избрали, и ближайшей целью стала эстафета.
24
Но нет, не везло нашей мужской. Как гром, как обвал пронеслось: арестован Бегемот.
Сперва это от нас пытались скрыть, уроки математики, которые вёл Тетёркин, заменили другими предметами, но поскольку математику надолго не запустишь, а была середина учебного года, другие учителя этого предмета, из младших классов, подрессировавшись в нашем материале, стали учить нас вместо Ивана Петровича. Получалось хлипко, учителя нервничали, и вот кто-то из них не выдержал, проболтался.
Арестован? Учитель? За что? Старшие классы загудели, всё-таки некоторая доля свободы, точнее сказать, прорезающаяся взрослость не позволяла уже обращаться с нами, как с малышами. Мы хотели знать правду. Любую. Мы хотели, чтобы с нами не играли в кошки-мышки. На переменах раздавались требования позвать Эсэна. Уж он-то знает! Голоса были слышны в коридорах, и Эсэн действительно стал ходить по старшим классам. Пришёл и к нам.
Ну чего вы от меня хотите? – спросил он. – Я не знаю, за что арестован Тетёркин. Позвонили из энкавэдэ и объявили, что предъявляется обвинение по пятьдесят восьмой статье. А это деятельность, враждебная нашему строю.
Как тихо сидел наш класс. Как прятали мы глаза. Как не верили нашему надёжному Эсэну. Первый раз не верили.
Но не надо торопиться! говорил директор, отделяя слова друг от друга, произнося их с удивительной медлительностью. По закону сначала бывает следствие, и лишь затем предъявляется обвинение. Дальше суд, и он, между прочим, может опровергнуть факты и подсудимого оправдать.
Мы молчали и прятали глаза, а наш директор смотрел за окно.
Что за деятельность? произнес Щепкин в мертвящей тишине.
Если бы я это знал, ответил директор, то сидел бы не в школе, а в энкавэдэ.
Он приблизился к окну, уставился в него, чуть погодя проговорил:
– Надо двигаться дальше. Всё.
Это было после уроков, нас предупредили, чтобы мы подзадержались, поэтому, когда директор вышел, следовало расходиться. Но никто не двинулся.
Ну чё, комсомольцы? с иронией спросил Щепкин. Будете защищать своего учителя?
Сашка Кутузов, забрав под мышку сумку, громко сказал:
– Расходимся, мужики!
– А? – гнул своё Щепкин.

А тебе всё неймётся, Рыжий? – спросил Лёвка Наумкин.
Ещё как ймётся, ответил ему Женюра. Всем ймётся, сказал Лёвка. А чё ты сделаешь?
Расходимся, мужики, – уже не сказал, а приказал Сашка Кутузов, известный стратег, умевший не только правильно наступать, но и грамотно отступать, Цепочкой или на худой конец парами потянулись мы из класса к раздевалке. Тоскливо было на душе, говорить не хотелось, так, перебрасывались пустыми фразочками.
Вы замечали бывают такие события, которые происходят как будто по указанию свыше. Порой это действительно события, но иногда просто случаи, какие-то забавные или печальные факты, точно намекающие нам, как и что следует делать, как жить, какие принимать решения, в общем, этакое предупреждение. Вот такой случай произошёл со мной и как раз в тот самый день, когда с нами разговаривал Эсэн.
Я пришёл домой, положил портфель и взялся за вёдра у меня была обязанность: носить воду. Во допровода в нашем доме не было, и мы ходили к колонке, почти за целый квартал по разбитой, с выбоинами дороге, так что, когда я шёл с полными вёдрами от колонки, навстречу мне из-за угла выехала чёрная крытая грузовушка, известный всем воронок, в каких возили заключённых. Ни раньше, ни позже выехал этот воронок, ни раньше, ни позже приблизился к выбоине, полной жидкой грязи, влетел туда колесом и окатил меня с головы до пят.
И пальтецо мое, и руки, и лицо обдало жидкой грязью, а чистая вода превратилась в помои.
Ни на секунду не притормозив, шофёр помчался дальше, а я, признаюсь, завыл от досады.
Потом, чуть позже, умывшись, отдраив пальто, наносив чистой воды и даже посидев за уроками, я только и допёр соединить вместе все эти происшествия сегодняшнего дня.
Воронок мне что-то объяснил и довольно доходчиво. Но что? Я не мог облечь даже в мысли, не то что в слова этот намек, но ясен он мне до самой прозрачной ясности.
Мне надлежало опасаться грязи, сторониться таких воронков. И не только на улице. Кто-то незримый предупреждал меня, но в то же время обучал опаске. Страху.
Наверное, дети до какого-то срока не подчиняются судьбе. Она как бы даёт фору каждому беги, мол, лопочи, улыбайся солнышку, радуйся голубому небу и одуванчикам. Нет-нет, от проблем никто не освобождается, даже самый невинный малыш, не в том дело. Заботы и судьба – совершенно разные качества. Лишь только человек, незримо для себя, одолевает финишную ленточку детства – а это с каждым случается по-разному и в разное время, его запрягает судьба.
Взрослый мир, окружающий тебя, неведомые силы, управляющие всей жизнью, входят в невидимую сцепку с твоей дорожкой, с твоими неприятностями, а может, радостями или обычностями, и тебя начинает крутить, швырять, дёргать, и напрасно думать, будто ты сможешь вырваться из этого верчения, нет, уже не ты, а обстоятельства и, значит, судьба ведут тебя дальше, нагибая или лаская, соединяя с другими, и от этих соединений заставляя страдать или ликовать.
Никто не проходит жизнь в одиночку, а раз так, то будущее предопределено тем, как ты, к примеру, подвластен страху, насколько упорен, стремясь к цели, и как обучен одолевать тяготы на пути к ней. Добрых людей судьба запрягает сурово, вечно заставляя плакать и обманываться, но это только затем, чтобы потом когда-то вознаградить любовью, признательностью или нечаянной радостью. Жёсткий может многого достичь, но в один прекрасный миг вдруг поймёт, что достигнутое могло прийти иными способами; не стоит, впрочем, завидовать доброму и сочувствовать жёсткому и тот и другой запряжены всё той же судьбой с одной лишь разницей, которая состоит в непохожести характеров. Действие судьбы для всех одинаково, всеми правит, всех страшит, всем грозится только угрозы эти ничему не учат…
Наутро мы все увидели лицо судьбы, узрели её перст, погрозивший всему городу, мужской школе и нашему классу.
Посреди первого же урока в коридоре раздался крик:
– Пожар!
Мы подскочили к окнам: где-то полыхало, но не у нас. Выскочили в коридор горело внизу, под го рой, рядом с базарной площадью.
От торцевого окна крикнули:
– Зверинец!
Мы вылетели на улицу кто в чём был, и учительские крики остановили лишь чрезмерно покорных. Квартал мы летели вниз, пронзаемые утренним мартовским морозом, гурьба пацанов из разных классов мужской школы. Тут были и пятиклашки, и рослые десятиклассники, которым неписаная демократия уже позволяла жить вопреки правилам с короткими стрижками. Будто чёрная волна, мы неслись от школы к зверинцу, затихающим накатом, останавливались кругом перед стеной огня, охватившего дощатые стены передвижного зверинца.
Его уже окружила пара пожарных машин, и их хозяева, матерясь, скручивали шланги между собой, отковыривали из-подо льда люки городского водопровода, а с пяток растерянных Мильтонов старались отогнать нас.
Ну что мы им, мешали, что ли? И чего так мешкают пожарные? Да и вообще, что будет, там ведь животные?
Весь город перебывал в этом бродячем зверинце, а про нашего брата и толковать нечего. Раз по пять, по десять, не зная других развлечений, кроме, разве, кино, которое шло месяца по два, по три кряду, мы не просто оглядели, а пристально обследовали животных, доля которым выпала незавидная маяться в неухоженных железных клетках, чтобы сколько там положено раз в сутки принимать пищу, взирая в перерывах на двуногих, толпой стоящих перед ними.
Были там жирафы, верблюд, любивший плеваться прямо в лоб простодушным зевакам, целый выводок медведей, здоровых и поменьше, ясное дело, обезьяны разных пород, диковинные страусы и бессчётные попугаи, но главной ценностью зверинца, конечно же, считался африканский слон.
Мы гуляли там по деревянным настилам, присыпанным зачем-то влажными опилками, издававшими странно резкий больничный запах, задирали головы, приносили корки сухого хлеба, и твари Божий, невинно засаженные в железа, их принимали очень даже охотно и доброжелательно, хотя тутошние надзиратели и окрикивали народ, но как-то безнадёжно, скорее по усталой обязанности, чем для дела.
Брал хлебушек и большой африканский слон, страдающий, бедняга, в одиночестве. Всех тварей тут было по паре, кроме слона и верблюда, ну да у верблюда такая физиономия, что сразу ясно, ему всё равно, а вот слона было жалко, он разглядывал людей непомерно телу малыми глазками, из которых лучились тоска и одиночество, медленно, не нагло протягивал хобот к твоей руке, если видел в ней горбушку, нежно брал чуткой своей, покрытой лёгкими волосками трубой, вносил в рот и долго жевал, потряхивая ушами, будто благодарил и кланялся.
Но вот теперь всё это пылало! А там, за стеной огня, раздавались панические звуки. Кто-то визжал, визжал не переставая, будто свинья, слышался треск брёвен, искры взлетали в серое безмятежное небо.
Несколько раз повторился и стих трубный звук. Это был, без сомнения, слон.
Отойдите, отойдите! – кричал нам пожилой красноносый мильтон. А если слон вырвется? Что мы с этими пушками!
Я поразился. Я увидел в его руке пистолет, какой-то маленький, будто игрушечный, но всё же пистолет, и меня ужаснула его готовность стрелять в слона. Его же спасать надо!
– Его спасать надо, – крикнул я.
Да, спасать! ответил милиционер. Если клетка выдержит, дай бог, то он просто зажарится. А если не выдержит, беды наделает столько, что…
Он не договорил, этот блюститель порядка. По нему – пусть бы зажарился.
Я бросился вдоль огненной стены к задам, там, где была клетка со слоном. За мной перебежали и наши. Впрочем, там было полно людей, все знали, где кто стоит, и слона жалели все.
Какие-то люди в штатском суетились вместе с пожарными и милицией, наверное, служители зверинца. Им стали кричать:
– Слона! Спасите слона!
Один из них, цыганского вида, повернулся, пожал плечами, крикнул: Как?
Народу заметно прибавилось, с рынка прибежали торговки в белых халатах поверх пальто, разномастные ханыги мужского полу от этих проку не добиться, коммерсанты, мать их так.
Пожарные наконец пустили воду, да что проку!
Она тонкими струйками взлетала над огнём и, кажется, сразу испарялась.
Двое или трое принялись работать топорами, рубя заднюю стенку, – из пробоины потянулся жёлтый дым.
Я увидел, как один смельчак из пожарных, намочив в воде какую-то тряпку, обматывал ею рот, ещё один ему помогал.
Отважный то ли в шутку, то ли всерьёз перекрестился и нырнул в проруб. Снова послышался отчаянный, полный ужаса, трубный рёв слона. В дыру метнулся ещё один тушитель с пожарным топориком, нарядным и востроносым, блеснувшим в отблеске огня.
Огонь свистал, выл, ухал.
Скоро обрушится! – сказал ещё один пожарный. – Им надо выходить!
И тут из пролома выскочил медведь. Вырвавшись из огня, ополоумевший от страха и радости, что спасён, он замер на минуту, а потом, косолапя, попятился от огня.
О чём он думал в ту минуту, если медведи могут думать? О провидении? О судьбе? О свежем воздухе, который снова глотнули его лёгкие?
Он пятился к людской толпе и не думал ни о чём плохом, когда бабахнул выстрел.
Медведь остановился, встал на задние лапы, и я разглядел его недоумевающий глаз. Хлопнул ещё один выстрел, и ещё. Заорал цыганский служитель зверинца, подбежал к мёртвому медведю и крикнул милиционеру:
– Зачем? Зачем тогда спасли?
Это было так абсурдно, так глупо – действительно, спасти, чтобы тут же расстрелять? и мы заорали:
– Зачем убил, гад?
– За что, скотина?
– Чем он тебе помешал?
У меня приказ, надрывая глотку, кричал старый мильтон. У меня приказ! Я охраняю вашу безопасность!
В это время из пролома выскочила антилопа и, не остановясь ни на секунду, вот молодчина! лёгкими скачками рванула куда-то сквозь толпу, вмиг радостно уступившую ей дорогу.
За ней выскочил пожарный с топором. Он кашлял, задыхался, другие спрашивали его про того, с полотенцем, но он мотал головой.
И тут рухнула крыша, к небу взметнулся океан искр, и, о чудо, среди этих искр появились цветные птицы.
– Попугаи! заорал народ. Смотрите, попугаи!
Птицы летели прямо к нам в руки. Их принимали. Не хватали, пугая, а именно принимали, разумно и бережно, как и должны вести себя люди, спасая существа, которые слабее их.
Судьба опять выбрала моего соперника. Я даже не понял, как это произошло, обернулся, а Щепкин прижал к себе и гладит красного здорового попугая.
Попа, говорил он неожиданно нежным, утешающим голосом, – не волнуйся, попа!
Но это был кадр всего лишь один выхваченный миг из ужасной хроники.
Раздался вопль, я повернулся и завопил вместе со всеми: стена рухнула, и мы увидели высокую железную клетку с горящим слоном.
Он даже упасть, бедняга, не мог в своей западне. Умирая, он навалился на одну стену всей тяжестью тела, и толстые железные прутья прогнулись. Стальная крыша клетки всё-таки прикрыла его от падающих стропил, так что слон не сгорел, а просто обгорел и задохнулся. Взаперти.
Я не стыдился слёз. Никто не стыдился. Все мы плакали, и старшеклассники тоже.
Один неугомонный старик мильтон, выполнивший свою задачу, испытывал непонятное успокоение.
– Ну всё, всё, – говорил он нам, похлопывая по плечам, – идите, ребята, в школу, идите, в жизни-то ещё не такое… Мать её…








