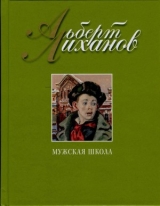
Текст книги "Мужская школа"
Автор книги: Альберт Лиханов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 27 страниц)
30
Забавно устроена жизнь. Тебе хочется того, что нельзя, а как только становится можно, тебе это не очень-то нужно.
Проводив Веронику после танцев, я мог бы её поцеловать. Но не сделал этого. Она стояла близко, смотрела в глаза, ждала, а я, пижон, пожал руку и повернулся спиной.
Всё было как-то бесславно и тупо. Противным казался мне мой триумф.
Но вспомните! вечер был в честь Дня Красной Армии, а это двадцать третье февраля. Год шёл пятьдесят третий.
Через несколько дней мама резко отворила рано утром мою дверь и громко сказала, почти крикнула:
– Сталин умирает!
Я вскочил с кровати, сунул ноги в валенки, подбежал в одних трусах к громкоговорителю. Торжественно и печально Левитан объяснял, что случилось.
Отец стоял одетый, собранный, будто снова готовый к военной мобилизации.
– Что теперь будет? – спросил я.
– Только бы не война! воскликнула мама. Брат чего-то там верещал, выдрючиваясь, но она первый раз пропускала его требования мимо ушей.
– Война? – переспросил я.
Что-то новое и непонятное входило в мою жизнь. То, что казалось надёжно вечным, хотя и далёким от нас, вдруг зашаталось. Первый раз я почувствовал нашу зависимость от неясно-туманных сил. Где-то за неприступным занавесом происходит невидимое нам действие, а мы, обыкновенные люди, не можем ничего поделать. Только слушать, что скажет Левитан. Но Левитан ничего не придумывал сам, это ясно. Он читал слова, которые были обязательны для всех. Полагалось думать, как нам объясняют по радио. Впрочем, сейчас не требовалось и думать, а только трепыхаться, бояться, ждать.
В школе царило смятение. Малышей ещё учили чему-то, но у нас скорее шло непрерывное собрание.
Мы спрашивали учителей, что теперь будет, но они не знали и сами. По нескольку раз в день заходил Эсэн, повторял, что от нас сейчас требуется дисциплина и сдержанность. Вот и всё. Я подумал сначала, он чего-то боится, но быстро понял: ему нечего больше сказать.
Через пару уроков нас отпустили домой, а мы пошли бродить по городу.
Может, в первый – и единственный раз наш класс брёл по улицам родного городка не рассыпаясь, единым телом, без смеха и вышибания портфелей из рук друг друга. Двигалась по улице, обходительно уступая дорогу прохожим, серая молчаливая гурьба, настороженная и неопределённая.
Город жил и дышал, как обычно, и лишь кое-какие мелочи выдавали напряжение.
На улицах прибавилось милиционеров, правда, терпеливых и вежливых. Один заметил нам дружелюбно, чтобы мы не перекрывали весь тротуар, но мы и так не перекрывали. Скорей обычного проносились легковые «Победы». В городе было несколько памятников Сталину, один, самый маленький, стоял у Главпочтамта, и на его голове зимой всегда лежала снежная шапка, но теперь скульптура была обтёрта, снег у постамента утоптан, а у ног стояла корзина цветов.
Мы вышли на Коммуну, трассу вечного ледохода. Здесь было людно, как в выходной, все школы, похоже, растерялись, не зная, что делать в таких случаях, ведь это же ясно, что выросшим детям никакие уроки не могут лезть в голову, когда такая беда. Но народ на Коммуне не колобродил, это движение совсем не походило ни на какой ледоход, а двигался как-то осторожно, мрачно, боясь переступить неясную черту оживления и громкости.
Без всяких объяснений мы отправились вниз, к крутому речному обрыву, где стоял самый большой памятник вождю.
По дороге нам встретилась школа Вероники, и она шла вместе со всеми, но я только кивнул: не время и не место, чтобы останавливаться и говорить о чём-нибудь.
Толпы подходили к памятнику, внимательно рассматривали бронзовое изваяние, люди вздыхали, думали о чём-то своем, женщины плакали и сморкались, потом живая лента поворачивала и шла по Коммуне назад.
Вечером я пробовал писать стихи про Сталина и чего-то срифмовал, но сочинение показалось мне таким ничтожным по сравнению с громадностью горя, что я запрятал его подальше в старые тетради.
Дня два прошли в ожидании. Жизнь словно затаилась, замерла. Потом объявили, что Сталин умер, и назначили траурные дни.
Занятия отменялись, но мы все явились в школу. Это было так непривычно: коридоры спешно радиофицировали, и все, учителя и ученики, без конца слушали траурную музыку и перебивавшие её сообщения о приехавших делегациях, о возложении венков, о последнем шествии Сталина к Мавзолею, на орудийном лафете.
Эсэн стоял, повесив стриженную под нуль голову, в зале возле картины «Утро нашей Родины», где Сталин нарисован на фоне розовой зари, вглядываясь в какое-то большое поле. Картина была увита чёрными и красными лентами. Перед ней, опираясь о стулья, стоял под углом огромный траурный венок.
В какой-то момент все оделись и пешком, через весь город, опять, но уже по-новому, двинулись на Коммуну к главному памятнику.
Из улиц и переулков туда выползало много таких же, как мы, колонн, они выстраивались в медленно ползущую процессию.
Моложавые мужчины с чёрно-красными повязками на рукавах пальто деликатно управляли нашим движением, неестественно часто употребляя слово «пожалуйста». Их было так много, этих мужчин, чуть не через каждый метр!
Когда настала наша очередь, Эсэн, а вслед за ним и все мы, снял шапку и под наблюдением мужчин с повязками прислонил венок к другим венкам, потому что подножие памятника уже было заставлено такими же венками на несколько метров в толщину. Настало главное: пять минут прощания.
Мороз пополз по коже: вступая один за одним, загудели заводские гудки. Справа, слева, со всех сторон разными голосами застонали, завыли, заголосили эти гудки. Загудели автомобили, остановившиеся, где их застала эта минута.
Мы стояли смятенной толпой, десятиклассники пятьдесят третьего года, сдёрнув шапки, озирая окрест этот странный воющий мир, поглядывали на моложавых мужчин с траурными повязками, по-военному вытянувших руки по швам, на плачущих тёток в чёрных деревенских платках, на отставного полковника без погон, приложившего ладонь к виску, из глаз которого катились слёзы, на директора своего, малословного пожилого человека, в который раз за день стянувшего ушанку и глядевшего почему-то вниз, под ноги.
На небо поглядывали, низкое серое небо, нависающее над нами, на мартовское тяжёлое небо, вбирающее в себя заводские дымы, наше дыхание, вбирающее и нашу печаль.
«Что будет с нами? думал я. – И если правда завтра война?» Ведь мы же знали, сколько десятиклассников из нашей школы ушло и сразу пропало на прошлой войне.
Что нас ждёт – радость или беда?
Мы глядели в небо, куда под вой гудков, наверное, уносилась душа вождя, и не могли знать, что именно этот момент и есть конец нашего детства.
Что впереди нас ждёт измена правилам, в которых нас воспитали, и что нравы мужской школы, жестокие в общем-то, но ведь и мужественные ещё и благородные, и мудрые, будут признаны ненужными и даже вредными.
Но что же делать с нами, выросшими так, как это было велено кем-то?
Об этом никто не думал. Никто не обязан был думать.
А жизнь за стенами школы ждала нас совсем другая.
Не хуже и не лучше, чем мы ожидали. Просто другая.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Странно, больше, чем смерть вождя, меня поразила ещё одна смерть. Ещё один урок, который преподала нам мужская школа. Впрочем, девчонкам женская, а всем нам просто как бы взрослое предупреждение, невидимый взору знак.
В своих душевных смутах и пожарах я совсем потерял из виду Валентину, а увидел её в последний раз, когда мы с Кимкой шли с тренировки по Коммуне. Навстречу нам медленно двигалось некое соитие, обнявшиеся Муромец со слабым подбородком и цветущая Валентина. Пальто на Валькином животе уже не застёгивалось, и я застонал от этой сцены, а Кимка, перетаскивая меня на другую сторону, вопрошал:
Ты что, не знал? Да её же из школы исключили. Или она сама исключилась, чтобы скандала не было. Но скандал всё равно был, и их директрису перевели в другое место.
Борьку тоже исключили? – спросил я со смехом.
Борьку, оказывается, исключать было не за что, но где-то в высотах произошло заседание, и Борька с Валентиной в порядке исключения получили разрешение зарегистрироваться.
Они ходили теперь обнявшись, почти слившись, как будто нарочно никого не стыдясь и целуясь прямо посреди улицы.
А в конце мая Валентина умерла в роддоме, оставив своему юному мужу девочку с каким-то природным дефектом. «Вот видишь, говорила Кимке его мать, – к чему это приводит». Мы были на похоронах перед этим, и Кимка молчал, потрясённый. На похороны собрался чуть не весь город, по крайней мере десятые классы едва ли не из всех школ.
Валька спящей красавицей лежала в красном гробу, а пьяный и плачущий Муромец причитал и голосил, совсем как баба.
Недозрелый плод может быть горек, как бы внушала нам, вслед за Софьей Васильевной, жизнь, и если всякая теорема неинтересна своей назидательностью, то этот красный гроб и смерть знакомого человека в начале жизни были мощным, неотвратимым доказательством.
На кладбище мы с Кимкой не поехали, весь вечер проходили по улицам, обходя ледоход, потому что вовсе не подходящее для него было у нас настроение, и Кимка встряхивался время от времени от своих же собственных вопросов: «А если бы я сейчас там был вместо Борьки?.. А если бы больной ребёнок был у меня?» – Ты можешь представить это? – спрашивал я его.
– Нет… Просто трясёт…
В институте Кимка станет мастером спорта и чемпионом страны по метанию гранаты был тогда такой вид лёгкой атлетики, закончит Ленинградский военно-механический, станет спецом по артсистемам, доктором наук, многажды лауреатом, а в старом альбоме у него где-то есть карточки нашей секции. Там и Валентина, вместе со всеми…
Коля Шмаков пошёл в ракетное училище, после окончания облучился и умер, оставив двоих детей и совсем юную вдову – он был первый из нашего класса…
Герка Рыбкин вот не ожидал! – стал учителем, Саша Кутузов закончил железнодорожный в Москве и уехал на восток, Лёвка Наумкин горный в Ленинграде, надо же! работал в Воркуте на шахте, попал в аварию, отравился газом, получил инвалидность и перебрался в Крым, потому что там воздух, полезный для лёгких. Ваня Огородников пошёл на курсы киномехаников, работал в кинотеатре, а дальше следы его обрываются, Владька, мой партнер по гамбургскому фокстроту, окончив лётное училище, дослужился до полковника и вышел в отставку, Витька Дудников – известный инженер, Фридрих Штейн стал физиком-теоретиком и, когда стало можно, уехал в Германию, а мой старший друг Юра так и присох к пединституту, не в шутку, видать, взревновавшему его к ВГИКу – он теперь профессор.
Вот только про моего ангела-гонителя Рыжего Пса Женюру я ничего не знаю, а жаль. Встретившись, обнялись бы как старые друзья, и я, пожалуй, спросил бы его, наверное:
– За что ты так преследовал меня? И он бы, пожалуй, ответил:
– Да просто так! Чтобы ты крепче был! Ну а что же моя любовь, мои страдания?
Она старательно раздувала угольки прогоревшего хвороста. Узнав, что в отличие от всех остальных я еду не в Москву и не в Ленинград, а на Восток, будто невеста декабриста, решила ехать за мной и поступать в том же городе. Впрочем, закончила она с серебряной медалью, потому ей надо было не поступать, а зачисляться. И подругу свою, парламентёра Лёлю, увлекла, та вообще с золотой закончила, жертвовала для подруги собой.
Я ездил к ней на свидания из университета на другой край города, и эти поездки были всё реже. Она писала письма, я отвечал, и это казалось смешным переписываться, живя в одном городе.
Хворост давно сгорел, и его остывшие угли давно покрылись холодным пеплом.
В Политехе, где училась на химфаке Вероника, было полно парней и мало девушек, а в университете как раз наоборот. Нашу братию окружали филологини, биологини и даже геологини – почти все богини!
Нас называли «журналистами», хотя до этого было ох, как далеко, но щедрый аванс льстил, даруя известные льготы не только на соседних факультетах, но и в соседних, женских, в сущности, институтах вроде меда, педа, иняза и даже далёкой по расстоянию, но близкой по сущности консерватории. Но это уже другой сюжет…
А Вероника курсе на третьем вышла замуж и правильно сделала: я растворился в другом мире, и на меня надежды не было, это точно.
Вот, пожалуй, и всё.
Нет, простите!
Зимой в студенческие каникулы я рванул домой, прискакал, конечно, в родную школу, и первый, на кого налетел, был Иван Петрович! Бегемот! Всё такой же басоголосый, он обнял меня и прижал к себе, как сына.
– Выпустили? – выдохнул я ему в ухо.
– Слава Богу, – ответил он, совершенно не атеистически. А ты? Ну, не отвечай, и так вижу.
И через паузу спросил: – А неплоха всё же мужская школа?
Неплоха, Иван Петрович, Эсэн, дорогая классная! Как это ей удалось: быть жестокой, но не стать злой…









