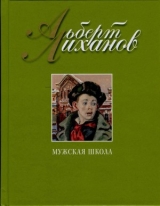
Текст книги "Мужская школа"
Автор книги: Альберт Лиханов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
7
Вот уже и жизнь почти прожита, а я всё не знаю ответа своему отроческому удивлению. Увы, несмотря на свои тогдашние невеликие года, душонка моя немало иссохла и исстрадалась от безрадостного опыта детского одиночества посреди толпы, духовной жажды в океане людской опытности, безнадёжного бессилия в мире бескрайней власти.
Природная чистота всегда ищет причину, но жестокость и сама себя объяснить не может. Свалянная в жестокий бездушный катыш из зависти и непонимания, предрассудков и чужих мнений, из бессердечия и безжалостности, жестокость творит странные чудеса, ломая не только а порой, и не столько тех, против кого обращена, но и пуще всего тех, от кого исходит, и ещё не выяснено до конца, кому она приносит больший урон. Ведь пережить даже самое жестокое – во власти человека, но жестокость совершенная по умыслу или наитию обязательно отольётся тому, кто её творит. Не сейчас, так через годы, не ему, так его потомкам…
Впрочем, это понимание в одном случае не годится: когда жестоки дети. Не может же быть, что лишь от неопытности и слабости ума ребятня да ведь не все же кряду! пуляет камнями в кошку или, собравшись безрадостной толпой, смеётся, кричит, лупит слабого, такого же, как они, травит беззащитную, немощную старуху, не стыдясь ничьих чужих глаз, гонит беспомощного инвалида. Неужто же это просто взрослый глум, который те стараются прикрыть фразами и масками, мутный, не растворимый жизнью чужой осадок бродит в детях? Не создавшие собственного, но поразительно чуткие к чужой, взрослой недосказанности, безмерно способные к тому, чтобы впитать тень, не рас творимую светом, дети и правда часто оказываются талантливыми подражателями. Непонятным образом они выражают поступком то, что лишь подразумевают взрослые, а словом то, о чём те только предполагают подумать.
И всё же это не оправдание.
Если есть врождённая доброта – а с этим спорить никто не станет, то, к сожалению, надо признать, что рядом с ней существует и врождённая жестокость. Причём, да, именно так: рядом. Чаще всего людей с абсолютными качествами не бывает. Нет абсолютно добрых людей точнее, они есть, но им страшно трудно жить, и, может быть, нет абсолютно жестоких людей, а с этим жить гораздо легче, хотя чаще всего такие люди скрывают свою особенность.
Так что врождённая доброта и врождённая жестокость помещаются в сосуд одной души одновременно, а уж потом только, под влиянием образа жизни и окружения, в меру сил своих поочередно проглядывает, становится главной то доброта, а то жестокость. Всё дело в том, что доброта жалеет, а потому очень часто тиха и даже безгласна, а жестокость всегда агрессивна, приносит боль, страдание, страх и как бы помогает утверждению такой силы. В этом – власть жестокости.
Время нужно, чтобы окружающие оценили доброту, но всего лишь мгновения, чтобы оценили жестокость.
Вот в чём истинная причина детской жестокости.
И много сил требуется, чтобы доброта одолела зло посреди одной и той же души.
Как посреди пустыни нужно много влаги, чтобы несколько листочков, одолев сушь, разрослись в живительный оазис.
8
Впрочем, жестокость многолика и естественна, ибо заложена в людскую природу, и всякий раз требуется пройти ещё некоторый путь, чтобы понять это и освободиться, потому что такое освобождение есть невидимая взору, но трудная работа души.
Детские прогулки по магазинам военных и первых послевоенных лет, так напоминавшие экскурсии, с годами не исчезли, не отменились просто менялся характер любопытства да и география прогулок, потому что магазинов становилось всё больше, как и товаров, продаваемых в них.
Одним из самых замечательных оказался охотничий магазин. Карточки уже давно отменили, но в этом свободно продавались только рыболовные снасти да всяческая чепуха, а вот самое любопытное – порох, дробь или готовые патроны и, уж конечно, ружья – только по охотничьим билетам, получить который можно было только после шестнадцати лет.
Новое сближение моё с отцом произошло именно благодаря ружью.
Вообще холодок и отчуждение между нами тяготили обоих, и хотя порядочно времени пробежало с тех пор, близости не получалось. Мы, конечно, говорили о том о сём, но разговоры эти носили, если можно так выразиться, бытовой характер: тебя спрашивают, ты отвечаешь, ты спрашиваешь, тебе отвечают. Свою коварную роль, не задумываясь о том, играл, конечно, брательник родители хлопотали вокруг него, вращались, как планеты возле светила, а я, как комета, вырвавшаяся из сферы их притяжения, носился хоть поблизости, но всё же вполне вдали, и, похоже, отдного меня теперь зависело, приблизиться к дому ли окончательно отлететь от него.
И всё же я родителей, конечно, беспокоил, они роде чувствовали некоторую неполноценность своих отношений со мной, видели, как я отдаляюсь, занятый своими делами, поэтому, когда я спросил отца ро его двустволку, он даже, как мне показалось, обрадовался, не споря, открыл платяной шкаф и достал з-за бельишка чехол с разобранным ружьём. Мы вышли на верандочку, батя вытащил содержимое и стал, не торопясь, обучать меня, как соединить стволы с прикладом, а потом прищёлкнуть к им ложе, объяснил про калибр, номера дроби и пороха. С его помощью я зарядил от самого начала, то есть от капсюля, латунный патрон взвешивал научных весиках пороховой заряд, загонял и уплотнял пыжи, словом, прошёл срочный ликбез молодого охотника. Странное дело, я обнаружил в отце много неизвестных достоинств. Почему-то мы с ним никогда не говорили раньше об этом а ведь он знал немало такого, о чём я и представления не имел. Да и я оказался вдруг учеником, который любую деталь схватывает на лету: наверное, это первый признак, что предмет, о котором идёт речь, не просто нужен, а очень любопытен.
Где бы я узнал, что даже по уткам надо стрелять разной дробью: та, что возьмет чирка, слаба для кряквы, а на гуся так вообще надо ходить с картечью. Или что порох бывает дымный и бездымный. А ружья курковые, как у отца, и бескурковые: там не курок взводить надо, а снимать ружьё с предохранителя, потому что взводится такое ружьё как бы автоматически, когда его заряжают. А что ружья бывают разнокалиберными? Один ствол, скажем, двенадцатого побольше – калибра, а другой – шестнадцатого, на разную дичь. Что ружья даже трехствольными бывают их, правда, за границей делают, один, верхний ствол, как у тозовки, для мелкокалиберной пули с нарезным стволом, а два других гладкоствольные?
– Целая премудрость! – удивлялся я.
А отец отвечал очень серьёзно:
Ружьё – это пустяк! Главное же на охоте – со бака. Вот где наука: как её натаскать на разную дичь, как приучить к стойке, какая порода что умеет.
В старинной жестяной коробке из-под пороха, где были нарисованы камыши, собака и охотник, отец сыскал довоенный ещё охотничий билет, обдул его от пыли и обещал мне в ближайшие же дни посетить охотничье общество и уплатить взносы – за прошлое и будущее, чтобы, как только объявят осенний сезон, отправиться со мной на охоту. То ли и сам он разбудил какие-то дорогие себе воспоминания, то ли мой покорный интерес укрепил в нем отцовское желание научить сына мужскому делу, но взносы он уплатил на следующий же день, а с получки мы отправились с ним в охотничий магазин, чтобы закупить пыжей, пороху, дроби, капсюлей старые запасы кончились – и даже пяток жаканов – пуль для медведя, мало ли, вдруг произойдёт неожиданная встреча? Ещё прикупил пару коробок готовых патронов, они сделаны из картона только заряжай.
За несколько вечеров мы снарядили полсотни зарядов, наполнили весь патронташ, да ещё припас получался. Отец говорил мне с каким-то таким особым удовольствием, что и патронташ, и ягдташ – сумка для дичи, и все эти инструменты для зарядки патронов, и даже самое ружьё вместе с чехлом не его, а моего дедушки, значит, отца моего отца, который был заядлый охотник и, бывало, приносил целый ворох уток, всего и удалившись-то от города на ка кой-нибудь километр.
Переправимся мы с ним, бывало, через реку, – с восторгом рассказывал отец, – он оглядится, пройдёт вдоль просеки туда-сюда, выберет место каким-то чутьём, начнёт смеркаться, и он бах-бах полный ягдташ вальдшнепов набьёт! Собаки поднимать не успевают.
Оказывается, у деда в разное время бывало до четырех охотничьих собак и никогда не меньше двух.
– Где же они жили? – смеялся я.
В сенцах, отвечал отец. Или прямо дома, возле порога, это когда зима, ну а летом им крыша не нужна.
– А ты как же стрелял? – спрашивал я.
А никак! Я же мальчишка был. Смотрел на отца. Вместе с собаками дичь собирал. Уж потом научился.
– Значит, можно на охоту ходить без ружья? смеялся я.
Так вот ты и пойдёшь! – отвечал отец.
– А пальнуть дашь?
Ну, это как ты себя вести станешь, – дразнился отец. И потом, палят только пьяные да дураки. Охотники стреляют.
Но до охотничьего сезона была целая вечность – он объявлялся специально, по радио и в газетах, на последнюю субботу августа или первую сентября, это решало опытное охотничье начальство, которое, по словам отца, вообще могло запретить всякую охоту, если, например, уродилось мало уток или была бескормица, или какие-нибудь специальные утиные болезни подорвали здоровье птичьих выводков. Охотничье начальство представлялось мне собранием умных усатых стариков в болотных сапогах, вроде тех, что нарисованы на картине Перова, а эти картины, как известно, висят в каждой пивной, – так что старики долго о чём-то спорят, может быть, даже выпивая и закусывая при этом, но, конечно же, не пьянея и не теряя здравого разума, и пусть бы себе обсуждали, но уж что-то слишком всё-таки долго. Целое лето ждать!
И тут отец мне сделал подарок – я, конечно, и вообразить такого не мог. У себя в мастерской он выточил толстенную гильзу. Стенки, наверное, почти в сантиметр, снизу, как положено, гнездо для капсюля и тонюсенькое, внутри патрона, отверстие, куда порох насыпать. Сверху загоняешь одну дробину всего одну! И можно стрелять!
Конечно, просто забава, растолковывал мне отец, точно попасть невозможно, потому что если полный заряд направляет ствол, то здесь ведь выходит, если честно сказать, ствол внутри ствола. Полёт маленькой дробинки зависит всего от нескольких крупинок пороха, а направляет её только этот пороховой заряд – ствола же для неё нет.
Он сам снарядил первый патрон, велел мне повесить метрах в десяти старую тетрадку, я послушно исполнил приказ, раздался щелчок, и тетрадку пробило.
Давай, упражняйся, сказал отец, испытывая явное удовольствие от своего презента. Вообще это очень важно, имей в виду. Примериться к прикладу, к ложу, к весу ружья. Вообще приноровиться.
Так что последний летний месяц после восьмого я нет-нет да и упражнялся в стрельбе возле дома, немало измочалив старых тетрадок.
9
О, разве можно забыть эти радостные сборы на первую в жизни охоту! Воображение, не отягчённое опытом, рисует картины одну живописнее другой. Вот яркий осенний лес, мы идём с отцом по тропинке, и вдруг перед нами взлетает тетерев – отец, конечно, стреляет, но надо же! – не попадает и тогда передаёт ружьё Мне: ну-ка, попробуй, может, тебе повезёт. Я с бьющимся сердцем прицеливаюсь и – баб-а-ах!
Ну и в таком же роде всякая мальчишеская чепуха, героические сцены вопреки всем, уже известным мне правилам, – хотя бы о том, что сезон на водоплавающую дичь начинается раньше, чем на боровую, а тетерев – это боровая и редкая птица, её не так-то легко и встретить, и уж тем более в пяти километрах всего от города, на озере Круглом, куда мы и отправляемся с отцом, прихватив у соседа, с его, конечно, разрешения, лайку, выросшую в городской конуре и к тому же на цепи.
Тобик нам с отцом знаком, так же, как и мы ему, взятый на поводок, он радостно крутит хвостом калачиком, острит уши, возбуждённо взлаивает, но стоит нам отойти подальше от палестин, ему знакомых, начинает взволнованно оборачиваться и даже тормозить, поскуливая и норовя, ероша шерсть, выбраться из ошейника.
Но уверенные мужские поощрения всё же достигают цели, Тобик подчиняется приказам отца, а перейдя мост и ощутив запахи вольной природы со сладким привкусом птиц, ежей, а может, даже и зайцев, он начинает рваться с поводка, и отец дарит ему свободу. Похоже, мы с Тобиком были одной крови ему, как и мне, новые запахи ударили в голову, одарив головокружительными надеждами на успех, только в отличие от меня он не был в состоянии унять свою энергию и стал мотаться по траве, кустам, лесу, то приложив свой кожаный нос к неведомым следам, то подставляя его ветру и мчась навстречу влекущим запахам, как к новому и прекрасному миру.
По знакомой дороге мы прошли сквозь весь заречный парк, где зимой пролегали мои лыжные трассы, миновали заливные луга, в траве которых то и дело похрустывали речные раковинки, прошли возле избы бакенщика и углубились в дубраву.
Ах, эта дубрава возле озера, где мы с отцом и Тобиком провели несколько часов перед первой вечерней тягой! Жива ли она теперь? Или исчезла, выроилась, пропала, изведенная городскими дымами, людской близостью или простой ненужностью, нерадостью при виде могущественной прохлады, непочтением густоты её непричесанных крон, нелюбовью к благоухающим травам и всякой мелкой живности, шевелящейся возле корней, которые, как узловатые руки, крепко ухватились, выступая над почвой, за влажноватую и мягкую землю…
Мы устроились у подножия дуба, одного из многих, похоже, ровесников друг другу, и я принялся собирать жёлуди, а отец раскладывать нехитрую нашу снедь.
Время от времени я приближался к нему, не уставая спрашивать – ну, когда, не пора ли уже выйти, выбрать место, но отец поглядывал на солнце, говорил, что мы у цели, однако подходить слишком близко не следует, а не то ещё распугаем птицу, и вся охота пойдёт насмарку.
Мы перекусили, аккуратно собрали под деревом своё имущество, и отец велел мне собрать сухих веток – для ночного костра. Тобик, намотавшийся по дороге, лежал пластом, совершенно не реагируя на возможную дичь, притаившуюся в прибрежных зарослях, и это радовало отца. Он боялся, что наш неопытный пёс распугает уток.
Потом он сходил на разведку. Я ждал его с трепещущим сердцем. Отец казался мне опытным добытчиком ведь я же ещё дома убедился в этом. Разве могло быть как-то иначе теперь, когда мы в двух шагах от заветной цели. Через четверть часа он вернулся, обрадовав, что выбрал отличное место.
Стало смеркаться. Подхватив пожитки и условившись соблюдать тишину, мы выдвинулись на позицию. Это было действительно отличное место для утиной тяги: заросшая кустарником коса, вытянутая почти до середины озера. Противоположный берег был от неё буквально в нескольких метрах. Иначе говоря, наша позиция оказалась как бы на перекрёстке, и откуда бы ни летели утки, они обязательно должны пройти прямо над нами. Только стреляй!
Я притаился по примеру отца. Тобик нервно поводил ноздрями, вертел головой и хвостом, тоже, видать, чувствовал приближение важного часа.
Было тихо, солнце, задержавшись на горизонте, наполовину ушло в землю, став на минуту малиновым. Озёрная вода превратилась в красное стекло. Только комариный звон разрушал идиллию. То отец, то я хлопали себя по щекам.
Наконец где-то вдали будто дёрнули ёлочную хлопушку.
Началось, шепнул отец. Смотри справа, а я слева. – И хотя мы разделили небо пополам для тщательности наблюдения, и он, и я вертели головами во все стороны.
Я прозевал первую стайку. Я понял, что утки летят по отцу, по его фигуре. Он вдруг пригнулся и поднял ружьё к небу. Я вгляделся в сторону, куда указывал отцовский ствол, и заметил две мушки, летевшие высоко над нами. Послышался слабый свист крыльев, и утки исчезли.
Чего же ты! прошептал я рассерженно.
– Слишком высоко, – спокойно и громко проговорил отец.
Мы замолчали. Вот забавно, я даже не знал, на каком расстоянии до цели можно стрелять.
Метров тридцать сорок, ответил отец на мой вопрос.
– А тут сколько было?
– Все сто.
Я стоял в кустах у отца за спиной, он говорил со мной, не оборачиваясь, не очень-то довольный этими разговорами, когда нужно молчать, соблюдать охотничью осторожность, и странное, доселе незнакомое ещё чувство вдруг окатило меня с макушки до пят. Невесть откуда взялась и сжала горло совсем неподходящая тут, посреди озера, в зарослях, под комариный зуд, нежность к этому человеку, пригнувшемуся в десяти шагах от меня, – нежность и горячее желание ему удачи, вот сейчас, в этот миг, на этой зорьке и всегда-всегда, пока он есть.
Теперь я, пожалуй, понимаю, что это было ещё и Желание удачи самому себе, мне хотелось, чтобы мы вернулись победителями домой, но от себя я ничего не мог ждать и потому переносил на отца мою жажду успеха, с ним соединяя надежды, которые, таким образом, получались общими.
И всё же это недостаточное объяснение, потому что ведь кроме скрытого хотения удачи самому себе в моём чувстве таились любовь и преклонение перед старшим, взрослым, родным, отчётливое и страстно-покорное желание быть за отцом, за его спиной и его умением, которое покоряет и без всяких к тому разъяснений расставляет нас по своим местам – его впереди, меня сзади.
Потом, когда он, уже глубоким стариком, навсегда уйдёт от меня, я, взрослый и седой, почти физически ощущу утрату этого чувства защищённости, обнажённость перед жизнью, которую испытывал, конечно, уже давно, но теперь с особой остротой и осознал, и испытал. Пока отец был жив, он как бы стоял передо мной, а теперь между мной и бесконечным ничем нет никого…
10
Самое главное я так и прозевал. Вода слилась с берегами, я таращился на притухшее небо и пара-другая прошли ещё над нами на такой высоте, что отец даже не вскидывал ружьё, но потом он резко шевельнулся, целясь чуть выше камышей, бабахнул оглушающий выстрел, ружьё выплюнуло пороховой дым, еще один, что-то плюхнулось в воду, а прямо надо мной, со свистом мелькнула большая тень.
Есть, сказал отец, выпрямляясь и откладывая ружьё. – Видишь?
Мне пришлось приблизиться, и я увидел метрах в пятнадцати от берега чернеющее пятно. Едва заметно оно удалялось от нас.
Тобик! позвал отец. Ну-ка, в воду. Фас-фас!
Тобик продрался сквозь заросли к самой воде, но плыть за добычей не желал, поскуливая, поворачивая голову к нам, и, похоже, не понимал, чего от него желают.
Отец поднял какую-то палку и швырнул её в сторону утки. Она плюхнулась, обратив внимание Тобика, он навострил уши, повилял хвостом, но с места не тронулся.
– Вот, чёрт, сказал отец, – унесёт ведь. Мгновение он вглядывался в темень и вдруг решительно стал раздеваться.
– Ты чего? – удивился я. Надо плыть, – ответил он, – жалко, пропадёт.
Все купальные сезоны давно кончились, к тому же лезть в воду ночью, да в незнакомом месте… Но я и не попробовал отговорить его. Мне ещё посильней отца хотелось, чтобы он достал утку.
Отец ступил с камышей и сразу же ушёл по горло ясное дело, глубоко, поплыл сажёнками. Во Мраке почти ничего уже не было видно лишь по плеску я определял, далеко ли он. И тут в воду бросился Тобик. Он стоял на берегу, крутил хвостом, тревожно поскуливал и вдруг поплыл.
Пап, крикнул я, предупреждая, к тебе помощник плывет.
Хэ, ответил отец негромко, но голос его ясно прозвучал над водой. Надо было раньше.
Потом послышался плеск – отца и Тобика, и отец воскликнул:
– Ты чё!
Барахтанье стало шумным и беспорядочным, он снова удивлённо воскликнул:
– Ну, дурик, ты чё!
До меня донеслась какая-то возня, тяжёлый всплеск, собачий визг и отцовский, уже напуганный, голос:
– Пошёл! Ну, пошёл!
Наконец из темноты выплыл, отплёвываясь, отец. Он выбросил на берег утку, а сам, тяжело дыша, мгновение отдыхал в воде.
– Дай руку, попросил он меня и, когда выбрался на сушу, зачертыхался.
Тобик-то, представляешь, мне на шею стал влезать! Чуть не утопил!
Всё это событие заняло не больше десяти, от силы – пятнадцать минут, и я поначалу не очень-то понял, что мимо меня пронеслась опасность. Отец, раздевшись, выжимал трусы, я подавал ему запасную рубаху, хорошо, что мама позаботилась, молодчина, откуда она и предположить такое могла? – он натянул её прямо на мокрое тело, потом мы почти бегом перешли в дубраву и, едва найдя в темноте ещё засветло приготовленную кучу хвороста, зажгли огонь. Отец дрожал, я накидывал на его плечи пиджак, мы оба смеялись над Тобиком, который, похоже, стыдился и отводил глаза, потом отец нащупал в вещевом зелёном мешке флягу, хватанул её содержимое и, прислонясь к дереву, стал кемарить.
Надо же, только теперь до меня дошло ведь Тобик мог утопить отца. Посмеиваясь, отец несколько раз повторил эту фразу, и я, слыша её, думал, что он шутит. Но какие шутки, если отец сказал, что только и избавился от Тобика, нырнув несколько раз. А то целый пуд на шее, да ещё и когтями царапается. На плечах у отца и действительно были красные полосы, а одна, вполне глубокая, кровоточила. И он посмеивался ещё даже не очень зло.
Я вглядывался в слепящие языки огня и с ужасом представлял: а что, если бы отец утонул, если бы Тобик, дурак этакий, его, не дай бог, утопил? Что бы стало со мной? Что бы я стал делать? Кричать? Ночью? На озере, где, похоже, если кто и есть, то километрах в трех, может, а важны мгновения, секунды нет, нет, картины были ужасны, я моргал глазами, пытаясь отогнать страшные мысли, пока меня не сморило.
Розовый утренний туман смыл мои страхи. Отец улыбался мне приветливо, говорил великодушно:
А теперь заряди ружьё и пройдись по берегу, недалеко, по-моему, за теми кустами, он указал, где именно, – селезень подавал голос.
С бьющимся сердцем, взведя курки, я на цыпочках двинулся по росистой траве. Вот он, пробил мой час!
В камышах, пугая меня, возились какие-то шумные птички, несколько раз я вскидывал ружьё и мысленно чертыхался, не уставая в тот же самый миг любоваться миром и серыми этими точками, и травой, переливавшейся разноцветными брызгами, и высоким, по-летнему ясным небом.
И тут, почти из-под моих ног, шумно хлопая крыльями, взлетела утка. Сердце оторвалось и упало куда-то в живот, холодеющими руками я вскинул ружьё и, не целясь, нажал сперва на один, потом на другой спусковой крючок. Ствол сплясал перед моим носом, выплюнул дым, меня дважды больно ударило в плечо, понимая, что не попал, испуганный неожиданным шумом крыльев, я не успел перевести дыхание, как с того же самого места поднялась вторая утка. Моё ружьё было пусто, и я с досадой глядел, как она, будто смеясь надо мной, уходит по прямой. Удивительно долго хлопала она крыльями передо мной, наверное, раз пять можно было жахнуть, и я, сперва ругнув себя, потом вдруг странно порадовался, что у меня ничего не вышло, ведь я бы убил её, непременно убил, слишком беззащитно и долго взмывала она в воздух, натужно и как-то неуверенно отрывалась от воды, и только моя неопытность спасла её от смерти.
Улыбаясь, задрав кепку на самую макушку, подходил отец.
Ничего, ничего, утешал он меня, в душе всё же досадуя, наверное: ведь он тоже желал мне удачи.








