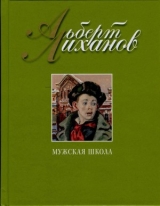
Текст книги "Мужская школа"
Автор книги: Альберт Лиханов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
9
Одним словом, рассказал я про косалку маме, она, ничего мне не сказав, побежала к Зое Петровне, а та устроила разбирательство.
О боже! В чем разбираться, если подрались двое? Искать третьего? Может ли быть занятие более бессмысленное?
Она оставила нас после уроков и принялась оглядывать всех по очереди. Глазки у Зои Петровны серые, маленькие, на скуластом круглом лице никакого выражения, хоть она и желала бы выглядеть строгой. Тонкие губки поджаты, бесцветные серые волосы расчёсаны на пробор и забраны сзади в жидкий пучок. Серая кофточка, серая юбка, серые чулки и чёрные туфли. Ничем не отличимая от нас по цвету серая училка, исполняющая свои, ей ведомые, правила.
– Говорят, у вас вчера была драка.
– Кто говорит? – спросил у меня за спиной Рыжий Пёс.
И тут на меня небо рухнуло. Умная учительница на такой вопрос могла что-нибудь уклончивое сказать. Например, мол, вся школа говорит. А она возьми да и брякни:
– Один ваш товарищ говорит! Ваш избитый одноклассник!
Ого!
Зоя Петровна ещё продолжала оглядывать класс поодиночке, но теперь это ей совсем не удавалось, потому что всё сдвинулось и зашевелилось, и ей некого стало пристально рассматривать.
Хочу уточнить – я ведь не знал, что мама моя с ней говорила. Я подумал, это Рыбкин проговорился. Да тут выбор невелик, если один – подчеркнём это слово из выступления Зои Петровны, и к тому же ваш избитый одноклассник. Или он, или я.
Нет, не мог я подумать про маму, про эту её непрошеную помощь, а Герка на меня уставился и глаза свои прищурил:
– Сука, – шептал он, – ну, сука!
Что? – возмутился я совершенно искренне и хрястнул Герку по голове хрестоматией. В ответ он вцепился мне в плечо, ещё немного, и всё повторилось бы, как вчера, с очередной косалкой где-нибудь на улице, но учительница нас всё-таки разняла.
– О! – сказала она, глядя на меня. – Оказывается, ты не такой уж и беззащитный.
Класс заржал. По всему выходило, это я жаловался ведь училка сама призналась. И что бы я сейчас ни говорил, как бы ни защищался всё, одной её фразой я был приговорён в предатели! В доносители! В суки!
Расплата наступила мгновенно. Едва она отвернулась, я получил щелбан по затылку. Глупо всё вышло. Получилось, что я сам на себя настучал. И сам же ещё признал, что косалку выиграл мой сосед, что он меня избил и что я признаю своё избиение. Вот дурак!
Винить мне было некого, и хоть после уроков я рванулся к маме в госпиталь, чтобы узнать полную правду, как я мог ругать её за разговор с учительницей? Самому надо молчать!
Я шёл домой, глотая собственные слёзы, а в ушах стоял свист. Они свистели мне весь класс! – когда я выбегал из него. А эта бестолковая училка лишь разевала молча рот. Её беспомощные слова тонули в мальчишеском свисте, да и вообще, что она после всего этого стоила?
Я выскочил из класса, как из огня.
10
Следующее, что мне выпало, была «тёмная».
Дня два или три со мной никто не разговаривал. Кроме, конечно, учителей. Они, как и других, вызывали меня к доске, что-то спрашивали, я отвечал очень плохо, иногда совсем невпопад, и дневник мой украсили жирные двойки. Класс на мои ответы у доски ровно никак не реагировал, но это, я думаю, потому, что вообще все отвечали плохо и классный журнал был весь в парах. Тут я ни от кого и ничем не отличался. И слава богу! Не дай бог, если бы я ещё при этом хватал пятёрки. Совсем бы конец.
Словом, мне объявили бойкот. Собственно говоря, он не казался ведь странным: я только что пришёл в эту школу, ещё никого не знаю, и никто в классе не знает меня мало ли что учимся под одной крышей. Какие могут быть разговоры!
Но пацаны меня не замечали подчёркнуто. Прежде всего, конечно, Рыбкин. Он даже, кажется, в мою сторону ни разу не посмотрел. Шушукался на уроках с соседями сзади, спереди, сбоку, а меня будто нет. Ясное дело, я тоже молчал, ведь Рыбкин – мой враг. Рыжий Пёс Женюра Щепкин не замечал меня с особенным иезуитством. Иногда, обернувшись, я смотрел на него, а он демонстративно поворачивался ко мне спиной или, ещё хуже, смотрел прямо в меня, но как будто насквозь, словно я стеклянный, и обращался к человеку, который был за спиной. Представьте: двое разговаривают сквозь тебя.
Другие пацаны тоже – едва я смотрел в их сторону, старались немедленно отвернуться. Это я точно говорю: нет ничего унизительнее заглядывать в глаза посторонним людям. Ведь ты же не просишь снисхождения – ты вообще ничего не просишь и ни о чём не говоришь, а просто смотришь и то отворачиваются, так им, видите ли, противно!
Ненавидел ли я их? Пожалуй, на ненависть у меня недоставало сил. Все они ушли на самоспасение. Вся моя жизнь теперь состояла из уговоров самого себя. Мысленно, конечно же, я говорил себе:
Ну ничего, в конце концов, ведь можно уйти в другую школу.
Но странное дело, к старым дружкам меня не тянуло, я ведь знал, где они живут, и запросто мог бы сходить к Витьке Борецкому или к Вовке. Впрочем, слова «не тянуло» – вовсе не точны. Если уж быть до конца честным, я не решался к ним идти. Ведь они спросят, как дела в новой школе, а я что отвечу? И врать, и рассказывать правду одинаково противно.
Тогда я говорил себе:
– Ничего, они ещё пожалеют!
Я рисовал в воображении себя боксёром, с мускулами, налитыми сталью, и вот я встречаюсь где-нибудь с Рыжим Псом хотя бы…
Впрочем, Щепкин ведь отнесся ко мне после косалки вполне сносно, и он не виноват, что так получилось дальше. Словом, я злости против Женюры наскрести не мог, надо было злиться на весь класс, а это так сложно – на целый класс…
– Ничего, всё уладится! успокаивал я себя. Только бы помог какой-нибудь счастливый случай.
– Ничего, всё образуется!
– Пройдёт время, все повзрослеют, и им станет стыдно!
– Какой такой грех я совершил – они же в конце концов разберутся.
Так или примерно так говорил я сам себе, но был совершенно одинок, а одиночество абсолютно противопоказано людям в пятом классе. Наверное, я сломался, и это стало видно. Мама удивлялась, что я плохо ем, ругала меня за двойки, а я совершенно не спорил, не защищался, не объяснял – словом, так не ведут себя люди. Она, конечно, тоже переживала. Ведь и взрослые люди привыкают к учителям своих сыновей. Вот и мама привыкла к Анне Николаевне, сразу бросилась к Зое Петровне, а та чего-то не додула, чего-то принялась выяснять, да ещё так глупо.

Я не раз замечал, что мама исподтишка наблюдает за мной. И вздыхает. Наконец она предложила перейти в другую школу.
Я помотал головой. Нет, я уже принял решение вынести всё и всё-таки победить. Знал бы я…
Обжегшись на молоке, мама дула на воду, даже поговорила со мной об этом без отца. И правильно! Я уже научился не говорить родителям всего, если из этих откровений ничего доброго не получается.
А назавтра в классе меня избили.
Я был дежурным. Во время перемен всем полагается выходить из класса, и другие дежурные орут во всё горло, наводя порядок. Орать мне было бесполезно, я просто намочил тряпку в туалете, положил её к доске, протерев как следует перед этим, и стал у окна. Кто-то там прыгал и бесился у меня за спиной, кричал, но это уж как водится, и я не обратил никакого внимания на обычные классные звуки, стоял себе спокойно – никто меня теперь на трогал.
И вдруг я будто ослеп. Я даже ничего не понял поначалу, а в следующую секунду попробовал сорвать что-то чёрное, накинутое мне на голову. Ничего не получилось. Меня били.
Нет, не по-детски били, а всерьёз. Лупили ботинками в поддых – и я сразу согнулся. Били кулаками по голове, стараясь побольнее заехать в лицо, попадали по ушам, и звон стоял страшный.
Я слышал топот многих ног, пыхтенье, но ни одного слова – ведь нападающих можно определить по голосу. Этот топот был похож на дьявольский перепляс – в его беспорядочности слышалась своя безумная мелодия, торопливый перестук, паузы, означающие подскок и удар, обгоняющие, достигающие друг друга, отступающие и вновь повторяемые.
Я пытался прикрыть руками лицо, и множество ударов пришлось по пальцам. Кто-то толкнул меня, я шарахнулся, ничего не видя, и, похоже, оказался в центре крута. Удары участились вначале нападавшие били по очереди, а теперь все сразу. Это было ужасно, но я почему-то терпеливо молчал. Меня лупили по животу, спине, голове, изредка доставалось и ногам но всё-таки изредка. Я чувствовал ещё немного, и рухну. Но я бы не упал, если бы кто-то не толкнул меня, а кто-то другой не поставил подножки.
Я свалился, и тут же чей-то голос завопил:
– Атас!
Потом послышались взрослые шаги, и мужской голос гаркнул:
– Всем на место!
Я барахтался на полу, стараясь стянуть с себя тряпку. Это оказалась не тряпка, а чёрный халат, какие носят школьные нянечки. Ещё на полу я понял, что бедный мой нос всё-таки разбит – из него капала кровь. Страшно болели руки. Ладони с тыльной стороны были в ссадинах. Болела спина, плечи, живот – всё болело во мне и на мне, кроме, разве, ног.
Сквозь какую-то пелену я увидел директора, он смотрел не на меня, а на класс, в ту же секунду ворвалась наша классная, подбежала ко мне и стала гладить по плечам. Но от этих её нежностей мне стало больно, я вырвался и вышел в коридор.
Странно, я не бежал, а шёл. Перемена ещё не кончилась, в коридоре и на лестнице было полно народу, и все расступались передо мной, как перед прокажённым или героем.
Сначала я хотел пойти в туалет и там помыться. Зоя Петровна, которая двигалась за мной неотступно, повторяла, чтобы я зашёл именно туда или, наконец, в учительскую. А я хмыкнул: ещё этого не хватало.
Затем я спустился вниз и вышел на улицу. Всё так же уверенно и непреклонно я пересёк дорогу и скрылся за углом.
Учительница осталась в школе, а я теперь принадлежал только себе. И только тут я побежал.
Рядом с нашим оврагом был ещё один, там, прилепившись к склону, стояла избушка с длинными деревянными лотками, где женщины полощут белье.
Сколько раз я был здесь с мамой, сколько часов просидел на лавке с книжкой в руках или просто так, глядя, как женщины хлещутся в лотках, по которым мчится прозрачная, почти невидимая глазу струя.
Наверху, на косогоре, чуть выше конька, бьют два сильных родника. Они окантованы деревянным заборчиком, а от этой малой запруды деревянные желоба направляют воду в избушку.
Я пробовал, конечно, эту воду, ледяную даже в самую жару, знал её спасительные свойства, и теперь ноги сами несли меня к роднику.
Я упал на деревянный бортик, набрал побольше воздуха в грудь и окунул голову, пока не заломило в висках. Холод заморозил боль, и тогда я опустил в воду руки.
Потом разделся, стащил свой китель, рубашку, майку, оглядел ссадины на плечах и животе, смочил их водой.
И тут я задрожал. Зуб на зуб не попадал. Что-то такое со мной случилось. Слёз не было, боли не было только эта неостановимая дрожь. Похоже, вот так выходили из меня боль и обида.
Я подхватил рубашку, майку, китель и, волоча их по земле, двинулся в сторону дома.
11
Вечером к нам домой пришла классная, принесла мой портфель ведь я его в школе оставил; и долго о чём-то говорила на кухне с мамой и отцом. Но я ничего не слышал. Я лежал под одеялом, и меня трясло, хотя я выпил не одну чашку чая с малиной.
В общем, я схватил воспаление лёгких с осложнением на среднее ухо, и больше месяца провалялся дома. Меня хотели положить в больницу, но мама уговорила врачей, взяла неделю без содержания и поначалу, пока я хрипел и кашлял, сидела со мной, отпаивая чаями и микстурами.
Потом, когда полегчало, я остался один.
Лежать целыми днями, поверьте, нелёгкое занятие. Да ещё если дома ни души, а на улице льёт затяжной осенний дождь. Поначалу, конечно, я спал целые дни и лишь ненадолго просыпался, а потом, когда полегчало, подолгу лежал, прислушиваясь к окружающим звукам.
На комоде громко тикали часы, что-то шуршало под обоями. К форточке иногда прилетала синица и стучалась, будто просилась в дом, может быть, замазку выковыривала. Иногда на улице поднимался ветер, и тогда струи дождя ударялись в стекло, царапаясь, словно живые.
Там, за окнами, холодно и неприветливо, а дома отец с утра пораньше натапливал печку, и мне было тепло и уютно.
Наверное, я всё-таки поправлялся, потому что часто плакал. Незаметно, вдруг и без всяких причин глаза наполнялись слезами, а стряхнув их и сделав два-три глубоких вдоха, я чувствовал себя гораздо легче. Болезнь по-разному выходит из людей, слезами – тоже. Слёзы ведь горько-солёного вкуса, это всем известно, вот, наверное, житейская горечь и выходит из нас вместе с ними.
Вы замечали? время в детстве течёт гораздо медленнее, чем потом, и это объясняется множеством впечатлений, выпадающих на единицу времени. Повзрослев, вы не всегда замечаете дождь, солнце, громкий ход часов, шуршание какой-то живности за обоями, мысли сосредоточены на чём-то, по вашему мнению, гораздо более значительном, и всё, что помещается между этими значительными событиями, сознание словно бы пропускает, как лишнее и пустое. Напрасно!

Ведь мы живём каждую секунду, и нет пустых и ненужных мгновений, вот что. Внимательно послушать другого и улыбнуться ему, полюбоваться лучом солнца, который пробился к твоей ладони сквозь плотные облака и оконные стёкла, задуматься над прочитанной страницей интересной книги, мысленно повторяя, что сказал и подумал её герой, когда всё это происходит с нами не спеша, оставляя свой след в памяти и чувствах, это и есть нормальная скорость жизни, внушающая нам чувство наполненности и интереса. А когда, повзрослев, мы без конца спешим, подстёгивая себя стремлением к целям важным и мнимым, когда, став независимыми, мы жалеем своим близким доброго слова и внимательного взгляда, считая, что это само собой разумеется, когда мы несёмся вперёд, манимые удачей или делом, – вот тогда-то и начинает жизнь наша, будто детский волчок, разматываться, ускоряясь, и мы не замечаем в этом ускорении своего собственного конца.
А детство счастливо тягучестью, медленностью своих дней; яркостью красок и резкостью запахов; способностью удивляться, радоваться мелочам и замечать подробности; влюблённостью в тёплую речку, белоснежно-слепящие облака; сердечным волнением при виде красивой марки; радостью обладать заветной спичечной этикеткой; ощущением типографского запаха новой книги…
Скорость детства зависит обратно пропорционально от множества событий, точнее – от множества впечатлений, оставляемых самыми разными, в том числе очень простыми событиями.
Лёжа в постели, я наслаждался протяженностью своих безлюдных дней и полюбил одиночество.
Когда мне совсем уж полегчало, я попросил маму взять в библиотеке самую замечательную книгу, и она принесла огромнейший том надо же, в ней было больше тысячи страниц, а называлась она, конечно же, прекрасно: «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». И написал её человек не с какой-нибудь простой фамилией Иван Иванов, Петр Петров или даже Лев Толстой, а Мигель де Сервантес Сааведра – послушайте, как звучит!
Хе, даже с самой первой строки стало ясно, что мама моя не ошиблась и принесла действительно необыкновенную книгу. Да вы только вчитайтесь! «В некотором селе ламанчском, которого название у меня нет охоты припоминать, не так давно жил-был один из тех идальго, чье имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке».
Честно сказать, я не всё понимал, ведь события, которые происходят в этой дивной книге, находятся очень далеко и давно от нас, а многие слова так я вообще встречал впервые, зато самая главная мысль полюбилась мне с первых же строк: я был чем-то похож на Дон Кихота. Да, да, не смейтесь! Хоть он старик, а я мальчишка и мы живем в разных веках, его одиночество, его странности, его желание добиться справедливости были почти моими.
Все люди, окружавшие странного рыцаря, издевались над ним, не хотели его понять а разве со мной было не так? Вырастая, я понял, что во мнении многих, Дон Кихот это человек, который воюет с ветряными мельницами, мол, разве есть в этом хоть малый смысл, разве можно победить мельницу, лопасти которой ветер знай себе крутит, несмотря ни на какие помехи. Вроде как, дескать, это клинический случай чудачества.
Да, но ведь в книге есть и другие случаи, поясней, если кто-то что-то не понимает. Например, как Дон Кихот разгоняет стадо свиней. И пусть ему кажется, что он развеял целое войско всадников, ясно же, что он разгоняет человеческое свинство, воюет с ним!
Ну а выражения какие замечательные, я таких нигде не читал!
Встав с кровати на холодный пол и укутавшись, как плащом, одеялом, я разучивал потрясающие восклицания:
Благоразумие вашего неблагоразумия по отношению к моим разумным доводам до того помрачает мой разум, что я почитаю вполне разумным принести жалобу на ваше великолепие!
А ведь это не что другое, как вызов на поединок. «Вот бы сейчас так!» думал я. Прийти в класс и Герке Рыбкину брякнуть.
Или вот Нинке Правдиной продекламировать:
Всемогущие небеса, при помощи звёзд божественно возвышающие вашу божественность, соделывают вас достойною тех достоинств, коих удостоилось ваше величие!
«Соделывают», ничего себе! И хотя Мигель де Сервантес Сааведра сам эти изречения выписал из каких-то там рыцарских романов, чтобы слегка поиздеваться над рыцарем Печального образа, мне Дон Кихот никаким сумасшедшим не казался. Милый, одинокий, никем, даже Санчо Пансой, не понимаемый человек – вот и всё!
Дон Кихот и его создатель, а потом Джованьоли со «Спартаком» и сразу затем «Овод» Этель Лилиан Войнич – какие всё имена! – одарили меня прекрасным обманом, ну да, как ещё это назовешь? В книгах я находил мир, непохожий на мой, и научился в этом мире прятаться.
Потом это поможет мне одолеть мои напасти, потому что, сцепившись с врагами и потосковав в своем реальном мире, я убегал туда, где они не могли меня отыскать – я прятался в мир, придуманный писателями, и душе моей не было дано разбиться о беспросветность каждодневных печалей. Я ударялся об углы, но там, в своём, пусть иллюзорном, но возвышенном мире, забывал о болях. Они казались мне совершенно ничтожными в сравнении с тем, что приходилось одолевать моим любимым героям, и я жил чужой жизнью, как бы откладывая на потом узелки собственных запутанных отношений.
И я знал ещё одно: мои враги не владеют этой тайной. Они, конечно, тоже читают, но так, по обязаловке, и нет у них такого мира, куда убегаю я. Они чувствуют себя победителями в классе и на улице, но эта победительность такая маленькая и жалкая в сравнении с тем, как живут, как верят, любят, страдают и умирают люди в книгах.
Я всё с большей неохотой выбирался из книг в реальный мир. Мама поругивалась – правда, несильно, что я уж слишком зачитываюсь, слишком мало бываю на улице, слишком много сижу в комнате, слишком бледный, даже синюшный всё слишком да слишком. Но это было потом, позже.
Сейчас же я просто выздоравливал, читал, посмеиваясь и печалясь, «Дон Кихота», и думал о том, что по-настоящему великие люди, как, например, он, всегда непонимаемы остальными, обыкновенными, потому что видят и знают, и понимают то, что невидимо и непонятно другим. Смеяться над чудаками, считать сумасшедшим Дон Кихота вот это и есть настоящее сумасшествие и чудачество. Не зря же люди, которые считают себя умными, на самом деле очень часто большие дураки.
Ну разве станет умный человек кичиться своей силой, своей властью над слабым, разве он станет давать щелбана, да ещё со спины, человеку, который только пришёл из другой школы и ещё ни с кем не подружился, и разве не стадо свиней класс, накинувший на новичка грязный халат нянечки, чтобы избить всласть но за что? За глупость? За ошибку? Где же милость, неблагоразумные дураки, живущие свинским благоразумием толпы? Или ваши разумы помрачены каким-то неизвестным мне страхом? Но перед кем или перед чем? Одно дело нападать на сильного и вооруженного до зубов бандита, другое дело на пацана, который даже не знает толком, кого как зовут за немногим исключением. Его боитесь, рыцари Подлости и Обмана? Но за что? А раз его не боитесь что руководит вами? Вот, вот негодяйство! Ваше маленькое негодяйство! Ваша трусливая жестокость!
То и дело я обнаруживал, что хоть и держу в руках толстый том Мигеля де Сервантеса Сааведры, но застывший взгляд мой взирает сквозь спасительные страницы в моё неспасительное, жестокое сегодня.
12
И вдруг ко мне забурился кто бы вы думали? – сосед Рыбка, вот те на! Я как увидел его, сразу рассмеялся. Во-первых, всё-таки от неожиданности, а во-вторых, потому что зла-то на Герку не держал.
Ни мамы, ни отца дома не было, и мы с Рыбкиным вволю поболтали – я же вообще-то заскучал уже без нормального общения. Родители, бабушка это же совсем не то, да и вопросов про мужскую школу у меня накопилась целая уйма.
Он вошёл в комнату, сел на венский шаткий стул, похлюиал рыхлым носом, который нарвался на мой кулак, спросил вежливо-обязательно:
– Как себя чувствуешь?
Я отмахнулся, мол, ничего. Ладони у Рыбкина были все в чернилах, я, ухмыляясь, поинтересовался, что случилось, и он объяснил:
Щепкин в чернильницы карбида натолкал, а я дежурил, вот и пришлось всё чистить да новых чернил набирать.
Я не понял, какой такой карбид.
Ну, контрольная сегодня должна быть по алгебре. А у всех пары. Ну, мы и решили сачкануть. А как? Ну, Женюра приволок откуда-то карбид такая дрянь, вроде мела. Если в чернила сунуть она шипит, а чернила пенятся п-ш-ш! и через край лезут.
– Ну и что?
И всё! Писать нельзя, Бегемот наш заорал, и, пока я чернила менял, урок кончился. Я засмеялся, спросил:
– Помогло?
– Не а, – радостно ухмыльнулся Герка, всем по паре влындил. А контрольную завтра пишем.
Что-то засосало у меня под ложечкой. Будто пароход с моими близкими отчалил от берега, а я по каким-то дурацким причинам опоздал и чувствую мне их никогда не догнать. И ведь не было у меня добрых воспоминаний об этой школе, а вот засосало.
Рыбкин осматривался, постепенно привыкая к новой обстановке, подержал в руках толстенный том
«Дон Кихота», восхитился, конечно же, толщиной, сделал мне комплимент:
– Неужто одолеешь?!
Хэ! ответствовал я. – Мировецкая книженция! Мигель де Сервантес Сааведра. – Я наслаждался благозвучным именем, выговаривая его свободно, нараспев. Про рыцаря Печального образа, славно го идальго Дон Кихота!
Это уж давно известно – вверни, только, конечно, вовремя, пару неизвестных твоему собеседнику словечек и ты как бы впереди, набрал некоторое преимущество. Рыбка восторженно цокнул языком, но признавать преимущество не собирался.
А я, знаешь, что читаю? – спросил он меня. – Как это? «Капитал». Карл Маркс написал, на портретах его рисуют, понял? Так этот «Капитал», знаешь, какой толстый? И он показал ширину кирпича. Не веришь? воскликнул уязвлённо Гер-ка. – На спор! Завтра приволоку!
Мне надоели конфликты с Геркой, я отмахнулся: Верю, верю… Но принеси. – Он решительно кивнул головой. – А про что книжка-то? – всё-таки попробовал я проверить соседа. – Об чем?
Про капитал, ответил он, не моргнув глазом, – значит, про золото.
Он и соврал и не соврал. На другой день не поленился притаранил книженцию, я ни до, ни после такой не видел, и правда, шире кирпича. Но стоило мне открыть её, как я Рыбкина сразу разоблачил.
– Неужто и правда читаешь? спросил я, смеясь. – Лично мне ни одного предложения не понять.
Он раскололся:
– Её у меня, сказал, хохоча, – дед всю жизнь читает, представляешь? Как свободная минутка, так раз! и сидит за этой книженцией. Посидит-посидит, потом носом засвистит и хрясь головой на книжку, хорошо, что она толстая, ровно подушка. И храпит!
Мы хохотали! Я подложил «Капитал» под голову, захрапел, подражая Рыбкиному деду.
– Дед говорит, – закончил Герка, – эта книга – лучшее слабительное.
– Что? – я прямо закатился.
– Ой, поправился, смутившись, Рыбкин, не то слово! Лучшее снотворное!
Мы снова заржали, как полоумные. Потом, когда успокоились, сосед по парте меня предупредил:
– Только ты смотри, того, не брякни где-нибудь, что я тебе рассказал.
Я удивился, даже слегка завёлся:
– Да ты что! Чего здесь такого, кроме смехоты?
– Эх ты, наивняк! посерьёзнел Герка. Ведь их же всего четверо он, Ленин, Сталин, да ещё Фридрих Энгельс. Они самые главные, и про них не шутят. А то усадят ещё.
– Куда?
Я действительно только выбирался из своей яичной скорлупы, птенец! А Рыбкин что-то такое знал, в чём-то, мне неизвестном, разбирался.
– На кудыкину гору!
Тут наши политические разговоры как то сами собой оборвались по причине возраста и интересов. Обсуждение почему-то перекинулось на учителей и на директора Сергея Николаевича. По словам Герки, это был замечательный старикан. Ну, во-первых, рассказывал Рыбкин, чтобы мы не чувствовали себя зеками, директор, хотя он же совершенно взрослый, даже седой человек, тоже стрижется под нуль, хотя ему это страшно не нравится. Кто-то из старших Папанов видел, как Эсэн так сокращённо-уважительно именовали директора разбирался в парикмахерской с Никаноровной, объясняя ей, с улыбкой конечно, что нарочно прошёл у неё личное испытание и что машинка парикмахерши безжалостно ту пая, а потому не стрижет, а дерет волосы, и что мастерица эта лучше бы начинала людей корнать не со лба, как баранов, а сбоку.
Судя по подробностям, которые излагал Рыбкин, всё это походило на чистую правду, и я Эсэна зауважал, хотя и видел-то всего раз, с полу. И был, оказывается, вполне прав. Чуть замявшись, Герка сообщил мне, что вообще-то директор мирный человек, даже самую отчаянную школьную шпану никогда словами попусту не песочит, и это его терпеливое молчание и поглядывание прямо в глаза действует, будто взгляд гюрзы, но тогда, после тёмной, он назвал наш класс я даже вздрогнул, потрясённый совпадением моих мыслей с директорскими, – стадом свиней.
Никого, конечно, это не потрясло, подумаешь, какое милое определение, Рыбкин просто заметил, что Эсэн вышел из себя, надо же, такой уравновешенный!
Тебе вообще-то не повезло, сказал Герка, вздохнув. – Лучше бы не в «а», а в «б» или в «в» тебе попасть. Хотя, вздохнул, с другой стороны, какая разница?
Я молчал.
Ведь, например, наш Коряга, понизив голос, объяснил Рыбкин, настоящий вор. Ты только никому, понял?
Мои глаза, кажется, совсем округлились, пока я слушал Герку. Слушал и всё понимал. И Рыбкину даже сочувствовал, потому что абсолютно ясно становилось, что отказаться от косалки со мной он не мог. И страшно мне было. Ведь Герка и всё другое мог выполнить любую другую команду.
Словом, Коряга был во взрослой банде, и эти бандиты использовали его для всяких дел. Я уже и раньше слыхал, как это делается. Подходит, например, пацан ко взрослому и говорит: «Дяденька, дай закурить!» Ну а тот обязательно какую-нибудь грубость произносит, дескать, мал ещё, пойди-ка пососи соску. Тогда пацан начинает плакать, нарываться, к примеру, материться всяко, чтобы взрослый его толкнул или ударил, и в этот миг выскакивают взрослые бандюги, будто бы заступнички, ну и этого взрослого бьют там, грабят, ножом пыряют.
Коряга возле станции живёт, вот там они и шуруют, – уточнил Рыбкин.
Верно! Возле станции полно милиции, железнодорожников в форме и вообще всякой охраны навалом, но именно там, в улочках, прилегающих к вокзалу, то и дело творились грабежи и убийства это каждый в нашем городе знал.
– Ну а Щепка? – спросил я.
Этот просто перед Корягой выдрючивается, недовольно произнес Рыбкин, хочет с ним по корешкам быть, но тот мужик хитрый, вроде, Рыжего одобряет, но это так, потому что в одном классе быть приходится. Мало ли – пригодится.
Да, вот такие выходили новости.
Он же старый, Коряга-то! спохватился Гер-ка. Два раза на второй год оставался.
Это потом, когда станешь взрослым, два года разницы пустое дело, совсем не отличишь. А в четырнадцать, да если ты ещё и жогаешь на каждой перемене, будто заядлый курильщик… Может, от этого курения-то Коряга и не рос, а был такой же, как все мы.








