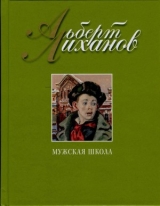
Текст книги "Мужская школа"
Автор книги: Альберт Лиханов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
27
Но это всё плыло как-то мимо моего сознания, я страдал от одиночества, не знал, как мне быть, и именно в эти дни вернулся к Кимке. Меня приняли, точно блудного сына, угощали чаем не просто с вареньем, а с тортом, Софья Васильевна щебетала на абсолютно абстрактные темы, и я чувствовал себя не на своем месте.
Меня расспрашивали про перемены в моей жизни, но я утверждал, что их нет, поглядывая на Кимку: ну не буду же я говорить о Веронике. Кимка не подавал виду, что что-то знает, и я скоро ушёл, опустошённый напрасной тратой сил на бессмысленные обмены словами.
С Геркой я теперь говорил обо всякой ерунде, только не о Веронике, в конце концов, у нас много своего, не предназначенного ни для Лёли, ни для Герки, всё, захлопнулась какая-то шторка, вход посторонним воспрещён!
Я терпел, молчал, и только уж когда совсем изнемог от тоскливых одиноких вечеров, попросил Герку:
– Ну ты бы хоть навестил её, какая у неё температура?
– У кого? – вытаращил он глаза.
Как у кого? – обалдел я, предчувствуя нехорошее. – У Вероники. Она ведь болеет!
– Не знаю, – сказал Рыбкин, я её вчера видел. У них сегодня студенческий вечер. Я думал, ты идёшь.
Иду? Вот это да! Я считал, если она поправится, первым, кто об этом узнает, буду я. А она не только здорова, но идёт на вечер. И мне ничего не известно.
Наверное, элементарная самоуверенность подвела Меня. Я считал, что она – моя, вот и всё. Но кто, спрашивается, дал мне такой повод? Вероника ходила со мной в кино, мы были в одной библиотеке, иногда танцевали, перешли наконец на «ты», но и ничего больше. В конце концов, у неё своя жизнь и обязанности, её десятый класс принимает выпускниц прошлых лет, наверное, приходится хлопотать и готовиться, а тут ещё болезнь, она просто не успела меня предупредить, вот и всё.
Я силой заставил себя успокоиться. Взять себя в руки. В конце концов, Герка вернулся из своей деревни, и он прекрасно знает, где я живу. Если Вероника захочет, она сообразит прислать мне приглашение или хотя бы записку.
В тот вечер я решил никуда не ходить, быть дома. Листал книги, пытался читать, ничего не шло в голову. Такие встречи начинались в семь, но к этому часу никто не явился. Я подождал час, полтора – обычно всякие торжественные части к этой поре выдыхаются, даже если с трибуны выступают сияющие победители. Я подождал ещё полчаса и, потеряв всякую над собой власть, стал лихорадочно одеваться.
Я ворвался к Герке в полной уверенности, что буду не один, но его марксистский дед пожал плечами:
– Он не сказывается, куда идет!
Передайте ему, сказал я, пусть мотает в сорок шестую. Я там!
– В сорок шестую, в сорок шестую, – забормотал дед, запоминая, а я уже исчез, растворился.
Школьная дверь была не заперта, при входе никакого контроля, наверное, кто-то уже ушёл с вечера и отворил мне путь.
Наверху гремела музыка, но гардеробщица подтвердила мои предположения:
– Уже расходятся! А ты явился прямо провожать?
Я воззрился на беззубую, добродушно смеющуюся старуху.
– У нас хорошие крали-то! говорила она. – Иди, иди, милок, не теряйся!
Я вступил в душный зал и сразу увидел их. Вероника танцевала с высоким блондином, щеки которого покрывал красный, какой-то нервный румянец. Он был в чёрном мундире с блестящими пуговицами и погонами студента горного института.
Таких институтов не было в нашем городе, но погоны эти, золотистые накладки с вензелем из первых букв институтского названия, я знал, видел на обложке в журнале «Смена», не эта ли ещё картинка манила меня в геологи, глупца…
Есть вещи, которые нет нужды объяснять. Достаточно взглянуть. Румяный горняк не имел для меня значения, но Вероника! Её глаза сияли, она преданно смотрела ему в лицо, оживлённо смеялась и не желала ничего видеть вокруг.
Зато моё появление было замечено остальными. Я здесь не знал всех по именам, но можно было не сомневаться, что меня знают все. Мне кивали, и я потрясение, а оттого надменно, кивал в ответ. Девчонки шушукались между собой.
Передо мной возникла Лёля. Она смущённо улыбалась, будто была виновата в чём-то.
– Разрешите пригласить, сказала она, хотя это не был белый вальс.
Я покорно взял её за спину, мы принялись крутиться.
– Ну что? – спросила она. Наверное, такой вопрос следовало задать мне.
Что – что? – сказал я, и мы замолчали. Мне вовсе не хотелось смотреть на Лёлю, но я смотрел, потому что не мог таращиться по сторонам, не мог видеть этих бесстыже любопытных глаз. Но вот из-за Лёлиной спины появилось лицо Вероники. Она посмотрела на меня вовсе не удивлённо, не испуганно, скорей безразлично. Кивнула и скрылась за своим горняком. Значит, ожидала меня, готовилась к этому равнодушному кивку, может, ещё и репетировала его перед зеркалом.
Я сгорал от стыда, ведь теперь, выходит, меня бортанули публично, если бы не заявился сюда, тогда ещё не так. Но как бы я узнал об этом? С чьих-то слов? Нет, уж лучше всё увидеть самому. Я сгорал от позора, но и ещё от ревности – он что, погонами её увлёк, розовая поросячья морда? И ещё я сгорал от самолюбия: это не соревнования, которые не позорно проиграть, борьба есть борьба. А здесь какая борьба?
Ну и от обмана я мучился. Я испивал чашу своего поражения на глазах у тех же, кто видел меня счастливым покорителем. Впрочем, счастливым – да, но кто сказал, что покорителем? Это детская выдумка моя, самоуверенность и неопытность вместе взятые, только и всего.
Разве Вероника целовалась со мной? Что-нибудь обещала? Мы говорили о верности? Ведь нет же и нет! Мало ли какие пацаны готовы носить её портфели, перекидываться записочками в библиотеке и приглашать в кино? Разве это к чему-нибудь обязывает? Нет, нет!
И я был лопух. Сгоравший от публичного оскорбления, но – кем? Девушкой.
И в том-то вся беда, что на такие оскорбления не отвечают. Умываются и идут дальше. И никому нет дела до твоих страданий.
Лёля вдруг сказала:
– Ты можешь меня проводить?
Я вылупил глаза, но тут же погас:
– Могу.
Мы вышли на улицу, я взял у Лёли сверток с её туфлями.
– Вероника попросила меня сказать тебе всю правду, – трагическим голосом произнесла она, и остатки моей души рухнули в преисподнюю. С тех пор я терпеть не могу паршивых итогов в начале разговора. Но тогда надежд у меня не оставалось.
– Они с этим горняком познакомились ровно год назад, на таком же вечере. Летом он уехал в Ленинград и поступил в горный. Всё это время они переписывались.
– И когда мы… – промямлил я тупо.
– И когда вы, – согласилась она.
В этот миг кто-то вырвал Лёлины туфли у меня из-под мышки. Я не успел обернуться, как услышал смех. Это был Герка.
Слушай, кричал он, смеясь, дед сказал, ты ушёл в сорок пятую, а это же мужская, там темно, мне сторож чуть по шее не надавал!
Врезался он совсем некстати. Но ведь Герка мой близкий друг, мостик между Вероникой и мной.
Чего случилось? с опозданием разобрался он, разглядев, видно, мою физиономию. – Ничего, – проговорил я.
Просто открылось то, чем ты никогда не интересовался, – сказала Лёля.
Выходит, я? – этому можно только поражаться.
Выходит, ты! ответила Лёля. Выходит, сразу надо спрашивать девушку: у тебя есть парень?
А я ничего не знал, – только сейчас допетрил Герка.
Зачем тебе-то, по-взрослому рассуждала Лёля. Это вот ему узнавать надо было.
Мне были неприятны все эти рассуждения на троих о моих личных делах. Но ведь мой позор видело куда больше людей. Эти двое – лучшая подруга Вероники и мой друг как бы стали моими страховыми агентами с самого начала.
Падал снег мягкие огромные хлопья. В мире было прекрасно и тихо, а в душе моей выл ветер, стонала и плакала пурга. Что-то говорили обо мне Лёля и Герка, но я, будто приговорённый к казни, шагал, не чувствуя себя, между ними и не слышал их слов.
Ну ладно, сказал, наконец останавливаясь. – Гера, проводи Лёлю. Пока.
И побежал. Сперва слегка, не срывая дыхания, будто разминаясь на тренировке, потом прибавляя шаг, разгоняя ход, изнуряя себя предельной нагрузкой.
Я будто хотел подавить себя самого, выжечь каким-то неясным пламенем всё своё нутро, так ясно сохранявшее воспоминание о Веронике. Я стирал в себе её лицо, её слова, а они не стирались, как будто назло становясь всё отчетливей и ярче.
Я вернулся домой совершенно мокрый, и мама ахнула:
– Кто за тобой гнался?!
– Никто, – отмахнулся я и ушёл к себе, тщательно прикрыв дверь, на цыпочках пробравшись мимо кровати, где сопел себе, счастливец, младший брат.
Не сомкнув глаз, я проворочался всю ночь, а наутро не пошёл в школу. Соврав дома, что сегодня общий кросс, я надел лыжи и кинулся в Заречный.
Милый, знакомый парк! Как хорошо было тут, пока никого ещё нет… Трепещут красные флажки вдоль трассы, как и вчера, валит, не уставая, крупный снег. Я вновь изнуряю себя скорым ходом и радуюсь, что парк, что природа, что сами небеса понимают меня и помогают мне: снег становится таким густым, что я вижу только собственные лыжи. Со всех сторон меня окружила странная стена. О неё нельзя опереться, в неё нельзя стукнуть кулаком, и она шевелится, беспрестанно движется сверху вниз.
Странно, но я чувствую себя удобней, окружённый этой мягкой стеной. Меня не может никто увидеть.
Я заперт в камере один на один с собой. Можно мчаться вперед, а можно встать. И заплакать, как в детстве, ну-ка, вдруг полегчает.
Фигушки! Я вырос в мужской школе, я прочитал кое-что из книг, а Рыжий Пёс, Витька Дудников, пульки из намоченной слюной бумаги и борьба в жёстку, тренировки в двух секциях и маленькие победы кое-чем отплатили мне: я хотел, но не мог, я старался, но не был в состоянии заплакать.
Получился какой-то грудной хрип, и всё.
Я вытолкнул из себя горячий, тугой, невидимый клубок. Выхаркнул часть своего прошлого. Так, по крайней мере показалось мне, но нет, ничего и никогда не вычеркнешь и не выплюнешь из себя, это может лишь показаться, вот и всё.
Вот и мне – показалось. Я уговаривал, я приказывал себе: ты освободился, живи дальше. Мне казалось, я способен подчиниться своим приказам.
Увы, не сразу, но я подчинился.
Я пошёл дальше, снежная стена по-прежнему обступала меня со всех сторон, но я хорошо знал свой парк и лыжные трассы, петляющие по нему.
Когда я вышел к берегу, снег едва поредел, а сверху прямо над моей головой вдруг высветился кусочек голубого неба, и нет, не солнце, а просто чистый свет ласковым, прозрачным столбом окружил меня. С самых небес до самой земли. Снег валил со всех сторон по-прежнему, и лишь в одном месте, именно надо мной, разошлись шевелящиеся стены.
Просто чудо.
28
Я выгорал мучительно, тяжко. Выключался из жизни точно так же, как прежде, после знакомства, только те выпадания были мечтательными и сладостными, я как бы купался в волшебно-золотистом мареве, а теперь я просто-напросто замирал – без мыслей и даже без сильных чувств. Дыхание становилось реже, реакции сглаживались. Меня окликали по нескольку раз, пока я понимал, что обращаются ко мне. Даже при всём старании я не мог толком выучить уроки, но, странное дело, учителя щадили меня, хотя, я был уверен, ничего не знали о происходящем. И даже Герка никак не среагировал, когда я вернулся на старую парту, к спокойному Коле Шмакову. Он понимал, что, невзначай, конечно, и не по своей вине, стал фигурой, от которой я предпочел бы оказаться подальше.
Я перестал ходить на ледоход, танцы и в Герценку, но вернулся в лыжную секцию. Вторую я отложил до лучших времен, а потому с Кимкой виделся через день, но как-то по-новому. Всё было в порядке между нами, и всё-таки что-то отдаляло. Может, умерло моё великодушие, не знаю. Верней всего, что пожар, горевший во мне, всё остальное делал незначительным и неинтересным, даже дружбу. А может, причиной было то, что легкоатлеты занимаются на виду друг у друга – в зале, а лыжники идут по трассе, и нет нужды разговаривать или, пуще того, натужно улыбаться всем встречным.
Я пробовал бороться с собой улыбаться, оживлённо вдруг о чём-нибудь говорить с Колей Шмаковым или Владькой, но быстро выдыхался, будто спринтер на длинной дистанции. Единственное, что хоть чуточку помогало, это книги. Я набирал целую пачку в своих любимых детских библиотеках, там меня встречали восторженно, ведь редкий десятиклассник забредал сюда, охотно изменив недавнему прошлому, и не отказывали даже в редких книгах из читалки. Я, правда, быстро возвращал, глотая том за томом, и будто насыщался ими, как лекарствами, заменяющими еду.
Я погружался в мир книг и забывался, но вдруг меня словно пронзало молнией, и я сидел или лежал с бессмысленно вытаращенными глазами: опять Вероника, снова Вероника таинственно доставала меня своим, за несколько кварталов от меня, предательским существованием.
За что, спрашивал я её? Ведь и надо-то было просто не приходить к нам на тот вечер. Или сразу сказать: я танцую с тобой, но я занята.
Нет, была какая-то тайная порочность в её встречах со мной. Странности её теперь становились понятны. Хотя бы те танцы во Дворце пионеров. Она как бы припрятывала наши отношения, потому что ему могли передать. Дворец с паркетом и люстрой слишком освещенное место, чтобы не разглядеть чьи-то новые отношения, если танцуешь слишком часто с одним и тем же человеком.
Я закрывал глаза, старался сбросить с себя навязчивое наваждение, нырял в книгу и снова, снова, снова, измученный и больной, выскакивал на поверхность своего существования. Несколько раз я пытался писать ей длинные письма, одно даже запечатал в конверт и подписал на нем адрес, но и его порвал, как все предыдущие. Начав спокойно, я не мог совладать с собой, и даже в самом ироничном последнем варианте слышался укор. Этого я не хотел. Я вообще не хотел унижаться.
Странно, как и где покидают нас печали…
Уже смирясь с их неотступностью, и даже, как ни смешно, полюбив их, потому что в печалях, как в таинственных кельях, можно и жизнь прожить, перемалывая одни и те же слова, сцены, мысли, мы вдруг с удивлением обнаруживаем, что стены пещер, в которых удобно прятаться, рухнули, и нас снова знобит на открытом, но радостном пространстве жизни.
Одинокий отшельник, я пошёл в кино, попал на «Ревизора» и вдруг расхохотался, а молодой трепач в исполнении Горбачёва так понравился мне, и такой от него повеяло свежестью, таким бесстыдством, что я как бы сказал сам себе: ну, а ты-то чего! Нет, я не сказал. Я почувствовал. Я ощутил в себе потребность свободы, лёгкости, может быть, неиспытанного чувства наглости, которых так недоставало мне и которыми обладал Хлестаков.
Я вышел из кино с этим новым чувством, которое не исчезло, вот странно. Вольным, этаким раскованным шагом я пересек дорогу и зашёл в редакцию, где давно не появлялся. Пушистенький Загородский был на месте, и я, даже похохатывая, рассказал ему о своих восторгах новым фильмом так убедительно, что он сам предложил:
– Напишите! Только так, чтоб мы обогнали наших конкурентов!
Завтра же! обещал я и, играючи, только успевая записывать лёгкие слова, словно скатывающиеся на остриё моей самописки, написал за вечер размашистое сочинение, напечатанное через ровно два дня чуть не на целую страницу.
Фортуна поворачивалась ко мне, но это были лишь первые знаки её расположения. На День Красной Армии, мужской праздник, отец и мама подарили мне бритву со всеми принадлежностями, а бабушка первый галстук, и я удивился этому косвенному признанию. Я ещё не брился, но родители хотели, чтобы я был готов к этому, я ни разу не надевал галстук, а бабушка сделала так, чтобы он оказался у меня заранее.
Нет, всё-таки зря я грешил на родителей. Наверное, это я не замечал их, а они прекрасно понимали, как меняюсь я.
Я их обнял, поцеловал, и бабушку мою дорогую тоже, и братца этого толстопузого уж заодно, и какой-то ещё один тайный груз освободил мою душу.
На лыжной тренировке Кимка отозвал меня в сторону и предложил немедленно вернуться в легкоатлетическую секцию. Его отец проанализировал за зиму все юношеские рекорды области и решил в день открытия легкоатлетического сезона устроить их штурм. И мне предлагается войти в состав малой шведской эстафеты: 400+300+200+100 метров. Четверо участников бегут разные дистанции. И Васильевич, сложив наши лучшие результаты, рассчитал: рекорд области обеспечен. Чтобы забег состоялся, скомплектованы ещё две команды, из наших же ребят, но они на достижение не тянут. Впрочем, никакой тайны от них не делается, все готовы, тренируются, и с радостью. Что же касается меня, все надеются на мой знаменитый спурт в самом начале, а так команда, можно сказать, составлена: Лешка на первом, самом трудном, ещё один, пока незнакомый мне пацан, новичок, на втором, Кимка на третьем, я – финиширую.
Я согласился, почему, в конце концов, надо забывать свои же собственные успехи. Если они были, конечно.
Ну, и тут меня как бы невзначай встретила Лёля. С тех пор я её не видел, с того самого вечера.
Она шла, помахивая небольшим девичьим портфельчиком, на лице улыбка, лёгкая игра в неожиданную встречу «Ах, как ты изменился!» – заранее заготовленная лесть – «Все читали твою статью, это же надо!» а потом небрежно пущенный шар «Она сегодня будет в Герценке».
– Ну – и – что? – спрашиваю я, стараясь походить на Игоря Горбачёва в известной роли.
Лёля ещё улыбается, но теперь это выглядит уже довольно натужно.
Ну-у, говорит она, может, ты захочешь поговорить?
– Да? удивляюсь я. Интересно, о чём же? Она смеется не вполне уверенно.
– Мне кажется, – прибавляю я гордого кипятку, всё вообще-то колотится во мне от предчувствия отмщённого самолюбия, – мы всё уже обсудили с ней на одном вечере встречи с выпускниками.
Лёля подбирается, будто готовое прыгнуть гибкое животное.
– Они больше не дружат. Они расстались. Ха-ха, – говорю я. У него в Ленинграде обнаружился более близкий вариант?
Она кивает.
– Приятно всё-таки иметь дело с такими парламентёрами, как ты, говорю я одобрительно Лё-ле. – Никаких виляний. Всё прямо в лоб.
– Да, – весело соглашается она.
– Отчего же ты так верна ей? – спрашиваю я.
– Подруги, – отвечает она лаконично.
– Лучшие? – спрашиваю я.
– Лучшие!
– Всем делитесь? – ухмыляюсь я.
– Всем!
– До донышка? – донимаю я. Она удивлённо поглядывает на меня, но не отвечает.
А меня разбирала злость. Хотелось отчебучить что-нибудь наглое.
Я припомнил, как всё эта же Лёля обучала меня: первым делом надо спрашивать девушку, есть ли у неё кто-нибудь. Теперь спрашивать не надо. Она пришла с этим сообщением сама. Место, в общем, освободилось. Можете пользоваться, и даже прислан парламентёр.
– Нет, – сказал я Лёле. – Я не приду. Не нуждаюсь, понимаешь! Всё прошло, вот в чём дело! И прибавил всерьёз: И разве такое забывается?!
Я и сам не знал, какую серьёзную фразу произнес. Но я смеялся. Лёля всё передаст ей, до последней мелочи, я не сомневался. И последнюю фразу. И мой смех не забудет упомянуть.
Так что смех должен быть совершенно лёгкий. Освобождённый.
Вольный, как птица, которая его издаёт.
29
Но я пошёл в Герценку. Смирил свою гордыню. Мне хотелось услышать, что она скажет, Вера-Ника. Она сидела в электрической тени от зелёной пальмы, и сердце моё заколотилось опять. Я сел напротив неё, как когда-то, только теперь я был без книг, без химического справочника, который выписывал специально, чтобы пошутить на любимом ею языке формул.
Она подняла голову, увидела меня и вспыхнула. Я сидел, положив руки на стол, и глядел на неё подчёркнуто вопросительно. Заметно волнуясь, она схватила ручку, выдрала с треском листок бумаги из аккуратной своей тетради, стала что-то быстро писать и тут же зачёркивать, писать – зачёркивать, писать – зачёркивать.
Потом отложила ручку и посмотрела на меня.
«Да, бумага это совсем другое, нежели просто слова», – подумал я. Она снова придвинула тетрадку, теперь аккуратно вынула чистый листок и что-то написала в верхнем левом углу, чтобы оставить мне место для ответа. Потом согнула листок и подтолкнула его ко мне.
Аккуратным почерком отличницы было написано:
«Ты можешь простить меня?»
Я перечитал эту строчку, наверное, пятьсот раз, пока оторвался от бумаги и посмотрел на Веронику.
Зачем я пришёл сюда? Услышать извинение? Но это же глупость, и мне оно вовсе не требовалось. Принять раскаяние?
Ничего себе, она же просто проиграла, её, можно сказать, бортанули, и ей теперь хочется вернуться назад. Но разве можно вернуться? И потом, во мне всё выгорело, выболело, разве это не ясно?
Ещё оставалась ревность, вот что я не знал, мстительное чувство, между прочим. И ещё оставался мой неискупленный позор. Как его искупают, я не знал, но меня точило что-то внутри, какая-то непознанная страсть.
Но она всё-таки неглупа, Вера-Ника. Спрашивает, а не утверждает. Если смогу, она вот здесь, передо мной. А если не смогу? Что тогда?
Я долго-долго читал строку, написанную в самом верху чистого тетрадного листа, потом посмотрел на Веронику. Раньше бы я не смог смотреть на неё так. Раньше она казалась мне совершенно необыкновеннои, а теперь это все исчезло, прости, но я не виноват. Прежде мне виделось необъяснимое превосходство в повороте головы, еле заметной улыбке, гордой осанке, а сейчас всё это куда-то пропало, увы. Я старался изо всех сил, честное слово! Я проклинал себя, виня, что ослеп и не могу различить так явно бросавшееся в глаза прежде, но ничего не мог поделать с собой. Пусто получалось, пресно, обыденно: библиотека, зелёный свет абажура, более или менее симпатичная девушка, но не так чтобы уж очень, можно запросто пройти мимо и не обернуться.
«Что ты в ней нашёл? – пытал я себя. – Разве мало вокруг других? Что вдруг случилось с тобой, какое накатило затмение?»
Я снова увидел её строчку. И целую страницу для развернутого ответа.
Она смотрела. Я пожал плечами. Сложил листок и щёлкнул по нему пальцем. Он отлетел к ней. Её глаза наполнились слезами, ну и ну! Она опустила голову, выхватила из рукава платок, потом схватила в охапку книги и выбежала из читалки.
Получалось, я обидел её. Но я ещё не умел обижать женщин. Со скрипом отодвинув стул и произведя шорох в зарослях взрослого репейника, я вышел из читалки и оказался на улице раньше Вероники.
Начинать снова было тяжко. О чём говорить? Наконец она произнесла:
Завтра у нас вечер. Посвященный Дню Красной Армии.
Я усмехнулся:
– И зачем в женской школе такой вечер?
Мы долго советовались, – ответила она, – и решили, ведь мужчины защитники женщин. Я тебя приглашаю. Я молчал.
Я тебя буду ждать. У нашего фонаря. В половине седьмого. Пойдём вместе.
Вместе ходили уже соединённые всерьёз и публично. Остальные ждали друг друга у школы или Дворца, наконец, встречали в фойе или коридоре. А шли вдвоём по улице с туфлями под мышкой, завернутыми в газету, только пары, признанные обществом и сами себя признающие ими.
С жуткой душевной смутой двигался я первый раз по стемневшей улице в новом качестве.
Вероника пыталась расшевелить меня, что-то спрашивала, я односложно отвечал, а встречный народ – я, конечно, подразумевал под народом публику нашего возраста, – вглядывался в наши лица, как бы отмечая в сознании, регистрируя своим умом ещё одних. Господи, она держала меня под руку, а под мышкой я волок сверток с туфлями! Хоть под венец!
Неподалёку от своей школы умная Вероника затормозила меня и посмотрела в глаза.
– Если не хочешь, – сказала она, – давай не пойдём.
Конечно, я об этом и думал! Но ведь именно здесь я испил свою горькую чашу.
– Нет, – усмехнулся я, – пойдём.
– Всё, – проговорила она тогда, подчеркнув первое слово, – знает только Лёля.
– До донышка? – сыронизировал я. Она не среагировала, закончила фразу:
– И ты.
Мы вошли в зал и двинулись зачем-то вдоль стены, кажется, там был ряд стульев, где можно было отдохнуть между танцами. Боже мой! Это походило на обход почётного караула, никак не меньше. Девчонки, как по команде, оборачивались к нам, сияли всеми цветами радуги и бесконечно приветливо здоровались. Не столько с Вероникой, сколько со мной. Уже научившийся комплексовать, я придирчиво вглядывался в едва знакомые лица, пытаясь понять, нет ли в этих радостных приветствиях издёвки над моим возвращением. Но улыбки были столь открыты, а приветствия столь мягки и доброжелательны, что можно было подумать, будто мне отдаются почести победителя. Мои болельщики приветствуют меня.
Так оно и оказалось потом, и некоторое время, увы, ободрение окружающих обманывало нас обоих, подталкивая к шагам, без которых можно было вполне обойтись.








