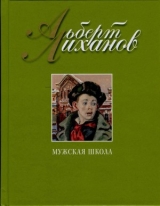
Текст книги "Мужская школа"
Автор книги: Альберт Лиханов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
17
Чем был велик Юра?
Прежде всего он не ругался. Все мы прошли в нашей спартанской школе и очень быстро освоили тот поразительно доходчивый мужской язык, в котором, кроме предлогов и междометий, нет ни одного печатного слова. И Юра прошёл, как же, ведь уши не занавесишь. Железный человек уроки прошёл, а ни одного грязного слова не повторил.
Я до сих пор гадаю, почему он такой был, единственный в своем роде? И не нахожу ответа. Редкий жизненный случай: человек смеётся в ответ и ничего не объясняет. А может, это и есть объяснение? Без объяснения?
Еще Юра почему-то не любил летом загорать. Все облупятся три раза, кожу с себя спустят, а он всё беленький, хотя ведь купаться на речке любил, ничего не скажешь. Тут он, правда, объяснял: я, мол, не загораю, а только краснею, но это же не объяснение – сперва покраснеешь, потом пожелтеешь, как все. Но Юра был человек твёрдых правил. Вот! Это его главное достоинство. Если скажет что, никогда не подведёт. И мы с ним, мечтая об операторском факультете ВГИКа, дали слово держать наши намерения в полной тайне от всех. Потому что поступить трудно, почти невероятно, и смысла болтать заранее просто нет – будут потом спрашивать каждый кому не лень: ну, как кино? А что ответишь?
С Юрой мы в фотокружке бог знает сколько лет назад подружились. С ним очень легко: лишнего не говорит, хотя ни от каких тем не уклоняется. Но сам к тебе не лезет.
Думаю, что таким человеком он сделался не сам по себе. У него была больная сестрёнка. Плохо говорила, глаза навыкате, тяжёлый подбородок, белёсые волосы. Это какое-то таинственное уродство рождения. На улицу она почти не выходила. И что не такая, как все, видимо, понимала. Но разве станешь об этом с ней говорить? Сколько раз я бывал у Юры дома, с ней, этой больной сестричкой все всегда говорили голосом ровным и как с вполне здоровой. Вот только слова пояснее да погромче выговаривали, будто человеку, который неважно слышит. Поэтому, наверное, Юра и вырос такой: приветливый со всеми, но сдержанный, на любой вопрос охотно ответит, но сам без нужды не говорит и всё больше помалкивает.
Ещё меня в Юриной жизни поражала весна и осень. Они жили в подвале, из их окошка даже глядеть как-то неудобно: тротуар рядом, и у прохожих женщин всё видно. Некоторые ещё остановятся поболтать, просто конец света. Хорошо, если молодые. А если – нет…
Юра в ответ на мои взгляды мельком улыбался, точно от дурости моей отмахивался, от окна отходил, наверх старался не глядеть. Но дело не в этом.
Дело в том, что весной, когда таял снег, в подвале, где Юра жил с мамой и сестрой, стояла вода. Прямо на полу. Её отчерпывали, но ничего не помогало. Тогда прямо в воду клали кирпичи, а на кирпичи доски и прямо по мосткам в комнате ходили.
Забавно: стоит кровать с набалдашниками, чистая, нарядная, подушки расшитыми накидками укрыты, покрывало на одеяле тоже красивое, а ножки кроватные – в воде. Стол с белой скатертью в воде. Комод тоже в воде.
Это, конечно, мне интересно, с непривычки-то, а как если жить тут всегда? Вот Юра и вырос таким серьёзным, потому что дома у него забот хватало очень даже непростых. Ну и надо прибавить, что старше меня был Юра на целый год. Летом, после моего девятого он решил ехать поступать во ВГИК, а летом предыдущего года съездил к своему дядьке в Москву и целую неделю проторчал в институте: узнавал, что за творческий экзамен, какие вопросы в билетах по остальным предметам, и отчётливо понял там просто заваливают. И тем не менее всю зиму готовился как проклятый.
Не в силах вырваться из объятий тренировок, интеллигентных разговоров у книжного магазина и бесконечных гастролей по танцевальным вечерам, я являлся к нему лишь изредка, готовый принять любую укоризну, но Юра, ничего не замечая, сдержанно показывал всё новые опыты: постановочные натюрморты какие-то деревянные шары и пирамиды на слепяще белом фоне, фрукты – и где только достал-то в конце зимы? – на расписном блюде, шахматные фигуры, причудливо снятые очень крупно, в контражур, это значит против солнца, что подчёркивает контрастность предметов и умение работать светом.
Еще Юра рассыпал передо мной целый веер незнакомых лиц, сфотографированных им в разном ракурсе, то есть в разных поворотах, тоже с искусственной подсветкой. Словом, человек готовился всерьёз, а я только болтал с ним об этих серьёзностях, близко даже не приблизившись к профессиональному уровню, которым уже давно владел Юра. Мне казалось, он уходит, уплывает куда-то от меня и вот эта скорость, с которой он удаляется, мне уже неподвластна. И всё же я говорил с Юрой, а уходя от него, всё забывал в умопомрачении бесконечных вечеров танцев и, возвращаясь, ясно понимал, что расстояние между нашими умениями ещё увеличилось и что пора бы мне от чего-нибудь отказаться и что-то выбрать из многообразия моих увлечений, очень даже пора, ведь иначе всё можно профукать и остаться с носом.
Юра же, деликатный человек, ничего мне не говорил, ни до чего не допытывался, и получалось так, что нашей общей тайне верно служил он один.
18
Но всё-таки почему же могла возникнуть мечта о профессии кинооператора в провинциальном городке, у ребят, чьи родители так далеки от искусства? И ведь имели в виду мы вовсе не профессию оператора-хроникёра, что всё-таки можно было себе вообразить – то он на полюсе снимает, то в шахте. Тут его работу объясняет скорее разнообразие жизни и географии, так что интерес мог бы в этом случае не секретами мастерства измеряться, а совсем другим – поездками, многознанием, возможностью всюду пройти и везде оказаться. Так нет, мы мечтали о постановочном художественном кино.
И, как мне кажется, тут есть своё, если можно так выразиться, общественное объяснение, кроме того, что мы с Юрой оба увлекались и более или менее прилично освоили фотографию.
Дело, я думаю, ещё в том, что в наше время не было телевидения. Это чуть позже, года через четыре, поступив в университет, я окажусь в доме, хозяева которого только что осчастливили себя телевизором КВН с малюсеньким экраном, перед которым устанавливалась стеклянная выпуклая фиговина, наполняемая водой, этакая большая линза, чтобы крупнее всё видеть. Так что мы выросли в мире кино. «Важнейшего из искусств», как учил нас товарищ Ленин с младенческих лет. И мы с ним были полностью согласны.
Стояла удивительная пора, когда попасть в кинотеатр было не так-то просто. Если фильм новый и ты, к примеру, явился за полчаса до сеанса, то чаще всего фиг попадёшь, если кто-нибудь из опаздывающих не избавится от лишнего билетика.
А на вечер так вообще с утра покупали. Коллективные заявки делали – всей школой, целым заводом. За много дней вперёд. Тогда всё советское киноискусство выпускало в год по двенадцать фильмов от силы. По фильму в месяц. Нам из нашего возраста было не понять, почему так происходит, но мы других правил не знали и, ясное дело, претензий иметь не могли. Шли ещё трофейные, конечно. С времен войны, хотя уже исцарапанные до безобразия.
Так что каждый фильм показывали месяц-другой. Хорошие картины смотрели по нескольку раз не только мы, но и взрослые. Были даже киночемпионы, и не только среди ребят. Некоторые взрослые энтузиасты раз по двадцать – тридцать смотрели, к примеру, «Весёлых ребят». «Ивана Грозного», конечно, тридцать раз не посмотришь, одного хватает. А весёлое – любили. Потому что другого ничего не было. В театр ходить народ не очень-то приучен. Вот разве если в театр пивка свежего завезут. Но это ведь не обязательно, не всегда.
А в кинотеатре и оркестр с какой-нибудь поношенной солисткой перед сеансом, и пивко для мужчин – пожалуйста, не возбраняется. Ну, пивко, конечно, не про нашу честь, большинство ребятни по десять раз в кино лезут, чтоб весёлой сценки дождаться, похохотать себе в радость. Но были и такие, как мы с Юрой. Старались сходить на новый фильм днём, между школьными сменами, пока народу меньше. Потом не спеша поговорить. О кадроплане. О световых эффектах.
В газетных киосках тогда почему-то чуть не каждый месяц продавался альманах – «Сценарии американского кино». Он выпускался, видать, в короткий промежуток между концом войны и железным занавесом, пока мы ещё не поссорились с американцами, и сценарии эти было просто здорово читать. Короткие, стремительные, эффектные – сплошной запой.
Мы с Юрой их читали. А в библиотеках отыскивали редкие книги об операторском искусстве. Книги эти трещали в руках, потому что совсем новёхонькими их ставили на полки и они стояли там по нескольку лет, пока мы не оказывались их самыми первыми читателями. Так что два пацана под чистым воздействием искусства, сами, без посторонней помощи, сначала влюбились в кино, а потом стали пробовать к нему примкнуть.
Мы знали из книг имена известных операторов: Эдуард Тиссе, Анатолий Головня, Леонид Косма-тов, Андрей Москвин, Юрий Екельчик, Юрий Желябужский…
Кто знал тогда имена операторов? Артистов – все подряд. Режиссёров – истинные поклонники искусства. Операторов – только гурманы.
Юра каким-то образом установил связи с конторой кинопроката. Оказалось, в этой конторе, как в диспетчерской, распределяют ленты по кинотеатрам. И там, словно на заводе, есть ОТК отдел технического контроля. А в отделе работают люди, которые проверяют все плёнки подряд. И вырезают отдельные кадры и даже целые куски стригут обыкновенными ножницами. Дело в том, что перфорация рвётся. И тогда ленту может заклинить в проекторе. А этого допускать нельзя. И вот целые куски кино фильмов выстригают и умело склеивают каким-то особенным, склеивающим целлулоид клеем. Ну а лишнее сжигают, надо же. И вот Юра проник в святая святых. Выяснилось, что там работали не дураки, а люди, любившие кино. И у этих людей были целые коллекции узких, шестнадцатимиллиметровых, и широких, тридцатипятимиллиметровых кадров. Они собирали лица артистов. А нас интересовал кадроплан. Конечно же, не за взятку – какие у Юры взятки, – а просто так, из уважения к мальчику, который столь страстно любит кино, эти женщины с ножницами, никогда так и не увиденные мной, одаривали Юру, а значит, и меня кадриками из «Весёлых ребят», «Серенады солнечной долины», а чуть позже из «Тарзана» с великолепным Джонни Вайсмюллером в главной роли.
Но нас волновали не артисты. Мы с каким-то необъяснимым снобизмом уже считали их своими орудиями. Мы разбирали композицию. А мой старший мэтр Юра рисовал схему движения камеры и актёров. Мы раздобыли журнал с режиссёрской разработкой Сергея Эйзенштейна сцен для «Ивана Грозного», и Юра, судорожно сжав виски руками, отчаянно вздыхал над рисунками мастера. И мы чему-то уже научились, честное слово. Выходя из кинотеатра, мы говорили не про весь фильм, а только про работу операторов. И у нас получалось. Мы уже отличали мастера от подмастерья. Мы уже могли сообразить, что хорошо, а что посредственно.
С содроганием думали: неужели же ворота королевства не распахнутся перед его верными рыцарями?
19
Вот любопытно: Юра был трезвым и строгим, но он верил, что пробьётся. Я же, полная ему противоположность, хоть и надеялся, но, честно говоря, не верил, что меня пустят в институт кинематографии. Уж слишком велик замах, думал я. Не по Сеньке шапка.
А жизнь тем временем продолжалась, и как-то раз в конце всё той же зимы девятого класса я захватил фотоаппарат на тренировку лыжной секции. Как это часто бывало теперь, рядом шли какие-то соревнования, и мы сгоняли по пятикилометровой дистанции, по «пятёрке», для улучшения личных результатов, а когда отдышались после финиша, я увидел чуть подальше небольшую кучку ребят, которые запускали авиамодели на длинных таких шнурах, кордах, как я узнал полчаса спустя, когда брал самое первое интервью у чемпиона конопатого серьёзного пацана ростом на' голову ниже всех остальных. Смышлёный фаворит объяснил, что соревнования авиамоделистов вообще-то происходят летом, но вот нынче всем не терпелось и решили выйти с кордовыми зимой – они всё-таки на шнуре и у них взлёт с руки.
Я пацана, конечно, снял, а вечером плёнку про явил в закутке у Кимки и напечатал фотографии. Но это не всё.
Ещё днём, поражённый ярко-красными моделями на фоне белого снега и зелёной хвои, я решил, что отнесу снимок в газету. Ясное дело, краски на чёрно-белой фотографии исчезли, но не зря же мы с
Юрой упражнялись в искусстве композиции один кадр получился ничего себе, очень даже недурственным: конопатый пацан, без шапки, один глаз прищурил от солнца и как бы посылает в небо свою модель. В общем, после школы на следующий день я отправился в редакцию.
Легко сказать: я пошёл, я отправился, ведь чем ближе я подходил к старинному двухэтажному дому, где, говорят, до революции жил губернатор, а теперь была редакция, тем больше сложных мыслей во мне появлялось. Я придумывал, какие первые слова скажу, как объясню, почему сюда припёрся со своей фотокарточкой. «Ну, хорошо, – спросит меня какой-нибудь строгий дядька, непременно в очках, а какое именно отношение ты имеешь к авиамоделям? Сделал хоть одну? Или, может, крепко разбираешься в этом деле? Ах, просто снял, ха-ха ха!» Или начнут выпытывать, кто я и почему. Не дай бог, позвонят в школу, а что, откуда мне знать, как они, например, проверяют благонадёжность всяких там людей, зашедших к ним прямо с улицы? Ведь, наверное, кто-то как-то каким-то образом поручается за то, что фотография или, пуще того, заметка эта не липа какая-нибудь, а правда. А то взял, снял дружка своего с авиамоделью и выдал его за чемпиона.
Никогда я не задавал себе раньше таких вопросов, нужды не было, и чем ближе я подходил к старинному, в приятный кремовый цвет покрашенному зданию, тем как-то муторнее в голове было. Да на фига это надо, думал я. Подумаешь, какой-то конопатый с моделью, кому он нужен!
В общем, сердце у меня колотилось как бешеное, и перед самым входом дверь, на везуху мне, отворилась, в ней остановился какой-то сморщенный мужик и чего-то кому-то стал говорить себе за спину. Пришлось пройти мимо, не станешь же ждать, пока он продвинется вперёд или назад. Я независимой походкой прогулялся до угла и, устыдив себя за нерешительность, сделав усилие над собой почти физическое, вошёл в дверь.
За ней оказалась небольшая прихожая, я спросил, как пройти в молодёжную газету, тётка, вязавшая варежку, кивнула головой, указывая на ряд дверей, и я двинулся вдоль них, разглядывая вывески.
Самой подходящей мне показалась табличка «Секретариат», я стукнул, кто-то негромко произнёс – «да, да», – я вошёл в комнату и увидел местную знаменитость поэта Загородского.
Когда-то, впрочем, уже давно, он приходил в нашу школу на вечер, посвященный какому-то красному дню календаря, читал стихи, посвященные дате, и мы, мальчишки, восхищённо хлопали человеку, способному составлять обыкновенные слова в гладкие стихотворения. Поэт сообщил, что работает над книгой лирики и намеревается закончить её в самое ближайшее время, и это тоже внушило нам непонятное волнение, наверное, потому что даже само слово «книга» было связано в нашем воображении с чем-то замечательно далёким, например, Москвой, ведь книги, по нашему убеждению, выпускались там, но тут вот, оказывается, и наш, местный, поэт дерзает просто-таки у нас под боком, и мы об этом даже не подозреваем – какая замечательная личность.
Впрочем, признаюсь, это были мои «докогизовские» воспоминания, наверное, поэт Загородский приходил к нам в школу незадолго до моего знакомства с Изей Гузиновским. Однако из сферы моего литературного внимания поэт теперь не выпадал, уж несколько-то раз в году, к праздникам, то одна, то другая газета – а всего их было в нашем городе две – печатала его складные стихотворения. И мне, честно говоря, казалось, что поэт должен находиться где-то всё же подальше от обыкновенной жизни, может быть, в каком-нибудь санатории, что ли, спокойно жить, ходить по аллеям старинного парка, наблюдать величественный расцвет природы и думать необыкновенными мыслями. Но вот он был передо мной, приветливо, будто знакомому, улыбался, и я тотчас обрадовался совпадению моих представлений с реальностью. Что ж, редакция вполне даже необыкновенное место, тут составляют газету и живут очень непохожей на всё остальное жизнью.
Загородский сидел за столом, сзади в затылок ему било солнышко, и редкий его седоватый пушок освещался розовым ровным светом, создавая волнующий нимб.
Профессиональный кинооператор или хотя бы начинающий фотограф сказал бы, что здесь хорошо поставлен свет: лучи, бьющие из окна в затылок поэта, лицо его в тени не оставляли, потому что близко к нему наклонялась настольная лампа с изогнутой шеей, а яркий свет, идущий от неё, упирался в толстую кипу бумажных листов, запечатанных машинописным текстом, и, отражаясь, освещал улыбчивый, одутловатый, почти женский лик.
Разглядеть как бы со стороны самого себя мне было гораздо сложнее, впрочем, и так ясно, что у меня далеко не геройский вид, что, может быть, я мнусь у порога, хватаю ртом воздух и вообще не решаюсь произнести первые слова своего объяснения, потому что как только об этих словах начинаешь думать, составляешь их в складные предложения, они, будто у последнего тупицы, исчезают напрочь. Он помог мне:
– Вы что-то принесли нам? – сказал он вкрадчиво и доброжелательно. – Наверно, стихи?
– Нет, фотографию.
– О! – воскликнул он. – Неожиданно! Чаще мне несут стихи!
Вот так, воркуя какие-то необязательные слова, он протянул руку за моим конвертом из-под фотобумаги, достал снимок, по-прежнему улыбаясь, покивал, а я уже и понять не мог, когда незаметно для себя заговорил, спокойно объяснив, что за соревнования и кто на снимке и почему это показалось мне интересным.
Любопытно, – ободрял он меня, информативно! Приятный снимок, у нас ничего такого нет, обязательно напечатаем! И не позже, чем в следующем номере.
Чего-чего, а такого я не ожидал. Я ликовал! Я купался в неге нежданного доброжелательства! Я вообразить не мог, что на белом свете есть такие приветливые люди! И это же не просто вежливость, но ещё и очень важное для меня решение! Поступок! Мой снимок обещают напечатать.
Владимир Владиславович так звали по имени-отчеству нашего знаменитого земляка – приблизил меня к столу, усадил к нему, дал лист бумаги, велел написать имя авиамодельного чемпиона, какого рода были соревнования, в каком месте они происходили, а также какого числа. Так я получил первый урок начинающего репортера, согласно которому всегда надо было отвечать на три вопроса: что, где, когда.
Пока я писал, мой благодетель вышел и через минуту привёл лысого худого дядьку, на локтях которого топорщились чёрные нарукавники. Подняв очки на лоб, он долго разглядывал мою фотографию, кивал головой, хмыкал, и я понял, что идёт какая-то дополнительная оценка моего труда, похоже, ещё более профессиональная, наконец худой внимательно посмотрел на меня и произнёс вердикт:
– Похвально, молодой человек. Ретушировать придётся совсем легонько.
Так я познакомился с ещё одним важным в моём деле лицом ретушёром Константином Олеговичем. И никогда не иссохнет моя благодарная память о двух добрых людях.
Через день я поднялся раньше обычного и пошёл не к школе, а к Главпочтамту. В киоске я купил газету, нашёл на четвёртой странице свою фотографию, купил ещё десять, а подумав, ещё десять. Двадцать один экземпляр. Весь день я прожил в очень приятном благорасположении, всем улыбался, каждую перемену отыскивал взглядом в коридоре моего тайного мэтра, корифея операторского искусства Юру, но только раз приблизился, спросив, домой ли он направляется тотчас же после уроков или же в любезную нашим сердцам контору кинопроката. Оказалось, домой, и я раздумчиво покивал, обещав заглянуть, но ближе к теме приступать не стал, дабы не испортить неспешной и, как мне казалось, приятной встречи.
Газеты, целый ворох, жгли портфель. Казалось, ещё немного, и он задымится. Едва дождавшись конца уроков, я кинулся домой. Требовалось побыть одному.
Боже, как я наслаждался своим скромным творением! Сперва я рассмотрел снимок и подпись с моей фамилией под ним просто как обычный читатель. Потом вгляделся в подробности – видна ли ретушь. Увы, она была очень заметна. Потом я разложил все газеты веером и с удивлением обнаружил, что почти в каждой газете есть едва различимые отличия. В некоторых случаях снимок был гуще и чернее, а в некоторых – светлее, и светлые отпечатки оставляли лучшее впечатление.
Наконец я отправился к Юре. Он был удивлён и, мне кажется, самую чуточку задет. Какой-то не-выговоренный вопрос всё время витал в нашем разговоре. Он оценивал кадр, прикладывал к газетному отпечатку ладонь, примерял, как лучше скадриро-вать снимок, но, как ни прикладывай, ничего не отрежешь, если не хочешь резануть по руке или щеке. Ещё Юра выразился в том духе, что он меня, конечно, поздравляет, но этим нельзя увлекаться. Операторский кадр совсем другое, нежели газетная работа. От него ждут художественности. А тут всё уничтожит газетная злободневность. Правда, в данном случае – более или менее.
Я заметил Юре, что надо бы нам попробовать что-нибудь вдвоём. Для ВГИКа снимок-другой в газете не помешает. Надо обдумать заранее тему, композицию, поставить кадр, как если бы это было в киностудии, и – пожалте. Чем худо?
Он, не задумавшись, сразу согласился, и знаю, что никакой задней мысли в этом скором согласии не было. Я его просто убедил.
Не такой Юра человек, чтоб завидовать. Удивиться он мог, но только не завидовать.








