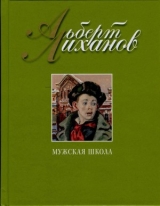
Текст книги "Мужская школа"
Автор книги: Альберт Лиханов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
4
В общем, жизнь моя набирала обороты, всё уплотняясь, ведь, скажем, фокстрот по-гамбургски вовсе не отменял тренировки в двух секциях, а забота об эстафете – библиотеку и интеллектуальные собеседования в очередях к книжному магазину, состав которой менялся, а суть оставалась прежней.
Просто если раньше я не знал, куда девать время, будто какой-то крез, то теперь мне его хронически не хватало, и волей-неволей возникал скоростной режим. Уроки приходилось готовить стремительно и порой небрежно, однако это сходило с рук, и двоек я почти не получал пожалуй, у меня в глазах учителей уже образовался некоторый авторитет, не позволяющий обходиться со мной небрежно. Троек, правда, хватало, но ведь были и полные победы, скажем, на литературе я блистал помогала библиотека и даже вовсе не знание школьной классики, а всего, что я начитал, необязательного и второстепенного для уроков, но, видать, нужного вообще-то для каких-то таких невидимых взору качеств. Думаю, дело в том, что человека начитанного всегда легко можно отличить от читавшего только то, что положено по программе, и эту начитанность за версту чувствуют учителя. Они запросто могут доказать, что ты, к примеру, не прочитал Тургенева, да рука не поднимется ставить пару из-за этого предчувствия: зато читал много другого и тебе дают выговориться, импровизируя. Чаще всего это удаётся.
Короче, жизнь мчалась, дома я появлялся только чтобы поесть, выучить уроки, снова поесть и завалиться спать, и мои отношения с родными сошли на нет. Маму устраивал мой дневник всё родительское время пожирал прожорливый братишка, и отец, таким образом, тоже был отключён от меня. Я наслаждался новой свободой, уже не детской, чаще всего мнимой, а вполне серьёзной, почти взрослой, когда ты сам отвечаешь за себя и должен помнить, что через полчаса встаёшь и уходишь, что ещё через два часа надо быть готовым к тренировке и что завтрашний вечер занят танцами с Владькой, а через день вместе с Негром вы устраиваете тренировочную эстафету. Как будто вовсе независимо от тебя внутри твоей души или, может, головы? образуется этакая система координат, точно в геометрии, где сами собой вспыхивают контрольные точки, подчиняться которым тебя никто не заставляет… Кроме тебя.
В эту жизнь, хоть и закрученную, но всё же размеренную постоянством часов тренировок, танцевальных разминок и библиотечных аутов, всегда нежданно врывались новые знания и впечатления, не то чтобы менявшие меня, но как бы вносившие в моё сознание потрясающие поправки, о которых я думал и день, и два, или вовсе даже не думал, и они как будто тонули в памяти, чтобы потом, в один нежданный миг, вынырнуть из неё и напомнить о себе.
Однажды мы с Кимкой опять оказались у него двоём, точнее, втроём с глуховатой бабушкой, но на по обычаю вязала, улыбаясь сама себе, и Кимка поманил меня к радиоприёмнику. В редком доме бы-и тогда радиоприёмники, и я отлично помню эту Кимкину гордость – прямоугольный пластмассовый «Рекорд» с зелёным дрожащим глазком. Этот глазок, внутри которого в зависимости от громкости звука то расходился, то сужался ярко-зелёный сегмент, был для меня самой замечательной точкой приёмника до того вечера. Словом, Кимка поманил меня к нему, посмотрев зачем-то сначала на часы, икавшие в углу, включил «Рекорд», а когда тот, разогревшись, зашипел, принялся осторожно крутить ручку настройки. Я вслушивался, улыбаясь, в голоса далёких радиостанций, передававших музыку, иностранные слова, писк морзянки и вдруг, сквозь ой, уловил русскую речь с акцентом. Сперва я не обратил на это внимание, но Кимка замер, и я понял, что он, напрягаясь, вслушивается в эту речь. Прислушался и я боже, что там говорили! О сталинских концлагерях, которые напоминают фашистские, о том, что во многих районах Советского Союза люди умирают от голода, особенно в сельской местности, и повсюду притесняются евреи, которые не допускаются к государственным должностям.
Кимка щелкнул ручкой, выключил «Рекорд», а я выдохнул:
– Что это?
Тс-с-с! – Кимка прижал палец к губам и показал глазами на дверь. Как сейчас помню, это был конец восьмого класса: ранняя весна и полумесяц, будто нарисованный на плотно-синем небе. Рядом с Кимкиным домом был сквер, мы молча зашли туда, уселись на лавочку, и Кимка, пару раз привстав, оглянулся. Когда он успокоился, я повторил сказанное в комнате:
– Что это?
«Би-би-си», ответил он. А может, «Голос Америки». Такие радиостанции говорят по-русски.
– Но это же враги! – воскликнул я. Они врут?
Кимка повесил голову и замолчал. Потом спросил:
– Ты умеешь держать язык за зубами?
Как-то он очень необычно это проговорил. С хрипотцой, которой я никогда прежде не слышал. Очень по-взрослому. И наверное, это заставило меня ответить ему серьёзно и в том же духе:
– Надеюсь.
– Дай слово, что никому и никогда, – сказал Кимка, не поднимая головы.
– Даю, – ответил я, вздохнув.
Ну так вот, повернулся он, а как ты думаешь, я, например, враг?
– Ты? – всхохотнул я.
Но Кимка смотрел на меня всерьёз.
– Да, я. Или мой отец? Или моя мать? Не надо меня разыгрывать, сказал я. Я не шучу, ответил Кимка. Ты знаешь, что я родился в Акмолинске это Казахстан? Я помотал головой.
А как я там, русский, оказался? Да потому, что мою мать и моего отца судили как врагов народа, они ещё совсем молодыми были, студентами института Лесгафта в Ленинграде, так их обвинили, что они заговорщики-монархисты, что они хотят назад царя поставить, понял, какая чушь?
Кимка проговорил это торопясь, глотая окончания слов и поминутно озираясь. Потом подуспокоился: Ничего доказать не смогли, но всё-таки их судили, понимаешь? И выслали в Акмолинск. Мы ведь сюда только перед самой войной приехали.
Я был поражен. Кимка-то уж, ясное дело, никакой не враг, да и Васильевичи – за царя? – никогда я никаких намёков даже не слышал, да и причём здесь царь – они спортивные тренеры, вот и всё. Полная выходила чепуха.
– И что теперь? – спросил я Кимку. Не знаю, ответил он. Они отбыли срок, вот и всё. Судимость не снята. И он проговорил, разделяя, даже чеканя, слова. Разве можно быть – в чём-нибудь – уверенным?
От Кимки вообще веяло чем-то неизвестным мне, какой-то жестокостью, может быть. Я никогда раньше не видел его таким. Ведь он был внимательным и со всеми покладистым, не задираясь никогда и ни с кем. «Может, поэтому он и такой, – неожиданно подумал я. – Может, просто ему нельзя ни с кем связываться по всяким пустякам?»
– Ну а радио? – спросил я. Это же враньё. Про Сталина и лагеря. Если даже они и есть, то он-то про это наверняка не знает. Как ты считаешь?
Кимка опять огляделся, потом сказал, понурясь:
– Плохо, если не знает.
Поднявшись, мы побродили в окрестностях Кимкиного дома, но к странной теме больше не возвращались, обмениваясь какими-то незначительными фразами.
Прощаясь, Кимка вдруг шумно выдохнул, будто вот так и бродил весь этот час с полными лёгкими и только теперь освободился, сказал, заглядывая мне в глаза:
– Вообще-то это всё не нашего ума дело. Сперва надо вырасти. Потоптался смущённо, будто чувствовал себя виноватым. Я ни с кем о таком не говорю, учти. Это первый раз. И тебе не советую.
Уже дома, засыпая и перебирая перед сном слова, сказанные Кимкой, я почувствовал, что он меня как бы предупредил. И не только про свой дом, но ещё и про «Рекорд». Получалось, он не очень верил мне. Да разве же настоящие друзья предупреждают о таком? Я попробовал обидеться на Кимку, но тут же простил его. Даже если его родители в чём-то и виноваты, то он-то при чём? Мне тут же стало стыдно своего отступничества. Родители моего друга не могут быть врагами, если я верю этому другу. А я верил. Значит, должен был верить и родителям, вот и всё.
И ещё я думал про Сталина. Никогда я раньше о нём не думал – ведь он вождь, и к этим портретам, развешанным повсюду, я просто привык, как, скажем, привыкают к знакомым улицам, стенам, коридорам, партам. Усатый человек с приветливой полуулыбкой поглядывал на нас отовсюду, и мы тогда не знали, что может быть ещё как-нибудь иначе. Всё хорошее соединялось с его именем, и это хорошее достигало даже нас. К примеру, когда объявлялись выборы, в школе пораньше заканчивались занятия, и целые бригады взрослых, откуда-то пришедших мужчин, составляли столы в длинные ряды, обтягивали их красной материей, навешивали над крыльцом флаги и транспаранты, – но главное наступало в самые выборы: с утра до вечера в школе работал буфет, где продавались разные вкусности: от булочек-насыпушек – их называли так, потому что сверху были насыпаны какие-то сладкие крошки – до шоколадных батончиков, бутербродов с невиданной колбасой и даже пирожных. В этот день все, включая буфетчиц, разговаривали с вежливой улыбкой, и мне казалось, что когда-нибудь в будущем люди не только в день выборов, но и всегда, во все другие дни, будут жить вот так вкусно и дружелюбно.
Мне могут заметить, что это уж какое-то очень наивное представление о будущем, в конце восьмого класса можно было бы уже что-нибудь посущественнее сообразить, но я возражу таким образом: в те годы я, да и не только я, а пожалуй, и многие взрослые как бы сторонились любых далеко идущих размышлений. Никто думать ни о чём не хотел, кроме как о работе, доме, семье, знакомых, кинофильме, словом, об окружающем. Наверное, потому, что каким-то таким негласным образом было хорошо известно, что раздумья о вещах, касающихся чего-то там ещё, ничем хорошим не кончаются. И если существует, к примеру, физическая неразвитость, то да – я, как, впрочем, и многие другие, страдал политической неразвитостью. И я подумал перед сном, что Сталин-то не может ошибаться, да ведь страна большая, и разве за всем уследишь? В общем, минуточку поразмыслив про вождя, я поймал себя на мысли, что это всё очень далеко от меня, от моей, да вообще от всей нашей жизни, – и облегчённо вздохнул, засыпая, так ни до чего серьёзного и не додумавшись…
5
Тем временем я чувствовал, что меняюсь. Однажды на тренировке я просто физически ощутил какую-то необыкновенную свою слаженность. Руки и ноги, казалось, налиты силой и неощутимой ранее энергией, и два часа нагрузок вовсе не истощили, не утомили меня, а напротив, я стал как будто ещё сильней. В раздевалке я посмотрелся в зеркало: на меня глядел не голенастый пацан, а мальчишка с крепкими плечами, узкой талией и мускулистыми ногами. Я гюбоксировал со своим зеркальным отражением и впервые подумал о своей внешности: её следовало усовершенствовать. Например, раз торчат уши, требуется подлиннее отпустить волосы, теперь это не возбранялось. И пожалуй, не ходить как кочану с грядки, а сделать пробор. В эти дни я сам купил свою первую расчёску.
Вообще прихорашиваться, особенно прилюдно, было в ту пору для нас делом не вполне приличным, что ли. Не знаю, как там девчонки в женских школах, а пацанам – что в школе, что в чужом доме – было достаточно провести пятернёй по собственной голове, чтобы показаться, так сказать, причёсанным. Объяснялось это, как я уже говорил, солдатской противо-вшивой стрижкой, так что большинство из нас о расчёсках понятия не имело, а в старших классах, когда кое-где и кое-кому удавалось достичь временных послаблений и подстричься – не у легендарной Никаноровны, конечно, – оставляя хоть часть волос, бриолиниться, одеколониться или хотя бы причёсываться потщательнее, организуя, к примеру, пробор, было если и не признаком слабости, интеллигентничания, то явным выдрючиванием, не одобряемым мальчишечьим обществом.
А я вот решился. И Кимку сагитировал. Всё в том же фотографическом закутке, притащив бритвенное зеркальце Вячеслава Васильевича, мы мочили волосы водой и тщетно старались проложить в них пижонский пробор. Пока волосы были мокрые, ещё что-то получалось, но стоило им подсохнуть, как непокорная шевелюра опять съезжалась в лохматую копну.
Но ничего. Мы уже знали, что для достижения всякой цели требуется упорство.
Где-то в ту же пору Кимка пригласил меня на вечер дружбы восьмых классов. Он учился в тридцать восьмой, мужской, конечно же, школе, и вот тамошние мальчишки, чтоб не затеряться среди совершенно чуждых уже интересов девятых и десятых классов, решили отделиться и призвать в гости восьмиклассниц из своей «парной» двадцать девятой женской. Я подумал, поспрашивал Кимку, как это будет воспринято, ведь я всё-таки из другой мужской школы, и получается, что я как бы внедряюсь в чужую зону, но Кимка успокоил меня, сказав, что я буду в гостях, на правах друга. Обнаглев, я предложил, чтобы вместе со мной был приглашён и Владька Пустолетов, мой неразлучный напарник по фоксу, но получил отказ, потому что по правилам тридцать восьмой школы каждый имел право пригласить всего по одному гостю.
Надо признаться, что поначалу на том вечере я чувствовал себя неважно – да и как может быть иначе на чужой территории? Незнакомые стены, пол, неизвестные лица, да ещё девчонки из совсем уж незнакомой школы. Правда, приглядевшись, я узнал несколько более или менее знакомых: тут было пацана, может быть, три из секции Васильевича, оказалось, что и несколько девочек из двадцать девятой тоже занимаются у нас. Ну и Кимка как-то незаметно расширял круг моего знакомства: к нам подходили пацаны, и, вовсе не представляя меня, как делают это джентльмены в трофейных фильмах, мы заговаривали на самые неожиданные темы с эти-и пацанами, а уж потом, как бы за кулисами, я узнавал у Кимки, кого и как зовут, как и они, похоже, узнавали кое-что про меня. К тому времени у нас появилась мужественная возможность выделиться. По разным видам спорта в ту ору выпускались значки разрядников, и у нас Кимкой на курточках с кокеткой – они назывались московками, красовалось по паре таких значков: вторые разряды по лыжам и лёгкой атлетике.
Нет, что ни говори, мальчишечье общество во все времена признает законные авторитеты. Если ты честно, у всех на глазах чего-то достиг, добился, сумел да если ещё это что-то выражено скромным знаком отличия, к тебе относятся с подобающим уважением. В этом есть своя справедливость. Но и несправедливость ведь тоже. Разве мало достижений, за которые не дают никаких значков? Но в тот час всё это обходило нас стороной, я оживлённо поддерживал любые темы, подносимые нам с Кимкой его однокашниками, пожиная косвенно выражаемое уважение и признание, потом грянула радиола девчонки танцевали с девчонками, а мальчишки с мальчишками, я в два счёта обучил координированого Кимку фоксу по-гамбургски, а потом принялся, по их, конечно же, убедительным просьбам, обучать других, ранее неизвестных мне пацанов, и дело кончилось тем, что ко мне подошёл жилистый учитель в офицерской гимнастерке, галифе и сапогах, да ещё и с чёрной повязкой, прикрывающей глаз, и, несмотря на мои знаки отличия, стал с пристрастием допрашивать, кто я и откуда тут возник с такими танцами.
Пацаны накинулись на него, подпирая меня плечами, не замедлил возникнуть и Кимка, пояснивший, что я его личный гость из шестнадцатой школы, между прочим, председатель коллектива физкультуры.
А! разом расслабляясь, сказал одноглазый учитель. Ну ладно. И вдруг спросил меня, как равного: – К эстафете-то готовы? Сколько команд выставляете?
– Одну, – ответил я облегченно.
Он хохотнул и оглядел своих пацанов гордым взором.
– А мы – две!
И хоть танцы продолжались, были они мне уже не в радость. Я сжался внутренне и ощутил себя лазутчиком на вражеской территории. Этак небрежно я расспрашивал Кимку, кто и на каких этапах бежит хотя бы из этих восьмых классов, он показал мне двух или трёх мальчишек, и я привередливо оглядывал их, сравнивая с достоинствами моих гладиаторов. Нам предстояло помериться силами, ревность конкурента бродила во мне, и я уже не радовался новым знакомцам, ощущая в них врагов, с которыми нам придётся столкнуться не только на эстафете.
6
Забегая вперёд, сообщу нетерпеливому читателю, что эстафету всё-таки выиграли мы, хотя событие, происшедшее сразу же вслед за ней с участием победителей, просто вывернуло меня наизнанку. А мы с Негром так старались! И можно сказать, выиграли-то её благодаря тактике, смешанной со шпионажем.
Ну, про две команды тридцать восьмой я рассказал учителю на следующий же день, а ещё через денёк Негр достал где-то потрепанный «козлик», и мы с ним занялись настоящей, без дураков, разведкой. Дело в том, что Кимка не явился на тренировку, заранее, не скрывая ни от кого, предупредив кого только мог, в том числе и меня, что в этот же час они тренируются на трассе эстафеты. Никакого тут секрета в общем-то не было. Тренировались все команды, не только школьные, ещё раз повторюсь, что к эстафете в городе относились серьёзно, и я, между прочим, обронил нашему Негру, что вот, мол, такое дело.
И тут он всполыхнул. Конечно, это был не очень-то серьёзный шпионаж. Можно сказать, скорее даже просто самоконтроль, потому что нашей команде тоже надо было тренироваться, майские праздники уже отшумели, ещё день-два, и пожалте на старт. Словом, Негр достал «козлик», вооружился секундомером, усадил рядом секретаря, то есть меня, и фиксировал: кто какой этап за сколько пробегает. Пока тренировалась наша команда, я с ним на машине, ясное дело, не ездил, но в тот же вечер бежали и другие школы. И вот тут я подсел к учителю.
Наш «козлик» крался в весенних сумерках вслед за бегунами, Николай Егорович щёлкал секундомером, быстро называл время в конце каждого этапа, потому что секундомер у него был один и приходилось очень быстро фиксировать каждый финиш, смотреть время и включать хронометр снова.
В общем, после тренировки мы здорово скисли. Неизвестно, как там у других школ, но тридцать восьмая нас обходила. Причём секунд на пятнадцать, а это немало. Разрыв метров в сто.
Как я говорил, из нашей школы тренировалось человека по три-четыре на каждом этапе. И выходило, что у нас слишком много выносливых ребят и слишком мало быстрых. Короткие этапы мы проигрывали. А на длинных, особенно тягунках, идущих в горку, обыгрывали. Самое вроде трудное у нас получалось, но выигрывали конкуренты.
– Так, так, так, – нервничал физрук, – до чего-то мы не дотумкиваем. Нужна тактическая хитрость.
И он выдумал. Во-первых, мы тоже выставили две команды. Причём как бы переставили их местами. Сильную первую назвали второй, а ту, что послабее, – первой. При этом пожертвовали ферзём знаменитым Женей Багиным. Перед этим, правда, состоялся задушевный разговор при закрытых дверях – Женя, учитель и я. Женя, молодец, сразу понял, что нужна жертва, в конце концов, он не мог выиграть эстафету один, и появлялась такая ценность, как команда, ничего не попишешь, а согласившись, завёлся, как того и следовало ожидать. Одним словом, Женя был нашим козырем, чемпионом области среди юношей на восемьсот метров, а первый этап эстафеты всегда устраивали подлиннее чтоб слабые отстали, бегуны растянутся, и будет легче передавать эстафетную палочку.
Второго, равного Жене, конечно, у нас не было, но Сашка Кутузов отставал от него совсем ненамного, конкуренты из других школ не годились в подмётки им обоим. Вся интрига была в том, что Женя должен побежать сразу очень быстро, как на стометровке, за ним, ясное дело, рванут в азарте соперники, а Сашка побежит не в толпе, которая держится у левого тротуара, а как раз с правой стороны, и выпадет из внимания, пойдёт чуть тише, с расчётом на среднюю дистанцию, ведь этап-то шестьсот метров. Так что Женины конкуренты вместе, впрочем, с ним «сдохнут», а Сашка в правильно выбранном темпе первым принесёт эстафетную палочку. Следующий этап – очень короткий, всего двести пятьдесят метров. И вот на нём мы не должны потерять преимущество.
Легко, конечно, сказать: не потерять там, где мы слабее. Но две, три, пять секунд на коротком этапе, это все десять – на длинном. И тут весь фокус в том, удастся ли обман, или, вежливее говоря, тактическая уловка. Чтобы первая команда тридцать восьмой клюнула на нашу хитрость и рванула за первой же командой шестнадцатой. А вторую проморгала. Так должно было произойти по нашему тайному плану.
Дальнейшее мне неизвестно. Картину действительного события мы восстанавливали по рассказам бегунов, потому что школьный учитель физкультуры был лицом заинтересованным и в судейской машине, идущей за бегунами, присутствовать не мог, я стоял на своем этапе и бежал на финишном отрезке за вторую, то есть сильнейшую команду. Этап у меня был короткий, спринтерский.
Похоже, у нас получилось, что касается тридцать восьмой. И Сашка Кутузов, как планировалось, вырвался по правой стороне дороги, пока лидер тридцать восьмой аккуратно следовал за Женей Багиным, и потом мы удержали лидерство, но в интригах с единственным противником проворонили команду четырнадцатой школы, пятки которой вдруг замаячили перед нами. Только на предпоследнем этапе мы снова выскочили вперед. А на последнем я шёл в паре с Кимкой, надо же. И принял эстафету первым, вплотную за мной парень из четырнадцатой, метрах в десяти – Кимка.
Ну я рванул! Бежать было неудобно это не стадион, на ногах не шиповки, плотно входящие в гаревую дорожку, а резиновые тапки, и пятки отбивает асфальт, хотя туда и подложены мягкие прокладки. Но хуже всего, что ты первый: как он там, за спиной выдохся или, наоборот, набирает силы, подтягивается вплотную, чтобы, напрягшись, рвануть вперёд, обойти на последних метрах?
Хотя этап знаком до последней выбоины, оборачиваться нельзя – ведь тут каждое мгновение важно только вперёд, только к цели, каждый мускул, даже самый пассивный, должен быть напряжён и работать на бег.
Шаги за спиной стихли, но потом послышались вновь. Их удар, их частота были другими, как будто бежал совсем другой человек. Я собрал все силы, рядом мелькнуло лицо Николая Егоровича, искаженное криком:
Раз-два, – кричал он. Чаще, чаще! задавал мне ритм.
Потом толпа прямо перед тобой, а метров за пять перед нею белая черта, финишная ленточка. Я собрал остатки сил и вмазался в неё. Сзади меня шлёпнули влажной рукой, я обернулся: Кимка. Он был вторым, четырнадцатую всё-таки обштопал. Надо же но я-то проиграл! Он сократил десять метров, секунды, наверное, четыре, но, по сути, обошёл меня по времени, и только разрыв, с которым я принял эстафету, позволил нам выиграть.
В общем, было бы над чем пострадать, однако в школе, куда мы собрались более чем возбуждённые своей победой, произошло нечто невероятное.
Негр чего-то упёрся в кладовку, где у него хранился разный инвентарь, а в классе, где собрались обе команды и было очень шумно и тесно, вдруг появились три бутылки шампанского, с треском вылетели пробки, с хохотом, прямо из горлышка, победители стали глотать пенистое пойло и то ли от усталости, то ли оттого, что с утра никто не ел, некоторых ребят тотчас повело – гул приобрел какой-то новый, надрывный тон, и надо же тут было появиться этому Фридриху. Впрочем, Фридрих Штейн из девятого «б» зашёл, чтобы поздравить с победой, маленький, ярко-рыжий шахматист, чемпион по мозгам, школьная, в общем, гордость, потому что он первым заработал значок перворазрядника – словом, сперва две команды, сорок глоток, заорали, приветствуя Фридриха, но это был дикий и опасный крик. Фридриха подхватили и начали подбрасывать к потолку, да так сильно, что он стал вмазываться в этот потолок и орать. Его форменный китель, с которым он не расстался и в это эстафетное воскресенье, покрылся белыми пятнами от потолочной побелки, и в общем крике я увидел его застывшие от ужаса и недоумения глаза и открытый розовый рот.

Я заорал, приказывая прекратить, но моего голоса никто не услышал, я рванулся в толпу, но до центра, который выплёвывал вверх рыжего Фридриха, протолкаться не сумел. Потом в какое-то мгновение Фридрих оказался на учительском столе я просто увидел, что его больше не подбрасывают, хотя по-прежнему дико орут, – затем толпа рассыпалась, свалилась с парт, вытекла из проходов, давясь в дверях, кинулась на выход, и тут я увидел Фридриха. Брюки его были расстёгнуты и приспущены, и он подтягивает мокрые трусы мокрые, надо же! – от чернил. Рядом валялась раскрытая непроливайка.
Он не выл, не кричал, не ругался. Он свалился с этого проклятого лобного места, подтянул брюки, невидящим взглядом осмотрелся, стриганул лезвием голубых глаз моё лицо и выскочил в коридор.
Я выбежал вслед за ним, но прошла уже целая минута, целая вечность.
Я поймал себя на мысли, что это уже было. Было со мной когда-то. Вот так же я бежал сквозь коридор, к стенам которого прислонились злые мальчишки. Только теперь они кричали мне приветливые слова, звали остаться, спрашивали, смеясь, – ты что, шуток не понимаешь?
Я понимал. Всё понимал. Только они мне были отвратительны. Значит, эстафета, тренировки, дружба это всё фальшь, хамелеонство, а настоящее вот такое… Этому даже не подобрать слов нет, это не издевательство над слабым, над своим же товарищем, конопатым Фридрихом, это что-то похуже и по-страшнее, и хотя я не знал слова, которым это называлось, меня сотрясало, меня выворачивало не от глотка же шампанского, в самом деле…
Вот к нам пришла победа – это правда. Мы добились её сообща. И теперь изгадили её, оплевали. Так чего же стоят такие победы?
Мне хотелось заплакать, но не получалось, видно, я уже вырос. Идти к Фридриху и извиниться за всех? Но кто же простит? Разве можно простить такое?
Я убежал домой. А вечером не пошёл даже к Ким-ке, ведь ему всё следовало рассказать, а как расскажешь и, главное, объяснишь происшедшее?
Я лёг, взяв какую-то книгу, но строчки сливались, плыли, я засыпал, просыпался, снова засыпал, пока, наконец, проснулся в сумерках.
Вошла мама. Спросила: Ты не заболел?
Потом взяла в руки нарядную грамоту за первое место с силуэтами двух вождей в золотом овале, сказала:
– Поздравляю! Что же ты невесёлый?
– Да так, пробормотал я. И вдруг даже для себя неожиданно спросил: Почему люди такие жестокие? Будто мама могла знать ответ. Она усмехнулась:
– Потому что они люди…
Как просто у неё получалось… Как просто и как сложно.








