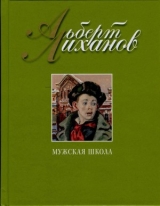
Текст книги "Мужская школа"
Автор книги: Альберт Лиханов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 27 страниц)
Приглашение к чтению

Дорогой друг!
Книгу, которую ты держишь в руках, написал известный писатель, наш современник Альберт Анатольевич Лиханов. Им немало создано для тебя за 50 лет творческой жизни – и повестей, и даже романов.
В каждой книге всегда присутствует тайна, загадка. И тайна это жизнь героя, о которой поведал нам автор.
У Лиханова не простые книги. Так и эта. Будешь читать её и не раз улыбнёшься, даже рассмеёшься вслух, а порой и взгрустнёшь, запечалишься, – ведь не всё в жизни гладко, и попадают его герои в чрезвычайные жизненные обстоятельства.
Наверное, и с тобой, или с твоими друзьями, это случалось или может случиться.
Жизнь это ведь не только розовые облака и не всегда голубое небо, бывает, и гроза соберётся и ударит над головой.
Надо ли быть готовым к этому?
Писатель считает: надо.
Больше того, он полагает, что маленький человек, подрастая, должен научиться постоять за себя.
Конечно, это трудно сделать, если тебя не понимают или чего-то важного ты не можешь понять. Писатель считает, что его книги должны прочесть и вы, дети, и взрослые, которые рядом с вами. Он считает, что мосты должны не только через реки строиться, но и через непонимание. Он верит, что занимается строительством мостов от младших к старшим и наоборот.
Дети по предназначению своему на Земле изначально созданы для добра – они должны научиться защищать, отстаивать это добро и побеждать зло.
А ещё каждый человек создан для любви. И за любовь свою тоже надо уметь сражаться.
Читайте и набирайтесь мудрости и сил.
Издательство
МУЖСКАЯ ШКОЛА
Роман

Рисунки С. Острова
Часть первая
ДРЯННЫЕ МАЛЬЧИШКИ
1
Как кончается детство? Как и когда, в какой день и в какой миг оно отлетает от нас?
Вот ведь смешно кого и сколько об этом я ни спрашивал, никто ничего толком не помнит. Одни говорят, это случилось в седьмом классе, другие вспоминают ремеслуху. Мой старый знакомый, когда я стал тянуть из него жилы, ответил, нахмурясь и отворачивая взгляд: «Когда мать померла», – и мне стало неловко от того, что своими разговорами заставил его снова вернуться туда, где было ему горько и одиноко, хотя сейчас он вполне благополучный человек.
И вот что я ещё установил. Мало кто точно называет это мгновение – когда кончилось его детство, но все замечают, что кончилось оно, столкнувшись если и не с бедой, то с чем-то очень трудным.
Правда, одна пожилая женщина, засмеявшись, сказала мне, что лично у неё детство не кончилось и никогда не кончится.
Что же, – спрашивал я её снова и снова, – так и не повзрослела?
Повзрослела! говорила она. И неприятности были! И беды! А детство не кончилось, нет!
Она звонко смеялась – ну совсем как девчонка, на самом деле! – а я ей не верил. Нет, она прикидывается.
Или ей очень повезло.
2
Моё детство кончилось не сразу, не оборвалось в один миг. Какая-то незримая сила отнимала его не то чтобы по частям, а рывками. Впрочем, вполне может быть, что и по частям и рывками сразу.
Отчётливо помню эту почти физически прочерченную черту: и уход отца на фронт, и добрая моя учительница Анна Николаевна, и первая книга из детской библиотеки, и «шакалы» из восьмой столовки, и лучший дружбан Вовка Крошкин, и мир, слившийся у реки в одно сплошное звёздное небо, и даже Победа, и даже возвращение отца всё это вдруг оказалось где-то за плечами, в прошлом, хотя какое может быть прошлое у человека двенадцати лет от роду? И всё же в прошлом, потому что я ничего не мог сообразить о будущем, кроме, разве, примитивного знания, что раньше нас по всем предметам учила одна учительница, а теперь их будет много, и что учебников, начиная с пятого класса, – целая куча, зато прошлое тянуло меня к себе назад своими краткими и тёплыми мгновениями, из которых сладких и ярких вспышек – складывается цепочка приятных воспоминаний: вот я говорю с учительницей о чём-то совершенно не обязательном, и уж совершенно не об уроках, а поэтому совсем не боюсь её, не трепещу перед ней, не трясусь за отметку просто мы говорим, пусть и не равные во всём, но в чём-то равные, потому что мы люди, а раз ничего меня не угнетает, мне хорошо, и вот это спокойствие, вот эта моя уверенность очень приятны для детских и не только детских воспоминаний. Вот Нинка Правдина – ей теперь совсем в другую сторону, а Вовка Крошкин тоже исчезает с моего горизонта, потому что новая школа, куда берут его, есть поближе к его дому, и так получается, что я оказываюсь совсем один!
Ну не один – ясно же! Мама рядом и отец, он вернулся с войны, кончились наконец все эти войны, но всё дело в том, что в школу, когда тебе двенадцать, ведь с родителями не попрёшься, да и у них свои дела, а у тебя свои, и все вокруг называют тебя взрослым человеком.
В общем, в начальной школе, до конца четвёртого класса, мы учились все вместе – мальчишки и девчонки, и это обстоятельство, эти четыре года, проведённые вместе, нас крепко испортили. Не знаю, как девчонки, а я к пятому классу, к переходу в мужскую школу, оказался ну совершенно не приготовлен. Ни на капельку.
Все были виноваты и учительница наша распрекрасная, и мама, и сами, конечно, мы. Но нам-то откуда было знать как придётся жить дальше.
А пришлось.
Девчонки пошли учиться в женскую школу, а мы – в мужскую.
Короткое прошлое рухнуло, и я, чем дальше жил, тем отчётливее понимал: моё доброе детство мне не помощник.
Наоборот, о нём надо забыть, и как можно скорее.
3
Мужская школа была липкая и клейкая.
До начала занятий мы были там с мамой не раз и не два – сначала приносили заявление, но оказалось, мама забыла свой паспорт, а без родительского паспорта все эти хлопоты по переводу из одной школы в другую были недействительными, и мы приходили ещё раз, а потом пришлось покупать учебники, и я выстоял не очень большую очередь к двери в раздевалку, только дверь эта была перегорожена столом со счётами, и недовольная тетка раздражённо щёлкала костяшками, подсчитывая, почём стопка учебников то для седьмого, то для десятого, то для пятого, оказалось, тоже вовсе не мало требуется книг.
Я сейчас совершенно не могу вспомнить, в чём была эта тётка – в каком платье, или, может, в кофте, или ещё в чем там, – но хорошо помню её недовольство и раздражённость. Ничего плохого ни ей, ни кому другому я сделать ещё не успел, да, честно говоря, и не собирался, а она уже только что не шипела на меня.
Ну это, конечно, мелочи, правда, мелочи очень часто важны, потому что как бы нагнетают настроение, создают фон, что-то такое предсказывают. Ничего мне тётка не сказала, только сумму назвала, зато щёлкала на счётах так неприязненно, сухо и раздражённо, что я вышел из новой своей школы в совершенно угнетённом состоянии и даже новые учебники, от которых приятно потягивало свежей типографской краской, меня не радовали.

Понятное дело, я уговорил себя, что тётка такая вообще, я тут ни при чём, таким же макаром она щёлкала на счётах для всех – ведь я же в очереди постоял, но это тёткино неудовольствие глубоко в меня залезло.
Накануне первого сентября мама прилетела с работы радостно запыхавшаяся и велела срочно идти с ней в школу – она сейчас заскочила туда по дороге, познакомилась с классной руководительницей и договорилась с ней, что мы тотчас же придём вдвоём и учительница заранее покажет класс, где я буду учиться, и, может быть, даже мою парту.
Всю дорогу мама была радостно оживлена, говорила мне всяческие фразы не то чтобы утешительного или назидательного, а скорее уверительного, если можно так выразиться, свойства. Она как бы уверяла меня. Ты, мол, не переживай: то ты учился в начальной, а теперь в средней школе, но есть ведь ещё и семилетки, это слава Богу, что без всяких на то препятствий мы сразу устроились в среднюю. Ну а то, что она мужская, так это же хорошо, будь уверен, да и других школ во всей стране не существует; настаёт возраст, когда мальчики и девочки должны учиться отдельно. На это я, понятное дело, выразительно фыркнул – о чём, мол, речь, кто этого не знает, в начальной – и то неловко было вместе, пацаны из других школ встанут, бывало, возле нашего подъезда и орут: «Тили-тили тесто, жених и невеста!»
Одним словом, мама меня не уговаривала, а заверяла, будто она что-то знала или что-то могла сделать в своём положении, на что-то могла там повлиять и что-то выяснить. И чем больше она тратила слов, тем меньше у меня оставалось в себе уверенности.
Но вот мы пришли в школу, поднялись на третий этаж и двинулись по крашеному ярко-коричневому полу.
Он был липким и клейким.
Мамины туфли и мои ботинки тихо прилипали к непросохшей краске, но отрывались громко, с этаким протяжным и влажным треском.
На громкие звуки из учительской вышла женщина и без всякого выражения наблюдала – а может, слушала – наше приближение.
Ну вот и мы, – сказала мама почему-то виновато и посмотрела на пол. – Здравствуйте ещё раз!
Вот так всегда, – ответила учительница, вглядываясь в меня, красят пол в самую последнюю минуту. Через неделю будет чёрт знает что!
Я, естественно, покраснел. Даже, кажется, температура у меня поднялась. Мне было стыдно, точно это я не вовремя покрасил пол.
Так я был представлен нашей классной руководительнице Зое Петровне Самыловой, учительнице литературы и русского языка, которой ещё задолго до меня была присвоена кличка Мыло.
Но в тот час, когда мама представляла ей меня, ничего лишнего мне не было известно, и, привыкший к Анне Николаевне, привыкший к тому, что Анна Николаевна, а значит, любая учительница, умеет помочь и защитить, я согласно и доверчиво шёл следом за Зоей Петровной и за мамой в класс, где должен был учиться, примерялся к парте, которую она мне указала, и к месту на этой парте – ближе к окну на второй от учительского стола, в среднем ряду.
Придёшь перед уроком и смело занимай своё место, – сказала она голосом, ничего не выражавшим, и это тоже меня не насторожило, потому что прежде чем хоть что-нибудь выразить голосом, надо что-нибудь и чувствовать, а чтобы чувствовать, надо другого знать.
Она же меня не знала – какие обиды!
4
Наутро первого сентября, ясное дело, я был на ногах спозаранку, надраивал ботинки кремом, раза три перевязал пионерский галстук – как раз в это время были отменены зажимы, и галстук требовалось завязывать узлом.
Объясню, в чем дело. До войны, да и в войну то же, очень многие галстуки не завязывали, а почти у каждого был такой металлический зажим. Просовываешь в него концы галстука, подтягиваешь, как тебе удобнее, и щёлкаешь зажимом – всё! Просто и красиво, к тому же на зажиме нарисован красный костёр. Но вся беда в том, что застёжки-то из металла, и, наверное, его не стало хватать – ведь всё же вой-на. Вот какой-то экономный – и правильно экономный! человек решил зажимы отменить, а галстук завязывать узлом.
Галстуки эти тоже были разные: из простой красной материи – кумача или штапеля, я уж не знаю, – грубая такая ткань, и, конечно, шёлковые. Шёлковые, ясное дело, были не у всех, но к сорок седьмому году – два года после войны всё же! – они стали появляться, и у меня такой галстук был. Но шёлковый галстук надо завязывать на раз. Перевяжешь – он уже мятый. Так что надо снова подглаживать.
Я разок завязал – не получилось, погладил галстук утюгом, второй – ещё погладил, с третьего раза вроде вышло. Оглядел себя в зеркало белая рубашечка, красный галстук – всё как положено. Сверху мундир натянул.
А как его ещё назовешь?
В те времена ведь почти все в форме ходили. Ну ладно – военные, это понятно, ну ладно – гражданские лётчики. Но форма – у всех своя! – была у связистов, у лесников, у железнодорожников, у речников, кто на речных пароходишках, самых даже маленьких, плавает или просто, например, в кассе речного вокзала сидит. У ребят, которые в ремеслу-хах учились.
А у школьников – как же без формы? Да ещё какой! Мальчишки носили чёрного цвета кителя с металлическими пуговицами, девчонки – коричневые платья с белыми воротничками и чёрные передники с какими-то дурацкими крыльями на плечах. Чёрно-коричневые бабочки!
Вообще с чёрным цветом у нас всё было в полном порядке. Чтобы кто-нибудь где-нибудь из ребят или мужиков красную рубаху надел? Или женщина молодая красное платье? Ну, женщинам, может быть, что-нибудь позволялось слегка голубоватое, например, но не очень яркое. Зеленоватое, но густых, темноватых оттенков. Зато всё остальное – коричневое, тёмно-синее и чёрное. И не знаю я, чтобы такие указы, например, издавались, запрещающие яркие броские цвета, а вот всё же никто не осмеливался выделиться, выбраться из чёрно-сине-коричневого тона.
Словом, я натянул свой чёрный китель, верхние пуговицы не застегнул – красный галстук оттуда вырывается горячим огнем – не по правилам, но красиво! – провёл рукой по стриженой башке. Эх!
В школу нестриженым не пускали. Это наша бывшая начальная давала послабление, да и то Анна Николаевна нет-нет да и начнёт мягкий разговорчик о вшах и гнидах. А в мужской нас заранее предупредили – нестриженым нельзя. Причём никаких полу боксов и даже боксов. Полный нуль!
Нулевкой – объясню для незнающих – называется такая стрижка, когда всё с головы машинкой состригают. Без остатка.
На всю память мою останется маленькая парикмахерская над оврагом, неподалеку от нашего дома. Кресел пять или шесть там было в мужском зале, и лишь изредка я видел, чтобы здесь брились взрослые мужчины все всегда приходили бритыми, видно, деньги экономили. А вот стричься – всегда очередь. Под первое сентября – целая вереница, с хвостом на улицу, и одна парикмахерша, имени которой я не знал, а вот отчество распрекрасно – Никаноров-на! – в эти дни стригла только ребят. Ясное дело, электрических машинок для стрижки в ту пору не было, и Никаноровне, толстой, почти квадратной – на какие же, интересно, харчи? – приходилось вовсю работать правой рукой – как рука не отпадала? Заходить своим агрегатом она любила со лба, прорезала белую дорожку сквозь чубы и лохмы, и ей, похоже, доставляло удовольствие вот так уродовать народ. Почти все до единого, кого она так постригала, теряли свою уверенность начисто, сжимались, моля только об одном – чтоб машинка не сломалась. Никаноровна, будто чуя свою власть над пацаном, временно изуродованным ею, не то чтобы подхихикивала, но вполне определённо улыбалась. А самых жал ких иногда подбадривала:
– Не боись, сейчас сделаю красавцем!
Ну, а колкий обстриженный шар мальчишечьей головы доставлял ей истинно художественное удовольствие.
– Эк, какой гладенький да ровненький! – И рявкала над ухом: – Освежить?
Некоторые освежались, и я тоже пару раз, но это выходило чуть не вдвое дороже, да и башку щипало от тройного одеколона, так что, с малолетства обученный мамой, я обычно успевал отказаться от освежения, и всё удовольствие обходилось в рубль пятьдесят. И пока ты расплачивался в кассе под взорами подуставшей очереди, Никаноровна успевала наполовину оболванить следующего – дело шло споро. Так что роль толстой парикмахерши – ну ещё нескольких её товарок – в школьном деле была чрезвычайно велика: за какие-нибудь два-три-четыре дня перед сентябрём оголить начисто тысячи мальчишеских голов – пустых и не очень, – чтобы все мы в одинаковых кителях с блестящими пуговицами, с одинаково остриженными головами, одинаково выглядевшие одинаковые пацаны отправились в школу за одинаковыми для всех граждан знаниями.
Из этой одинаковости я ухитрился выпушить шёлковый галстук, который отличался особой яркостью, тремя верхними пуговицами кителя, расстёгнутыми против правил, и воротничком белой нарядной рубахи.
Так ходили некоторые пацаны, я ничего не изобрёл своего.
Все эти подробности про шёлковый галстук и верхние пуговицы нужны здесь вовсе не для того, чтобы затянуть действие. Дело в том, что внешнее отличие одного человека от другого играет, оказывается, важную роль. Вроде – ну, подумаешь, галстук из шёлка – что за дела? Кстати, он, может, был даже из вискозы, я, честно говоря, до сих пор не знаю, что это такое, предполагаю просто, что это чуть похуже шёлка, но такого же яркого, нарядного цвета, – ну так вот, он, может, был из другого материала, но всё же был ярче и наряднее, чем у других, а этого уже хватило кое-кому для кое-каких совсем для меня неожиданных размышлений.
Напомню снова я жил как бы на острове все свои первые четыре школьных года. Хотели они того или нет, но девчонки, с которыми мы вместе учились, бесспорно, влияли на нас, мальчишек. Что-то такое неизвестное нам ну не то чтобы заставляло нас искусственно подтягиваться, а не позволяло распускаться. Да ещё Анна Николаевна.
Она владела нами всеми. Мы были её – не то чтобы только учениками, а её детьми. Не родными, нет. Но очень-очень близкими. Она как-то так незаметно всё про нас знала. Или, может, чувствовала, и, когда наступал какой-нибудь такой удивительный момент, она всегда заглядывала тебе в глаза. Очень коротко взглянет – и всё! И осадит! И тебе всё станет ясно! Даже, может быть, стыдно. Я не знаю, как это называется – вот такое умение быть рядом с детьми, не лезть к ним, не мешать, не читать нотации, но в самую нужную минуту вдруг взять и что-то такое сделать. Повлиять. И мы под влиянием Анны Николаевны никогда не думали, что у одного какой-то там, понимаете ли, пионерский галстук красивее, потому что он из другой материи, и ярче.
Не знал я и не гадал, собираясь в новую школу, что есть у людей жестокая ненависть, возникающая только по той причине, что у него – или у них – этих ненавидящих, нет того, что есть у тебя, ненавидимого.
А кроме того, такая ненависть не объясняется. Тебе достаётся, и всё. И ты понять не можешь, в чём дело.
А дело в людской мерзости. И чем мельче – или младше – люди, тем мельче – или зеленее – их ненависть.
Ненависть, оказывается, тоже бывает неспелой и кислой, как незрелое яблоко.
5
С бьющимся сердцем приближался я к новой школе. Чем ближе подходил я к последнему углу, за которым открывался поворот, новая улица и на другой её стороне четырёхэтажное красное неоштукатуренное здание, тем явственнее ощущал своё одиночество. Мальчишки впереди, позади меня, на обочине дороги шли кучками, по четверо-пятеро, изредка вдвоём, а я был один-одинёшенек. Надо же, ни одного пацана из бывшей моей начальной не перешло сюда, не с кем даже словечко молвить!
Шаги мои становились всё тяжелее и медленнее, ноги не хотели передвигаться, наконец я вышел из-за старого двухэтажного дома, школа двинулась навстречу, нависая надо мной, и я просто физически ощутил, что она смотрит на меня, как та тётка, которая продавала учебники, – недовольно и неприязненно, будто я уже успел крепко перед ней провиниться.
Одиночество! Каким горьким вкусом обладает это чувство в двенадцать неполных лет! Но разве мог я допустить в эти щемящие мгновения, что одиночество это ещё не самое страшное испытание, и не раз и не два я ещё подумаю об одиночестве как о спасительной пещере, где ты обладаешь небывалой ценностью покоем и тишиной, и где ты сам с собой…
Стараясь ни с кем не столкнуться и ни на кого не налететь, я вошёл в школу, преодолел кипящее мальчишками фойе, пробрался по такой же бурлящей лестнице и вступил в коридор, похожий на передовую линию неистового фронта.
И в фойе, и на лестнице, и в коридоре народ не ходил, не двигался, а метался. Школа была средняя, а это значит, учились тут люди разных возрастов – от первышей до десятиклассников, но ни малышей, ни старшеклассников я не заметил, зато всё остальное разноперье походило на сбесившийся, сорвавшийся, сумасшедший водоворот. Пацаны бежали сразу во все стороны – вдоль и поперёк коридора, никого, кажется, при этом не замечая, но это было ошибочное впечатление, потому что каждый был хищником и каждый охотился на каждого, соблюдая, понятное дело, первое правило закона джунглей, по которому сильный нападает на слабого, а слабый только защищается, но никак не наоборот.
Потом, правда, я узнал, что бывают исключения, и дуботолк-семиклассник вполне свободно нападал на восьмиклассника похилее – впрочем, и здесь исключение лишь подчёркивало правило – не табель о возрасте, а только сила была управительницей жизни. Одна сила.
Фойе и лестницу я одолел всё-таки сносно, чуть выдвинув локоть и стараясь на скорости проскакивать опасные заторы. Но пройти коридор до своего класса в этом бессмысленно одичавшем хаосе не было никаких надежд. Едва я переступил порог коридора, как портфель вылетел из моих рук, больно ободрав ладонь. Я обернулся, но пацаны, напавшие сзади, уже ширялись возле стенки, выдавливая с двух сторон тех, кто оказывался в середине.
Я было наклонился, чтобы поднять портфель, но по нему пнул какой-то кретин класса примерно из седьмого с такой силой, что у портфеля внутри громко всхлипнуло что-то, будто врезали живому под селезёнку. Бедный мой портфельчик, наверное, пролетел бы из одного конца коридора в другой, если бы не толпа и если бы не липкий пол. Он попал в ноги одному, тот паснул, не разбирая, в стену, снова чтото всхлипнуло в портфеле, пробегавший пацан не то чтобы наступил, а прыгнул на него, и мне показалось, портфель заверещал.
Но это заверещал человек, какой-то пацан в другом конце коридора, послышался ругательный мужской голос, коридор на мгновение сбросил скорость, я не стал терять драгоценный миг, кинулся на колени и поднял свой верный портфель.
Потом я и сам в совершенстве овладею мастерством выбивания портфеля – подходишь тихонечко сзади, задираешь аккуратно ногу, и – р-раз! изо всех сил бьёшь ногой вниз, стараясь в удар этот ещё и вес свой вложить. Не столько больно, сколько досадно – ведь из-за спины! и обидно. Никакой силач такого удара не выдержит. Никакой.
Но мне в тот миг было не до обид. Я схватил портфель в охапку, пробежал пространство до знакомой уже двери, подскочил к парте и засунул портфель в неё.
– Эй, пацан! – постучал мне кто-то из-за спины. – Здесь занято!
Я обернулся. Позади меня лоснилось не лицо, а блин. Круглый, точно выстроенный с помощью циркуля, и плотно – одна налезала на другую – усыпанный веснушками. Подстрижен был рыжий под бокс – вся голова обкорнана под нуль, только впереди чёлочка, будто козырёк. И вид у этого типа вызывающий, наглый, почти бандитский.
– Ты что? – спросил он подчеркнуто сладким голосом, – туды-растуды, не понимаешь, твою мать! Тебе же русским наречием поясняют: тут занято!
Вот они, слабости гуманистического воспитания и совместного обучения! Сказать неловко – к двенадцати своим годам я не умел материться.
Слыхать, конечно, слыхивал, уши ведь не занавесишь, когда мужики возле пивнушки меж собой разбираются, да и кто-нибудь из пацанов нашей начальной где-то в районе туалета порой чего-нибудь негромко и с опаской брякнет, но так уж вышло, что в самые развоенные, а оттого трудные и грязные годы сумели сохранить меня мои дорогие бабушка, Анна Николаевна и, конечно, мама от такого необходимейшего умения, как объяснение на нецензурном языке.
Вроде бы хорошо! А на самом деле выходило плохо!
Я онемел. Прижался к парте, будто малыш какой, и молчал. Ведь отвечать-то надо было таким же манером, а я не умел. Зато рыжий негодяй виртуозно извергал из своей вонючей пасти гнилостные звукосочетания. Он меня будто завораживал своей ругнёй. Я думал, весь класс остановится, чтобы послушать виртуоза, но ничего подобного. У доски боролись два пацана, да, похоже, вполне всерьёз боролись, лиц их не было видно, они наклоняли друг друга вниз, а рубахи вылезли из штанов, и мелькали их голые спины и животы, ещё четверо или пятеро толкались вдоль стенки, трое совсем по-лошадиному ржали в углу, но были люди и другие, на них-то и рассчитывал Рыжий Пёс – я его сразу так прозвал про себя.
Эти другие сидели за партами или прямо на партах, перекрикивались или переговаривались между собой, но когда Рыжий завёл свою арию, переговоры свои закончили и внимательно стали глядеть на нас.
Я молчал. Я не знал, как сказать. Что сказать, я знал, а вот какими словами – нет. В конце концов я проговорил, сам чувствуя, как по-детски и невсерьёз звучат мои обычные слова:
– Меня сюда посадила учительница. Какая-такая ещё учительница? театрально вскинул невидимые брови Рыжий.
– Зоя Петровна, – ответил я.
Ах, Зоя Петро-овна, екэлэмэнэ, – паясничал Рыжий. Но она же, туды-растуды, тут не учится, пацан! Ты кумекаешь, сучий потрох? А учимся тут мы, туды-растуды. И тут, туды-растуды, сидит Коряга. Вот он, блинская сила, обернись! Не страшно, твою мать?
Я обернулся. Передо мной стоял мальчишка во всем зелёном, похоже, ему перешили китель из какой-то военной одежки, и брюки тоже из военного галифе. Да и лицо у него было зелёное с зелёными полукружьями под глазами.
Он улыбался кривой улыбкой, и во рту у него блестела железная фикса.
Потом, став взрослым, я не раз спрашивал зубных врачей, могла ли быть у пятиклассника металлическая коронка – задавал такой тест. Кто говорил, что могла. Другие – что нет. Третьи ссылались на послевоенное время, когда всё могло быть. И никто даже не догадался, что есть ещё один вариант: накладная фикса.
Зубы у Коряги были здоровые, но редкие. Он где-то достал пару коронок и надевал их для понта то на резец, то ещё куда. Фиксатые почему-то тогда считались опасными, блатными, наводили страх одной только своей улыбкой.
Но в этом я разобрался позже. А тогда, в тот первый момент, конечно же, испугался. Стоял парень как-то скособочившись и действительно походил на болотную корягу. Был он в метре от меня, может, даже в полутора, но разило от него табачищем, кажется, до задней стены класса.
– Не боись, пацан, сказал он мне, – Женюра шутит. Моё место Камчатская область.
Он прошёл мимо меня на последнюю парту и сунул туда тоже зелёную противогазную сумку.
Я наивно позволил себе на мгновение расслабиться и, вздохнув, отвернулся, как тут же получил крепкого щелбана по затылку.
Я не проронил ни слезинки на первый раз я и сам себе удивился. Просто яростно вскинулся, но поблизости никого не было, лишь один Рыжий Пёс сидел у меня за спиной, но он, отвернувшись, говорил со своим задним соседом – о чём-то очень увлечённо говорил, мне и в голову не могло прийти, что это он.
Я сел на место. И снова получил пребольнейший щелчок по затылку.
Рыжий Пёс всё так же мирно беседовал за моей спиной и, кажется, вовсе меня не замечал.
Я схватил его за плечо, крикнул, едва сдерживая слёзы:
– Ты что?!
Он медленно обернулся. Глаза у него походили на два голубоватых, совершенно круглых камешка, которые выражали недоумение в такой крайней степени, что даже, кажется, остекленели от этого недоумения.
– Что-о-о-о-о! – пропел он. – Что-о-о-о!
– Ты чё щелкаешься? – спросил я, и тут бы мне прослезиться авось помогло. Но я энергично промаргивался и не выдавал своей слабости.
Я-мирно-разговариваю-с-товарищем, а-ты-меня-обвиняешь! – не говорил, а декламировал Рыжий, медленно вылезая из-за парты и, ясное дело, пересыпая слова матом. Поднялся и я.
Да я тебя за такие дела, нарядный пионер!
Мы стали толкаться. Так молодые неумелые петушки пихаются грудками, не владея приемами серьёзного выяснения отношений. Только, по правде говоря, неумелых петушков было не два, а вовсе один, и этот один я. Рыжий Пёс был хоть и петушком, но вполне опытным в таких делах.
Хлопнула дверь, визгливый женский голос крикнул: «По местам!» – и Женюра, надменно ухмыляясь, отодвинулся от меня, прошипев:
– Ну погоди! Ты у меня получишь!
Потом не раз я думал – может, надо было кинуться на него, пойти на штурм, на абордаж, прямо в классе, при всех? Нет, бессмысленна такая война.
К подобным атакам надо готовить себя с раннего детства, например, с первого класса заниматься боксом или карате. Но какое карате в послевоенном городе? Бокс – и тот мы знали только по кино, да и вообще…
И вообще мне предстоял долгий путь испытаний.








