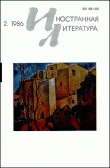Текст книги "Джойс"
Автор книги: Алан Кубатиев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 41 страниц)
Глава девятая ПЕСНЯ, ДЕВА, ПОБЕГ
Уклад Джойсов и прежде не отличался особым порядком, а во время болезни Мэри всё неостановимо двигалось к хаосу. Дом взывал о ремонте, перила где треснули, где обломились, зато в комнатах было просторно – мебель была либо продана, либо заложена. На заднем дворе костлявые цыплята уныло клевали что-то невидимое глазу. Джон Джойс еще в ноябре выпросил очередной залог в 65 фунтов, хорошо понимая, что он будет последним, а от 900 фунтов, что были получены вместо регулярных выплат пенсии, не осталось ни фартинга (дом будет отобран в ноябре 1905 года). Залог покинул дом обычной дорогой – в кассы дублинских трактирщиков; тогда отец продал пианино, что привело Джеймса в ярость – было так неожиданно вернуться однажды домой и не увидеть инструмента.
После смерти матери Маргарет, «Поппи», в двадцать лет стала хозяйкой дома. Точнее, взяла на себя всю ту работу, которую делала мать и которой с каждым шагом вниз по социальной лестнице становилось все больше. Тетя Джозефина старалась заменить ей мать хотя бы поддержкой и советами – и ей, и сестрам, и братьям, включая Джеймса. Маргарет осваивала науку выколачивания из отца не пропитых еще шиллингов на пропитание семьи, где кроме нее по-прежнему оставалось восемь детей. Голодать приходилось не так уж редко. В доме просто не было съестного. Однажды Гогарти встретил Джойса и спросил:
– Где ты пропадал двое суток? Болел?
– Да.
– И чем же?
– Изнурением, – тут же ответил Джойс.
Джон Джойс продолжал искренне оплакивать жену. Смерть ее выбила те немногие опоры, которые еще держали его. Праздность Джеймса он еще мог снести, но Чарльз пил все чаще и был уже известен в полицейских участках, а Станислаус, хотя и оставался трезвенником, был неизменно груб с отцом. К тому же он ушел с должности клерка и присоединился к Джеймсу в поисках более благородного удела.
Джон Джойс чувствовал себя брошенным всеми. Напиваясь в баре, он возвращался домой, жестоко высмеивал сыновей, мог отвесить затрещину любой из дочерей, которой не повезло оказаться рядом. Он обвинял всех детей скопом в неблагодарности, описывал их предполагаемое безобразное поведение на его похоронах, угрожал вернуться в Корк и оставить их всех, как Иисус иудеев. Семейная жизнь так придавила Маргарет, что о замужестве она не хотела и думать, а через несколько лет стала монахиней.
В этом холодном нищем доме, не принадлежавшем ни ему, ни его семье, Джойс готовился стать великим. Болезненное несовпадение желаемого и предоставляемого, как ни странно, заправляло горючим двигатели его честолюбия.
Случайно Джойс узнал, что Эглинтон и другой знакомый писатель, Фред Райан, готовятся издавать новый журнал для интеллектуалов под названием «Дана» в честь ирландской богини земли. 7 января он написал буквально в один присест вполне автобиографический рассказ, где самолюбование мешалось с иронией. Станислаус предложил название – «Портрет художника». Рассказ был отослан издателям.
Так началось превращение Джойса в зрелого писателя. Рассказ потом станет куда более длинной вещью под названием «Стивен-герой», а затем сократится почти наполовину, чтобы стать «Портретом художника в юности». На это уйдет десять лет.
С «Портретом художника», впервые после написания «Блестящей карьеры», Джойс решается на длительную работу. Чистые выплески поэзии или эпифании ему уже были малы. Томило желание собрать воедино те ступени духовного опыта, которые он уже прошел, и взглянуть, куда ведет эта лестница, или по крайней мере узнать, связываются ли они в какую-то последовательность, в образ чего-то. Сейчас трудно сказать, собирался он писать эссе или рассказ, потому что во всех его работах до «Улисса», даже в «Дублинцах», есть элементы и того и другого, и во всей его прозе всегда есть исповедальность – горячечный шепот невидимому собеседнику, отделенному решеткой и занавесью.
В двадцать один год Джойс открывает себя заново. Художник, пишущий о том, как стать или быть художником, всегда рискует вызвать подозрение в том, что с остальным материалом он не в ладах. Бунин в «Жизни Арсеньева» пишет о «мучительно-сладком труде», направленном на воистину пчелиный сбор, «образовывать в себе нечто годное для писания». Бугристая сальная клубничина – нос пьяного бродяги, мокрая белая веревочка на крышке трактирного чайника, ощущение свежего холодка на только что выстриженном затылке – всё собирается юным тогда автором-героем в упоительный для него конгломерат бытия, МИР. Джойс собирает СЕБЯ – мир есть только обрамление. Обывателю, вяло интересующемуся жизнью художника, он мстит тем, что заставляет его интересоваться собой. Однако впоследствии найдутся читатели, которые в этой пристальности увидят и то, что Джойсу невыносим его собственный герой, особенно когда выйдет «Портрет художника в юности». Недостаток симпатии к персонажу не есть отвращение; Джойс понимает, что ранние метания героя, как и самого автора, – это вода, не только заливающая луг, но и обеспечивающая впоследствии его плодородие. Без них невозможен переход к зрелости.
Тональность рассказа достаточно воинственная. Автор настаивает на том, что мальчишеские качества никуда не уходят и уживаются со взрослыми. У прошлого нет «железной несокрушимости памяти», оно как бы предполагает «текучую последовательность „настоящих“». То, что мы видим, не есть устоявшееся изображение, отпечаток, но скорее некий «индивидуальный ритм», не «удостоверение личности, но эмоциональный изгиб». Джойс отыскивает ту концепцию личности, которая потом превратится в того самого «человека-реку».
Герой, пока еще безымянный – назовем его Юношей, – проходит одну пору за другой; вот религиозный пыл: «Он мчался сквозь этот предел, будто расточительный святой, изумляя многих брызжущим (в оригинале ejaculatory. – А. К.) задором, оскорбляя многих духом затворничества. Однажды в лесу невдалеке от Малахайда работник удивленно смотрел на подростка лет пятнадцати, молившегося с каким-то восточным экстазом». Но пыл постепенно слабеет и с поступлением в университет исчезает вовсе. Ему на смену приходит создание «загадочности манер», для защиты от вторжений в тот самый «неискоренимый эгоизм, который он впоследствии будет называть „избавителем“». Текст являет и искренность, и самонадеянность, но самонадеянности больше: «Пусть враждебные стаи мчались в холмы за своей добычей. Это была его страна, и он метал в них презрение со сверкающих рогов». Рога, разумеется, принадлежат благородному оленю.
Самое интересное в этом отрывке то, как проза насыщается мыслями героя. Символистская скрытность, не называющая по именам оленя и охотника, но проясняющая отношение к ним в сопутствующих метафорах, «хрипящем призраке» и «сверкающих рогах». Текст работает скорее за счет эмоций, чем идей, не признаваясь в симпатиях к Юноше, но позволяя ему описать себя наиболее привлекательным образом. Понятно, что техника далеко не безупречна – те же самые «рога», «быстро крепнущий щит» и многое другое, – но именно отсюда прорастает все усложняющаяся духовная сила мятущегося Стивена в «Портрете художника в юности». В «Улиссе» и «Поминках…» Джойс развивает то же открытие, оказавшееся неисчерпаемым и ветвящимся: там уже язык отражает не только главные характеры, когда река описана словами, фонетически напоминающими о струении, воде, плеске, или когда стиль словно набухает вожделением вместе с растущим вожделением Герти Макдауэлл; это могут быть слова ночи или дня, утра или полуденной суеты. «В семь часов вечера на Эккпс-стрит английский язык становится таким же усталым, как и сам уходящий день», и ему даются только стертые клише.
Герой Джойса выбирает свою почву «без преимущества для себя», потому что хочет быть преследуемым и гонимым – это даст ему право не сдаваться преследователям и презирать гонителей, ему нужны не верные, а предающие. Он проводит резкую границу между собой и балбесами-сокурсниками, а особенно твердо – между собой и сладкоречивыми наставниками-иезуитами. Их отрицает священный долг художника, который Юноша принимает в две стадии. В первой он взыскует «ревностного добра», и разум юноши, как разум алхимических героев Йетса, «вечно вострепещет к его восторгу». На душу Юноши «пал, словно плащ, образ красоты», и он покидает церковь сквозь врата Ассизи, чтобы обрести в искусстве безмолвное благословение. Грустный Юноша медитирует на пляже, как позже Стивен Дедалус, и постепенно теряет интерес к «абсолютному удовлетворению», обретая вместо этого «сознание красоты условия смерти».
Так начинается вторая стадия. В ней у Юноши развивается вкус к сексуальной свободе и сопутствующей, как он считает, свободе духа. Затем следует лирический апостроф в виде нераспознаваемой девичьей фигуры, этакого светского коррелята Девы Марии. Может, это она и есть, та самая, чей вид у края воды в 1889 году воспламенил душу юного Джойса? Словно Магда в «Родине» Зудермана, она подсказала ему, что он должен грешить, если хочет расти; она заставляла его через грех открыть собственную сущность. В воображаемом соитии с ней, очищающем действительное совокупление с проституткой, Юноша постигает, что должен идти вперед, к «измеримому миру и широкому простору действий». Его разрывают новая жизнь и стремление изменить все сущее, но не силой, а наоборот – мягкостью, настойчивой учтивостью. Те, кто уже существует, не станут его публикой: они, как Йетс, слишком стары, чтобы помочь ему, – его поддержат те, кто «зарождаются сейчас». В эффектной, будоражащей речи, где Джойс перемешан с Марксом и Заратустрой, герой говорит: «Мужчина и женщина, вы породите грядущую нацию, в труде грядет просвещение масс. Конкурентный уклад работает против себя самого, аристократия вытесняется, и посреди общего паралича больного общества только единая воля создает деяние».
Эссе (назовем его так) было представлено Эглинтону и Райану и, как положено, ими отвергнуто. Эглинтон сказал Джойсу, что не может публиковать то, чего не понимает, и категорически осудил сексуальные порывы героя как с воображаемой девой, так и с реальной шлюхой. Джойс расценил этот отказ как вызов – ведь история его героя должна была стать для нового века призывом к оружию. В дневнике Станислауса 2 февраля 1904 года записано:
«Вторник. День рождения Джима. Ему сегодня двадцать два. Он поздно проснулся и из-за сильной простуды лежал весь день. Он решил переделать свое эссе в роман и, придя к такому решению, обрадовался, как он говорит, этому отказу. Эссе… было отвергнуто издателями, Фредом Райаном и Уильямом Маги, из-за описанного в нем сексуального опыта. Джим считает, что отвергли его потому, что он весь о нем, хотя они выразили искреннее восхищение стилем произведения. Они всегда восхищаются его стилем. <…> Джим начал свой роман, как он обычно начинает свои вещи, наполовину со злости, чтобы показать – он пишет о себе затем, что у него есть более интересные предметы, чем их бесцельные споры. Я предложил название „Портрет художника“, и этим вечером, сидя на кухне, Джим пересказал мне идею романа. Он будет почти автобиографическим и, естественно, как всё, что делается у Джима, сатирическим. Туда он вставит многих своих знакомых и тех иезуитов, которых знал. Не думаю, что они там себе понравятся. Он еще не решил насчет заглавия, и я опять предложил все, что мог. Наконец одно было принято – „Стивен-герой“, по имени Джима в его книге, „Стивен Дедалус“. Название, как и сама книга, сатирическое. Вдвоем мы переокрестили всех персонажей, дав им имена, которые больше подходили им по характерам или позволяли предположить, из какой они части страны. Потом я спародировал многие имена… Папочка заявился, очень пьяный, и – что для него крайне необычно – проследовал сразу наверх в постель. Сегодня у нас был отличный ужин и чай. После заката полил дождь. Провели вечер, играя в карты – в честь события. Джим и Чарли курили. Джим хотел позвать папочку, но все решили, что ему лучше поспать».
Джойс всегда действовал решительно и быстро, когда ситуация была серьезной. Меньше чем за месяц он разработал тему романа, героем которого стал художник-ренегат, оставивший католическую веру. Но эстетические воззрения Стивена созданы не просто отрицанием. Художником он становится потому, что искусство открывает ему «светлые площади жизни», которые запирали от него священники и короли.
Десятого февраля Джеймс закончил первую главу, а к середине лета у него уже накопилась внушительная стопка страниц. Первые главы «Стивена-героя» не сохранились, но, по воспоминаниям Керрана, лирика первых страниц сменилась горьким и жестким реализмом. Но даже у его откровенности были границы. Станислаус в дневнике проницательно заметил: «Джима считают предельно откровенным по части себя, но стиль его таков, что кажется, будто он признается на каком-то иностранном языке – так признаваться куда легче, чем просто на родном».
Проза вернула Джойсу способность писать стихи. Но и тут он сражался. Герберту Корману он признался, что «Камерную музыку» написал «в знак протеста против самого себя», против дней без работы и ночей отчаяния. Начало циклу положило «Молча волосы расчесывая», которое Артур Саймонс через месяц, в мае 1904 года, напечатал в «Сатердей ревью». Два следующих стихотворения были написаны после прогулки с Мэри Шихи, Скеффингтоном и другими на холмах за Дублином. Джойс, отчаянно зябнувший на апрельском ветру в своей яхтсменской фуражке и матерчатых туфлях, тем не менее гордо поигрывал тросточкой и наблюдал за Мэри. Красота ее восхищала Джеймса, а молчаливость он принимал за то же презрение к остальной компании, какое испытывал сам. Он прятал свои чувства, однако там, возвращаясь с холмов, они обменялись несколькими словами. Глядя на луну, Мэри сказала, что она словно готова расплакаться, а Джойс с мягкой дерзостью ответил, что луна скорее походит на лицо толстого пьяного монаха. «Ты все-таки очень испорчен», – вздохнула Мэри, а он не согласился: «Нет. Но я стараюсь изо всех сил».
Когда они разошлись, Джеймс разорвал сигаретную пачку и карандашом написал «What counsel has the hooded moon», где луна, как водится, мужского рода, и потому переводчику трудно будет объяснить то, что происходит в этом стихотворении, где автор предлагает деве слушать не толстого монаха в облачном капюшоне, а его, автора, знающего о любви и славе все. Переводчик может заменить «луну» на «месяц», но все равно – кое-что важное не сохранится. Однако речь шла о земной любви как лекарстве от печалей и забот. В «Камерной музыке» Джойс не раз говорит о любви именно так, как говорили елизаветинцы, у которых он так усердно учился. Тогда же в этом ключе, лексике и стиле написана изящная вещица, воистину камерная песенка, которую он так и не опубликовал: «Пойди туда, где встречается юность / Под луной, у моря, / И оставь свое оружие и сети, / Свое веретено и кружева…»
Между этими неожиданными творческими вспышками Джойс играл свои роли в маленьких семейных спектаклях пьянства, безделья и скандалов, что преданно записывалось Станислаусом. Отцовского рекорда, тоже зафиксированного – четыре нетрезвых дня каждой недели, – Джеймс не побил, но жил вполне беспорядочно. Его лень и житейская праздность вполне сочетались с непрестанной работой писателя. Февральская запись в дневнике рассказывает, как он, вместе со Станислаусом, проспал до часу дня и тем ужасно разозлил отца, который устроил им скандал с угрозами и едва не дошел до драки, так что Джеймсу пришлось выскочить на улицу, как бы за полицейским. Однако в марте он сидит почти сутки за столом, добиваясь, чтобы «писать стало так же легко, как петь».
Но уже 13 марта он отсутствует всю ночь, и причины отсутствия понятны из грустного письма к Гогарти, который уехал в Оксфорд. Джеймсу нужен адрес хорошего врача, который поможет с последствиями визита в бордель.
Литература не заставила его полностью отказаться от увлечения пением, биографы пишут даже о «возможности сделать карьеру певца». И вот, посреди уже хорошо прописанной книги, Джойс вдруг снова возвращается к этому намерению. Голос у него был отличный, а для любителя так даже превосходный – «нежный и медоточивый». Любопытно, что у него не было характерного для мальчиков периода мутации – его тетя, миссис Кэллахэн, вспоминала, что даже ребенком он пел не дискантом, а несильным, но чистым тенором. Пока ему не исполнилось двадцать, он редко брал ноты выше «соль» или даже «ля-бемоль». Силы звука ему не хватало, голос был нетренирован, однако при должной подготовке он мог соперничать с лучшими тенорами своего времени.
Взяв несколько уроков у лучшего дублинского учителя вокала Бенедетто Пальмиери, Джойс охладел к ним (в немалой степени из-за отсутствия денег) и перенес свой интерес на учительство. Открылась временная вакансия в Клифтон-скул, частной школе в районе Саммерфилд-лодж, где проживал второстепенный поэт Денис Флоренс Маккарти, чье имя то и дело появляется в «Поминках…». Основателем и главой школы был ольстерский шотландец Фрэнсис Ирвин, выпускник Три-нити-колледжа. Почти вся вторая глава «Улисса», «Нестор», где Стивен Дедалус зарабатывает свои три фунта двенадцать шиллингов, написана со школы Ирвина. Джойс преподавал там всего несколько недель. После его ухода школа продержалась недолго и закрылась из-за окончательно спившегося Ирвина.
Позже, в апреле, он принимает первое из серии приглашений Гогарти навестить его в Оксфорде: если Джеймс сможет накопить три фунта на дорогу, то все остальные расходы Оливер брал на себя, мудро отказываясь прислать деньги авансом: Джойс непременно промотал бы их. Джойсу хотелось увидеть Оксфорд, и было бы даже весело быть представленным известным шпрехшталмейстером Гогарти: «Леди и джентльмены! Только один вечер на манеже! Осторожнее, сударыня! Мальчик, отойди от клетки! Дайте кто-нибудь пинка ребенку! Редкий образец… Я попросил дать ребенку пинка! Благодарю вас, капитан! Редкий образец неодомашненного кельта! Не аплодировать – приходит в неконтролируемую ярость!..» Но накопить три фунта он так и не смог.
Гогарти повторял приглашение, а Джойс отвечал. Какой-нибудь контрразведчик мог усмотреть в их переписке тайный код: Гогарти обращался к нему «Блуждающий Ангус [34]34
Ангус – волшебник, делавший невидимым то, что накрывал полой своего колдовского плаща. Он же в кельтской мифологии – бог любви, юности и поэтического вдохновения.
[Закрыть]», «Презиратель посредственности», «Бич черни», а поля были покрыты приписками и примечаниями, направленными в любую сторону, кроме той, куда должно. 3 мая он приписывает, что получил вторую награду Ньюдигейта [35]35
Премия для поэтов Оксфорда, учрежденная в честь сэра Роджера Ньюдигейта, вручающаяся с 1806 года. Ее лауреатами были Мэтью Арнолд и Оскар Уайльд. Гогарти в списке лауреатов нет.
[Закрыть], и добавляет, что заказал два новых костюма и один даст поносить Джойсу, если тот приедет. Джойс отвечает просьбой о ссуде и описывает свое бедственное положение. Гогарти отвечает таким же подробным описанием своего бюджета, чтобы обосновать отказ. Джойс возвращает документ с находчивой припиской – теперь он просит о другом:
«Шелборн-роуд, дом 60, Дублин.
Дорогой Гогарти,
отсылаю тебе свой бюджет. Я все еще жив. Вот более разумная просьба. В пятницу я пою на garden-fête [36]36
Любительский концерт в саду (фр.).
[Закрыть], и если у тебя найдется приличный костюм или рубашка для крикета, пришли ее или их. Пытаюсь получить ангажемент в Кингстон-павильон. Ты там никого не знаешь? У меня такая мысль на июль и август: выпросить у Долметча лютню и проехать побережьем по югу Англии от Фалмута до Маргейта, исполняя старые английские песни. Когда ты уезжаешь из Оксфорда? Хотелось бы мне его увидеть. Твоей аллюзии не понимаю. „Камерная музыка“ – название цикла. Полагаю, Дженни уезжает через день или около того. Я позвоню сказать „Прощай, прощай…“. Ее письмо меня никак не задело. А другие – да. Прилагаю одно, чтобы ты не слишком чванился собой. Элвуд почти выздоровел. У меня свидание с Энни Лэнгтон – хотя ты ее уже забыл? Других новостей сообщить не имею…. Непреданный тебе. Пока прощай, Непоследовательный.
Стивен Дедалус.
3 июня 1904 г.».
Упоминание о «Камерной музыке» относится к эпизоду, сильно перевранному в последующих истолкованиях и имевшему место месяцем раньше. Гогарти, который до этого был в Дублине, взял Джойса к Дженни, общительной вдовушке, и пока они пили портер, Джойс читал свои стихи, которые он носил с собой в большом конверте. Каждое было написано его лучшим почерком посередине большого куска пергамента.
Вдовушке это развлечение, в общем, понравилось, но пару раз она отлучалась за ширму к ночному горшку (chamberpot). Приятели слушали неизбежный звук, и тут Гогарти ехидно заметил: «Вот тебе и критика!» А Джойс уже обдумывал название, предложенное Станислаусом, – «Камерная музыка», Chamber Music. И когда брат услышал от него эту историю, то так же ехидно заметил: «Вот тебе и благое предзнаменование!»
Между тем песок в часах дотек до того самого дня – четверга, 16 июня 1904 года, который Джойс через много лет выберет для «Улисса». В мировой литературе нет другого такого дня и, скорее всего, уже не будет. Однако он существовал в реальности и, возможно, длится до сих пор. Что же было в этот день с самим Джойсом?
В этот самый день он начал разрабатывать свою теорию о том, что Шекспир – не принц Гамлет, а его отец, преданный королевой и собственным братом, как был предан, по мнению Джойса, и сам Шекспир женой Энн Хэтэуэй, изменившей ему с его братом. Джойс постоянно отыскивал великие жертвы предательства: Христа, Парнелла, себя. Вместо того чтобы делать художника мстителем, он переводил его в рогоносцы. Об этом он с восторгом рассказывал Эглинтону, Бесту и, разумеется, Гогарти.
В знаменитую башню Мартелло он пока не переехал, хотя по «Улиссу» он там уже живет и даже платит за постой. Он влюблен в одну из дочерей музыканта Микеле Эспозито, а другую умудрился оскорбить.
Собственно, влюбленность и сделала этот день великим талисманом Джойса и всего читающего мира. Джойс часто воображал себя влюбленным – довольно долго его мысли занимала кузина Кэтси Мюррей, потом в них воцарилась Мэри Шихи, правда, без всяких попыток объясниться или сблизиться теснее. Отношение к женщинам у него было сложным – писательницы-феминистки впоследствии прокатятся по нему джаггернаутовыми колесами, смазанными ядом. Станислауса он потряс, одобрительно процитировав дублинскую остроту: «Женщина – это животное, которое раз в день мочится, раз в неделю испражняется, раз в месяц менструирует и раз в год размножается». Однако невероятная грубость легко уживалась в нем с подлинной нежностью – иначе не был бы написан последний эпизод «Улисса» и та самая «АЛП» из «Поминок по Финнегану», которая уже давно считается одним из шедевров мировой лирики. В «Камерной музыке» он мечтает о НЕЙ, одновременно и представляя ее себе и не зная, кто она такая… Говорит он с леди, учтив и благороден с леди, томится он по леди. Но вышло всё совсем не так.
Еще 10 июня, как написано почти теми же словами во всех его биографиях, Джойс шагал по Нассау-стрит и вдруг увидел высокую молодую женщину с каштановыми волосами, шагавшую чуть поодаль. Сперва он заметил даже не ее, а то, как гордо и независимо она держится. На попытку Джойса заговорить она ответила достаточно бойко. Из-за «капитанки» девушка приняла его за моряка, а по голубым глазам сначала решила, что он швед. Она служит в гостинице «Финн», вполне приличной меблирашке, а по певучей речи Джойс угадал, что она из Голуэя. Имя у нее было ибсеновское – Нора, а вот фамилия… «Барнакл» в обыденной речи означает липучку, «банный лист», человека, держащегося за должность, даже вцепившегося рака. Отец Джойса, услышав, как ее зовут, предрек: «Вот она его и не отпустит никогда». Разговор закончился обоюдным согласием встретиться перед домом сэра Уильяма Уайльда на углу Мэррион-сквер. Сэр Уильям, великий хирург и замечательный фольклорист, уже скончался, в Генуе похоронили его жену, а четыре года назад во Франции умер его опозоренный сын Оскар. Сыновья Оскара не носят больше его фамилию и даже не хотят учиться в Оксфорде…
Но 14 июня свидание не состоялось. И Джойс посылает рыжей капризнице первое, во всяком случае из уцелевших, письмо:
«Шелборн-роуд, 60.
Должно быть, я ослеп. Так долго смотрел на рыжие волосы и пытался решить, ваши ли они. Домой я вернулся удрученным. Я бы снова назначил свидание, но это может быть неудобно вам. Я надеюсь, что вы будете так добры, что назначите его мне – если вы меня еще не забыли!
Джеймс А. Джойс,
15 июня 1904 г.».
Свидание было назначено. Вечером 16 июня они прогулялись по Рингс-энду, а после начали встречаться чаще.
То, что самую известную и знаменитую из своих книг Джойс навсегда привязал к дате своего первого свидания с Норой, говорит прежде всего о том, как безоговорочно он признал ее значение в своей жизни. Как Петрарка, в тот день он «вошел в лабиринт, из которого нет исхода». Образовалась связь с миром, которой раньше не было и через которую к нему пришло многое. Но прежде всего разрушено было то мучительное одиночество, которое не оставляло его после смерти матери. Как всем известно, в английском языке понятия «мужчина» и «человек» обозначаются одним словом. Норе скажет Джойс: «Ты сделала меня мужчиной». Подразумевалось – «человеком». О Норе написано уже несколько книг, и по крайней мере пара из них – серьезные. О чем же можно было писать?
У любого крупного писателя кроме реального брака есть еще символический – так складывались отношения Йетса и Мод Гонн. Второй брак – алхимический: художника и народа. Можно для точности сказать – художника и родины. Принадлежал ли союз Джойса и Норы к какой-то из этих разновидностей?
Джойс отдал «Улиссу» всё, даже этот день своей жизни, но вот Нору он не отдал никому: ни мятежному поэту Стивену Дедалусу, ни умеренному и аккуратному супругу Леопольду Блуму.
Она могла показаться простушкой, но Джойс вечно искал необычное в обычном и, похоже, не ошибся. У нее не было особого образования – средняя школа, и всё тут. В литературе она не разбиралась, духовными исканиями не занималась. Была очень неглупа от природы, остроумна и способна выражать свои мысли кратко и точно. Кокетлива, но при этом облечена какой-то ненарушимой невинностью, отчего ее верность Джойсу была немного забавной, но безупречной. Разделять интеллектуальные устремления она явно не годилась, ну так ведь и Джойсу для этого мало кто был нужен. Символического союза, восхищавшего леди Грегори или того же Йетса, не получалось. Вышел союз двух крепких и живых молодых людей, из которых один был проще и чище, а другой зато умел петь.
Полгода назад девушка приехала из Голуэя, где ее отец был запойным пекарем и их огромная семья жила в нищете. Норе было пять лет, когда мать, возившаяся с кучей младших детей и снова беременная, отослала ее к бабушке на остров Нан. После родов она должна была вернуться, но бабушка предложила оставить ее у себя. Мать окончательно порвала с отцом, ее братья частично заботились о девочке и ее воспитании. Когда Норе исполнилось тринадцать, она стала ходить в монастырскую школу Милосердных сестер, а потом ее взяли привратницей в школу Богоявления, тоже в Голуэе. Ближайшая ее подруга Мэри О’Холлиран описала это время. Записано под ее диктовку сестрой Норы Кэтлин Барнакл, так как миссис О’Холлиран несильна в грамоте – да и Кэтлин тоже:
«Она была самой надежной подругой из всех каких я знала когда нам удавалось раздобыть пенни на сладости что случалось очень редко мы отправлялись к миссис Фрэнсис она была почти слепая и держала кондитерскую лавочку на Проспект-хилл. Пока она искала гирю на полпенни для весов Нора набивала карманы фартука сладостями и мы убегали с ужасным хохотом и фартуки у нас были набиты сладостями и мы шли к другой старушке и просили на пенни леденцов от кашля и ухватывали из жестянки сколько могли пока она стояла к нам спиной и снова очень смеялись. Там был молодой человек Джим Коннел он бывало приходил к нам и все время ждал когда уедет в Америку. В тот вечер мы с Норой купили коробку шоколадных негритят мы их называли черные детки и взяли самый большой конверт какой нашелся и послали по почте коробку Джиму а Джим читать не умел и примчался к нам домой думал наконец получил разрешение в Америку и когда пакет вскрыли он увидел только двенадцать негритят и нам пришлось удрать и неделю не показываться он отдал это своей милочке ее звали Сара Кэвэно из деревни и после того он с ней не разговаривал.
Нора знала другого парня ей очень нравилось его имя Майкл Сонни Бодкин и он собирался в Юниверсити-колледж он был очень красивый молодой человек и голова у него была в черных кудрях он Нору просто обожал, но она была для него слишком молодая и боялась что ее увидят с парнем. Мы ходили в лавку к его отцу купить на пенни леденцов таких плоских со стихами на них (вроде я тебя люблю вечером тебя я жду). Сонни Бодкин умер совсем молодым.
Потом Нора встретила Уилли Малвея она его повстречала прямо на мосту и он спросил встретится ли она с ним а она меня спрашивает Мэри что мне делать. Я ей говорю иди когда она спросила что ей делать. Я говорю буду ждать тебя буду сидеть у Эбби-Черч ждать тебя и будто я пошла с тобой и нам надо вернуться домой до десяти вечера а то ее побьют. Она очень боялась своего дядю Томми Хили когда он в городе ее видел со своей тростью и всегда насвистывал. Я тоже боялась что меня увидят поэтому была внутри в Эбби-Черч пока она не пришла с большой коробкой шоколада и раскидала его по столу у меня дома и всех нас оделила.
Потом однажды вечером Нору поймал ее дядя Томми он за ней шел до самого дома а там здорово ее отлупил. На другую неделю она уехала в Дублин и написала мне оттуда, Привет, подруга, я тут в Дублине и мой дядя Томми уже за мной не походит. Она шесть месяцев в Дублине пробыла а потом приехала домой навестить. Потом уехала и семь лет вообще не писала домой.
Я замуж вышла в ноябре 1906-го и стала миссис Моррис и мать шести детей три мальчика и три девочки один мой сын школьный учитель тут в Голуэе и теперь у меня тринадцать внуков, я живу напротив Кэтлин (Барнакл-Гриффин) с моей сестрой Энни и когда я по вечерам одна слезы наворачиваются на глаза как я часто думаю про вечера когда мы с Норой одевались в мужские костюмы. Мы ни разу не попались и встретили ее дядю Томми однажды вечером и Нора говорит это мой дядя а я говорю Нора пошли скорее нечего болтаться тут и я сказала ему добрый вечер, подделываясь под мужской голос как могла так что он никогда не узнал и вот я еще здесь а моей Норы уже нет».
Запись могла бы встать без всяких исправлений в любой текст Джойса – она выглядела бы смелой натуралистической интрузией. Но и без этого отсюда узнается многое о Норе, как из всякого человеческого документа.