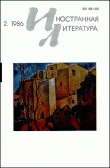Текст книги "Джойс"
Автор книги: Алан Кубатиев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 41 страниц)
Постоянно писать Джойс еще не мог и занимался больше тем, что сводил воедино уже опубликованные части «Хода работы». Мисс Уивер он писал, что одним глазом созерцает море и ничто больше не заставляет его сидеть с разинутым в восторге ртом. Но Джойс смог проехаться и к менгирам Карнака с Норой, американским писателем Ллойдом Моррисом и его матушкой. Правда, обсуждать фаллические изваяния древних кельтов он решился только после того, как леди ушли вперед.
В самом начале сентября Джойсы вернулись в Париж и нашли квартиру на авеню Шарль Фуке, 8; а в конце месяца глава семьи отбыл в Лондон. Среди поклонников Джойса появились две дамы – уже знаменитая Н. D., Хильда Дулитл, поэтесса и романистка, когда-то невеста и выученица Эзры Паунда, а тогда еще жена Ричарда Олдингтона и соосновательница имажизма. Рядом смертельно влюбленная в нее романистка и киножурналистка Уинифред Макэлмон, автор одной из первых книг о кино советской России, невероятно богатая тогда еще жена-лесбиянка бедного писателя-гомосексуалиста Роберта Макэлмона. Собственно говоря, она и вышла за него, чтобы уйти из семьи и дать себе полную волю, и дала – X. Д., которой доктор Фрейд подробно разъяснил, что она бисексуальна и другой не будет, ушла к ней вместе с маленькой дочерью, прожила с ней почти двадцать лёт и встречалась до самой смерти. Эти друзья и помощники давно уговаривали мисс Гарриет наконец встретиться со знаменитым подопечным, и она согласилась. Ей прекрасно были известны слабости Джойса, он сам их подробно описывал в обильной переписке, но все же и она была ошеломлена, в октябре увидев его в том же отеле «Юстон» – Джойс был в тяжелом запое. К чести проповеднической дочери и старой девы, надо сказать, что она в тот раз не поменяла к нему своего отношения. Хотя Джойс стыдился этого случая, но вскоре его заслонил другой.
Письмо от брата Чарльза принесло очень мрачное описание состояния тети Джозефины. Она умирала. Джойс, написавший ей накануне очень резкое письмо, раскаивался и тут же написал другое, непривычно мягкое:
«Я ведь даже надеялся встретить тебя в Лондоне пару недель назад. Мне не сказали, когда я звонил, что ты в больнице… Теперь я езжу в Англию чаще и надеюсь увидеться с тобой либо там, либо в Дублине в самом ближайшем будущем. Только вчера утром я собирался написать тебе – как обычно, на предмет сведений о моем детстве, ибо ты одна из двух людей во всей Ирландии, кто может что-то сказать мне об этом. Чарли переслал мне твое необычайно доброе письмо. Я крайне глубоко тронут, что ты сочла меня достойным упоминания в такой тяжелый час. Меня привлекло в тебе еще в юности то множество проявлений доброты, помощь и советы, сочувствие, особенно после смерти матушки… Ничто не доставляло мне такого удовольствия, как возможность говорить с тобой о самых разных вещах…Я до сих пор привязан к тебе узами благодарности, преданности и уважения. Надеюсь, что ты простишь мне эти путаные слова. Нора, Джорджо и Лючия шлют тебе горячие пожелания скорейшего выздоровления.
…Письмо Чарли было настолько тяжелым, что я должен написать тебе то слово, которое не могу написать. Прости мне, если в моем нежелании я совершаю ошибку. Но эти скудные слова благодарности я все же посылаю тебе и надеюсь, несмотря на дурные вести».
Но Джозефина Мюррей уже скончалась. От старого Дублина в этом кругу остался только Джон Джойс. Умер одноклассник Джеймса Ричард Шихи, в августе 1924 года скончался Джон Куинн, в декабре умер Уильям Арчер, не признававший Джойса наследником Ибсена. Горе Джойса было одиноким и жестоким: сила переживаний снова начала отнимать у него зрение. Шестое вмешательство помогло снять с левого глаза растущую катаракту, и Джойс увидел мир с давно забытой четкостью – но всего на несколько минут. Борш уверял, что зрение вернется, но в январе 1925-го улучшение было крайне слабым. Ему сделали капсулотомию: в центр помутневшего хрусталика вставляли циститом, крохотное лезвие, и вырезали отверстие, через которое свет попадал на сетчатку глаза. Вторую операцию, в его сорок третий день рождения, Джойс попросил отложить на день, а затем ее отложили еще, и тут правый глаз поразил конъюнктивит, настолько острый, что Джойсу пришлось срочно вернуться в клинику. Конъюнктивит перешел в эписклерит, заболевание не столько опасное, сколько мучительное, особенно по ночам, когда до глаза невозможно дотронуться. Пиявки слегка ослабили боли, но не устранили их. Пришлось использовать морфин.
А в Нью-Йорке в этот день шло сорок седьмое представление «Изгнанников», и премьершу звали Джойс.
Выписали его только через десять дней, но Боршу не нравилось состояние его рта, он предполагал скрытый абсцесс и даже не один; рентген показал нагноение глубоко сидевшего обломка корня. Удалить его не успели: обострилось воспаление правого глаза. Борш прописал Джойсу строжайшую диету, ежедневные десятикилометровые прогулки. Джойс говорил, что если он проходит это расстояние, когда один глаз практически слеп, а другой воспален, в густом тумане и на пустой желудок, это при парижском-то движении, то ему просто обязаны дать орден Почетного легиона. В апреле обломок удаляют, оперировать до заживления нельзя, и Джойс видит достаточно, чтобы переписать большой кусок текста для июльского номера «Крайтириэн». Затем левый глаз оперируют, снова десять дней в клинике, почти в одиночестве: посетителей мало – Уиндем Льюис, миссис Наттинг, ставшая для него чтицей книги о Дублине, которую он напряженно запоминал с ее голоса, даже примечания и дополнения. Он требовал подробностей о нашествии датчан, ему очень нравилось выражение «прошли вглубь, насколько может проплыть лосось», и Джойс пытался выяснить, сколько это в милях. Миссис Наттинг вспомнила, что уховертка на йоркширском диалекте «подергушка», а Джойс пересказал ей старую легенду, что Каин придумал похоронить Авеля, наблюдая за суетящейся возле трупа уховерткой. С ним подолгу сидела Нора, которая обижалась на друзей, что они не сбегаются к мужу.
И еще одна женщина вошла в круг Джойса – таково было его обаяние. Похоже, он пробуждал в них некое преображенное подобие материнского инстинкта, особенно в богатых, бездетных, неугомонных, неспособных справиться с собственной семьей. Хелен Кастор Флейшман, жена парижского агента издательства «Бони и Ливрайт» Леона Флейшмана, была именно такой. Джойсу в больницу она принесла баночку его любимого джема из ежевики, и благодарный Джойс задумчиво поведал, что во Франции такого не едят. «Потому что на самом деле мученический венец Христов был сделан из колючих стеблей ежевики…»
Он отказывал журналистам в интервью. Не любил он их еще и из-за репортера, прорвавшегося к нему с воистину ошеломительным вопросом: «Что вы чувствуете и делаете сейчас, когда вот-вот ослепнете?» Седьмая операция и вправду не сулила успеха, хотя уголком левого глаза Джойс уже видел; правый глаз с непроходящим конъюнктивитом мог читать печатный текст через мощную лупу. Йод, аспирин, скополамин, морфин, уколы, пиявки, охлажденные искусственные слезы… «В вашем письме упомянуто нечто под названием „теплый солнечный свет“. Что это такое? В трудах выдающихся писателей встречаются ссылки на него…» Утро в клинике, вечер у Борша. К маю он почувствовал себя лучше, но говорил, что майское солнце светит для него совершенно по-декабрьски. В июне 1925 года Джойсы снова переехали; это был тупичок, площадь Робийяк, выходящий на рю Гренель, 192, и прожили там до конца апреля 1930-го – дольше, чем где-либо еще в Париже. Суета переезда, шум и неудобства вызвали новый приступ глазных болей, и назавтра Джойс уехал в клинику прямо с оперы, где пел Шаляпин. Тем не менее приходилось обживаться: куплена недорогая мебель, развешаны семейные портреты и фотографии, новый портрет отца кисти Тьюохи, снимок здания дублинской таможни на берегу Лиффи и неожиданно – репродукция «Головы девушки» Вермеера. Левому глазу было не лучше, и Борш предупреждает его, что летом надо отдохнуть и окрепнуть, ибо сентябрь уйдет на операции и выхаживание.
Джойс уезжает в Нормандию. Излишне говорить, что при всех болях, неудобствах и отчаянии он работает, но его преследует даже погода – стоит ему уехать в самое наикурортное место, как через неделю начинаются дожди и штормы. Очевидно, само его присутствие колебало какие-то очень сложные природные механизмы. Они перебираются в Руан, но там погода вскоре стала еще хуже, пришлось уехать в Аркашон, оттуда в Ньорт и Бордо. «Бесплодную землю» Элиота он уже прочел, и ее образность чрезвычайно уместно легла на его настроение. В письмах он описывал Руан именно в этом ключе, пародируя поэму: «…размачивая сырой мозг в вымокших костях… (поспеши Джойс, ибо время!). Слышу я москитов, клубящихся над старым Бордо – множество. Не думал я, что земля скрывает их столько (поспеши, Джойс, ибо время!). Но будет дивное время, когда мы вернемся в Клинику, бесплодную землю, о Эскулапиос! (Шатанти? Шатанти? Шатанти?)». Прогулки по пляжу в Аркашоне только подтвердили, что он почти ничего не видит, а театр – что он не различает даже лиц актеров. Но он упрямо высидел в Аркашоне до начала сентября и вернулся прямо в клинику Борша. Улучшение позволило отложить седьмую операцию, и он, не вставая, дописывал седьмой эпизод «Шоу-на» – о дорогах, как «Анна Ливия Плюрабель» была о реках. Неожиданно сердечное письмо Станислаусу, написавшему о помолвке со своей бывшей ученицей Нелли Лихтенштейгер, содержало приглашение посетить их, «пока не начался сезон у Берлица и в Биаррице». Растроганный Станислаус обещал приехать позже.
Борш назначил было операцию на 23 ноября 1925 года, но правый глаз был все так же плох, и ее пришлось отложить на 8 декабря, а сразу после этого еще сделать восьмую и девятую. В середине декабря Джойс вернулся домой – слепой на левый глаз, с болями и головокружениями, и когда Наттинги пришли навестить его, то нашли в совершеннейшем отчаянии. Он даже сказал: «Это все тянется слишком долго. Я устал». К Новому году он мог писать лишь огромными буквами, а как-то взял у Майрона Наттинга его угольный карандаш и набросал шарж на Блума, пучеглазого, простодушного, в котелке. Рядом так же небрежно выведена на койне первая строчка «Одиссеи»: «Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который…» На предложение диктовать Джойс ответил отказом: он должен был писать и видеть, что написано, и потому же отказался от пишущей машинки Уильяма Берда. Боли продолжались, глаз не мог вывести экссудат, скапливавшийся после операции, и Джойс лежал, ожидая, пока «Ирландский Глаз (так называется маленький островок возле Хоута) исполнит свой долг…», Но к весне наступило облегчение, и несколько месяцев глаза никак не давали о себе знать.
1925 год в основном ушел на книгу Шона, третью часть романа, составленную из четырех глав, или «бдений», и на переделку первой части. Несколько первых страниц Макэлмон опубликовал в сборнике современных авторов. Разумеется, типографы снова протестовали. В июне точно так же целомудренные английские печатники отказались набирать «Анну Ливию Плюрабель» для «Кэлендер». Джойс забрал ее, рассчитывая на публикацию в «Серебряном корабле».
Болезни, слепота, дурная погода, плохие предчувствия, переезды – ничто не могло остановить Джойса. Откуда он так уверенно знал, что это будет не только его величайшая книга, но одна из величайших книг мира? (Скорее угадывая, чем видя то, что написано на листе, вслепую внося дополнения и поправки, он делал страницу за страницей и нуждался только в том мире, который просачивался в него и откладывался в нем. Он писал о человеке, и прежде всего о нем, но лишь о том, которым был он сам, хотя был он сразу многим.
Глава тридцать вторая СНОРЕЧЬ, СЛЕПОРЕЧЬ, НОЧЕСЛОВ
Воспрянули «Изгнанники». «Стейдж сосайети» через семь лет вновь решилось сделать спектакль на сцене Риджент-тиэтр в Лондоне.
Уильям Фэй 14 и 15 февраля показал премьеру; Джойс послал исполнительнице главной роли цветы и попросил всех лондонских друзей и знакомых побывать там. Бенуа-Меше в Париже он усадил читать пьесу и по окончании спросил: «Так же хорошо, как у Гауптмана?» – и молодой человек ответил: «Некоторые эпизоды даже хуже…»
Не рискуя после операции ехать в Лондон, Джойс попросил друзей поподробнее записать свои впечатления – мисс Уивер, Клод Сайкс, Этторе Шмиц добросовестно сделали это. Зал был почти полон, публика аплодировала, особенно первым двум актам, третий озадачил их своим двусмысленным финалом. Сосед Шмица проворчал: «Они нам навязывают итальянские чувства», на что Шмиц ответил: «Итальянцы известны тем, что ревнуют, даже когда не влюблены».
Бернард Шоу был на втором дне премьеры и на обсуждении, организованном «Стейдж сосайети», говорил о пьесе Джойса вполне благосклонно – судя по всему, он вообще стал относиться к нему гораздо мягче, оспаривая темы и язык, но признавая «классический тип» таланта. Рецензентов это раздражало. Но Шоу позже дал Арчибальду Хендерсону очень интересное интервью, в частности о Джойсе и его языке, где сказал: «Запретите книгу, и вы не будете знать, что такое непристойность и просторечие. Это будет защита грязи, а не нравственности. Если человек поворачивает зеркало к вашей природе и показывает, что она нуждается в мытье, а не в отбеливании – бесполезно разбивать зеркало. Надо брать мыло и воду». В 1939 году он написал довольно жесткое письмо редактору «Пикчер пост», утверждавшему, что Шоу испытывал отвращение к тошнотворному реализму «Улисса» и сжег свой экземпляр в камине: «Кто-то обманул мистера Григсона. Я читал „Улисса“ в выпусках американского „Литтл ревью“ и много лет не различал, что это история единственного дублинского дня. Но проведя семь или восемь сотен единственных дней в Дублине, я различил и талант, и поэтичность этой книги. Я не сжигал ее и не испытал отвращения. Если мистеру Джойсу когда-нибудь понадобится от меня свидетельство о том, что он автор литературного шедевра, оно будет выдано со всем возможным и искренним энтузиазмом».
Очень трогательно. Особенно если учесть, что ни Шоу, ни Йетс так романа и недочитали…
Джойс-младший, Станислаус, приехал на Пасху. Отношения между братьями давно были прохладными, а неприязнь Станислауса к «Улиссу» и «Поминкам…» усугубила их. Станислаус упрекал Джеймса, что он по-прежнему тонок, искренен и лиричен в стихах, а в прозе просто перестает быть собой. «Если литература должна развиваться в направлении твоей последней работы, она непременно станет, как предсказывал Шекспир века назад, „много шума из ничего“». Он был так же непримирим, нервен и воинствен, как семь лет назад. На площади Робийяк Станислаус увидел Джеймса и толпу поклонников, прощавших ему всё, Джеймса чванного и переставшего нуждаться, величаво роняющего слова и пьющего, пьющего. Поклонники осудили Стэнни за отличную в общем фразу: «Ты создал самый длинный день в литературе, а теперь призываешь самую темную ночь». Однако Джойс, как всегда, пил, но дело разумел: отношения Шоуна и Шема, особенно фраза о «дурнопрославленном каламбуристе», сконструированы из того же вещества, что и их с братом нескончаемые контры.
Уехал Станислаус, и появилась Эйлин Шаурек с детьми, проездом из Триеста в Ирландию, а с ними миссис Шихи-Скеффингтон и Гарри Синклер из Дублина. Джойс любил не столько ирландских гостей, сколько возможность проверить свою память – например, назвать по порядку все лавки и магазины вдоль О’Коннел-стрит, припомнить всех друзей и все знакомые места. Называл владельцев лавок и огорчался, когда те переходили к другим людям. Из его гигантской галереи словно изымали экспонат. Теперь, когда миссис Мюррей умерла, даже отца приходилось расспрашивать через третьих людей – а узнавать нужно было мельчайшие детали семейной истории, близких, древние и нынешние дублинские сплетни. Джон Джойс охотно делился всем, но иногда пробирало и его, и он интересовался, окончательно ли спятил Джим.
Третья книга «Поминок…» в мае 1926 года была переработана в той части, где появляется Шоун; Джойс заканчивает ее и отсылает мисс Уивер 7 июня с просьбой как можно быстрее сообщить свое мнение. Но тут левый глаз дает о себе знать так, что десятую операцию пришлось делать немедленно, а вот оправлялся Джойс после нее очень долго. Он упорно вставал и появлялся на людях, но все знаменитые фото с черной накладкой сделаны именно тогда. В августе он отправился с Норой в Остенде и жил в отеле «Океан», где его страшно забавляло то, что на все звонки там отвечали: «„Океан“ слушает». Остенде неожиданно оказался уютен, погода чудная, а пляж настолько хорош, что Джойс вдруг вспомнил свое легкоатлетическое прошлое и пробегал по нему изрядное расстояние. Взял больше полусотни уроков фламандского, который, разумеется, пошел туда же – лакей Сокерсон в «Поминках…» пользуется фламандскими словами. Там же оказались многие цюрихские знакомые, и среди них Георг Гойерт, выигравший конкурс переводчиков «Рейн-Ферлаг», швейцарско-немецкого издательства Джойса, – с ним они обсуждали уже готовый перевод «Улисса», и около сотни страниц было авторизовано. Оставалось еще очень много вопросов, и Джойс с Гойертом уговорились встретиться в Париже. В Остенде прилетел Джеймс Лайонс, родич по материнской линии, провел с Джойсом несколько часов и снова лихо улетел на своем гидроплане. Джойс был в нешуточном ужасе: он говорил потом, что полетит на аэроплане только захлороформированным.
Новости были не только приятными. Еще в 1922 году ему написал американец Сэмюел Рот, даровитый поэт и начинающий издатель, выражавший искреннее сожаление, что «Улисс» недоступен американским читателям. Он успел заработать приличные деньги на школе, обучавшей иммигрантов английскому языку, и открыл несколько журналов, один из них, «Бо», считается предтечей всех американских мужских журналов типа «Эсквайра». Литературные журналы «Ту уорлдс» и «Ту уорлдс мансли» тоже печатали и перепечатывали современных писателей, наиболее откровенных и смелых в изображении секса. С сентября 1925-го Рот перепечатал из «Хода работы» пять фрагментов Джойса и даже прислал ему 200 долларов, пообещав прислать еще, чего никогда не произошло. Осмелев, Рот напечатал в сдвоенном выпуске «Ту уорлдз мансли» за июнь 1927 года почти всего «Телемаха», да еще и поправил его. США не подписывали тогда Бернскую конвенцию по защите авторских прав, но Джойс телеграммой попросил партнера Куинна начать процесс против Рота; тот, как и отец Эзры Паунда, отказался. Пришлось отложить всё до возвращения в Париж.
С семьей он отправился в Антверпен, затем в Гент и Брюссель. Разумеется, не обошлось без автобусной экскурсии в Ватерлоо – ведь в первой книге романа сражаются Наполеон и Веллингтон, и следовало запастись «де-визу» проверенными деталями. В автобусе, чего он не знал, был молодой Томас Вулф, который не осмелился с ним заговорить, но наблюдал пристальнее, чем за экскурсоводом: «У него черная нашлепка на одном глазу… Одет очень просто, даже бедновато… Женщина с ним имеет внешность тысяч француженок среднего класса – вульгарна, большерота, не слишком интеллигентна по виду… Джойс очень прост, очень мил. Он шел рядом со стари-ком-гидом, водившим нас, с явным интересом слушал его разглагольствования на ломаном английском и задавал вопросы. Мы возвращались в Брюссель через прекрасный лес, Джойс сидел рядом с водителем и задавал множество вопросов… На обратном пути он держался театральнее – набрасывал плащ на плечи… Но мне нравилось смотреть на него – ничего необыкновенного сперва, но потом это ощущение нарастает. Лицо очень яркое, слегка вогнутое, тонкий, но крепкий рот, чрезвычайно насмешливый. Крупный, сильный, прямой нос – краснее лица, в шрамах и угрях».
Во Франкфурте в 1928 году они встретились снова и даже перекинулись парой слов, но по застенчивости Вулф опять не представился. Шервуд Андерсон и Фрэнсис Скотт Фицджеральд с Джойсом познакомились, но близкими друзьями не стали.
Сентябрь в Париже обернулся для Джойса началом неприятностей с «Поминками по Финнегану». «Дайэл», попросивший третью главу, поначалу принял ее, затем потребовал поправок, потом отказался печатать. Но Джойса насторожило даже не это, а растущая неприязнь к книге, которая, собственно, еще не была написана. Опыт «Улисса» его мало успокаивал: да и против «Поминок…» высказывались теперь даже друзья, принявшие первые романы. Те, на чью поддержку он надеялся, отмалчивались, в лучшем случае дожидаясь издания целой книги. Им было трудно читать ее иначе чем как бесконечную цепь каламбуров, пун, лингвистических шуток, а по-другому они не могли. Сперва удивление, потом раздражение и даже гнев. Многие высказывали огорчение, но были откровенные издевки. Очень осторожна была в своих письмах мисс Уивер, хотя при этом всячески поощряла работу Джойса. Но он чувствовал неладное. Всячески стараясь помочь ей верно воспринять книгу, он подробно объяснял и комментировал посылаемые куски текста, а однажды даже предложил ей «заказывать» фрагменты по своему усмотрению.
Предложение в общем было вполне приемлемым, в силу универсальности задуманной книги; оно даже позабавило мисс Уивер, которая написала ему о каких-то местных легендах Пенрита, где отдыхала, и шуточное письмо в стиле его словообразований. Там описывались гигантский кенотаф, два каменных столба и четыре горизонтальных бруса между ними, который называли «могилой великана». Правда, последняя фраза была такой: «Но то, что мне действительно понравилось, скорее всего станет заказом на вашу следующую книгу! Однако время это еще далеко». Джойс уловил тревожную для него ноту, но остановиться уже не мог и не хотел.
Он ответил ей: «Я знаю, что это не более чем игра. Но это игра, которую я научился вести на свой собственный лад. Дети могут играть или не играть. Огр все равно придет за ними». Джойс и этот символ истолковал как каменное воплощение Ирвикера – голова в Хоуте, ноги в Кастл-Нок, что в Феникс-парке, а второе – бочонок виски и бочонок «Гиннеса» в головах и ногах Финнегана.
Отрывок (почти всю книгу «Шоуна») вместе с подробным комментарием пун, топонимов и антропонимов Джойс послал и Паунду. В середине ноября тот ответил:
«Дорогой Джим, рукопись прибыла. Все, что я могу сделать, это пожелать тебе всех возможных успехов.
Я возьмусь за нее еще раз, но в данный момент я ничего в ней понять не могу. Ничего не могу и сказать, ни о какой нехватке божественного прозрения или нового средства от триппера, ст о ящего такой оплетающей перифразировки.
Несомненно, сыщутся терпеливые души, которые продерутся через всё в поисках возможной шутки… но отсутствие любой связи с замыслом автора служит только развлечению или наставлению… К данному моменту я отыскал фрагмент в части Тристана и Изольды, который ты читал год назад… mais apart са… [143]143
Но кроме этого… (фр.).
[Закрыть]и в любом случае я не вижу, что здесь к чему… undsoweiter [144]144
И так далее (нем.).
[Закрыть]
Всгдтвй Э. П.».
А через пару дней он получил письмо от мисс Уивер. Благодарность за подробные разъяснения впервые сопровождалась очень осторожным упоминанием о Читателе Обыкновенном: «Но, дорогой сэр (я, кажется, всегда нахожу какое-то „но“) хуже всего то, что без общего ключа и глоссария, такого, какой вы сделали для меня, бедный простодушный читатель утратит очень большую часть вашего замысла; беспомощное барахтанье – неминуемая опасность… Возможно, вы хотели, чтобы Он, Она и Они таким образом исчезли с горизонта – и особенно все чиновники – по крайней мере чтобы книга беспрепятственно могла доплыть до дальнего берега „Дублина всех времен“. Другими словами, будет ли это совершенно против вашей природы, убеждений и принципов опубликовать (когда придет время) одновременно с обычным изданием еще и аннотированное (скажем, по двойной или тройной цене?). Забрасываю как простое предложение».
Судя по дневникам, письмо мисс Уивер его не удивило – опыт таких предложений накапливался со времен «Дублинцев»; но от Паунда он такого не ожидал. Нора вспоминает, что он долго лежал на диване, отвернувшись к стене. Но на следующий день Джойс, как ни в чем не бывало, сел за ответ:
«Громадная часть человеческого существования проходит в состоянии, которое не может быть передано осмысленным образом с помощью языка бодрствования, сухомолотой грамматики и бегущего сюжета».
Паунд стоял на своем – ни одна книга не ст о ит таких усилий, кроме Библии, а Библия написана другим языком и о других вещах. Паунд не понимал главного – он был среди немногих людей, от которых Джойс ожидал поддержки. Еще Лактанций говорил: «Habent sua fata libelli…» – «Книги имеют свою судьбу», эту часть цитаты знали все, но гораздо реже звучало продолжение, «…pro captu lectoris», «зависящую от способностей читателя». Способности Паунда останавливались как раз перед «Поминками по Финнегану». Слабым утешением было то, что таких явно ожидались миллионы.
В начале ноября 1926 года Станислаус известил брата, что на сорок втором году жизни собирается стать мужем Нелли Лихтенштейгер; Джеймс послал ему чек и пожелал счастья. Но тут же пришла истерическая просьба о деньгах от сестры Эйлин, которая приехала в Дублин: почти одновременно Станислаус написал ему, что Шаурек скоропостижно умер. Эйлин возвращалась через Париж, еще не зная о смерти мужа, а Джойс не нашел сил, чтобы сообщить ей об этом. В Триесте цветы на его могиле уже завяли, а она все еще отказывалась принять печальный факт. Эйлин категорически потребовала эксгумации; когда тело было извлечено, она впала в глубокий шок и три месяца почти не приходила в себя.
В дополнение к этим потрясениям развивалась история с Ротом. «Ту уорлдс мансли» продавался рекордными тиражами в полсотни тысяч экземпляров, и Джойс разыскал самого популярного в Париже американского юриста Бенджамена Коннера, согласившегося взяться за процесс против Рота через нью-йоркскую юридическую фирму. Ждать судебного результата можно было годами, и Джойс решил начать с организации письма в его поддержку. Позже его назовут Международным Протестом. Копии были разосланы большинству значительных писателей мира – на подпись:
«Всем необходимо знать, что „Улисс“ мистера Джойса перепечатывается в США, в журнале, издаваемом Сэмюелом Ротом, и перепечатка эта осуществляется без разрешения мистера Джойса, без выплат мистеру Джойсу и с изменениями, серьезно искажающими текст. Это присвоение и повреждение собственности мистера Джойса совершается под предлогом законной защиты, так как „Улисс“ издается во Франции, но изымается из посылок в Соединенных Штатах и его авторские права не защищаются. Проблема оправдания такого исключения пока не ставится; подобные решения принимались властями в отношении произведений искусства и прежде. Вопрос в том, может ли публика (включая издателей и редакторов, которым предлагается его реклама) поощрять мистера Сэмюела Рота воспользоваться складывающимся юридическим затруднением, чтобы лишить автора его собственности и изуродовать произведение его искусства. Нижеподписавшийся протестует против поведения мистера Рота и его перепечатки „Улисса“, обращаясь к американской публике во имя той сохранности плодов интеллекта и воображения, без которых искусство не может существовать, и зовет противостоять деятельности мистера Рота всей силой честного и достойного мнения».
Обращение подписали не все, кому оно было разослано. Зато среди подписавшихся были Бенедетто Кроче, Жорж Дюамель, Эйнштейн, Элиот, Э. М. Форстер, Голсуорси, Джованни Джентиле, Жид, леди Грегори, Хемингуэй, Гуго фон Гофмансталь, Д. Г. Лоуренс, Уиндем Льюис, Метерлинк, Мережковский, Шон О’Кейси, Пиранделло, Джордж Рассел, Джеймс Стивенс, Артур Саймонс, Мигель Унамуно, Поль Валери, Уэллс, Ребекка Уэст, Торнтон Уайлдер, Вирджиния Вулф и Йетс. Подписи Эйнштейна, Кроче и Джентиле, ни в коем случае не литераторов, но крупнейших умов своего времени, вызвали краткий восторг Джойса.
Неподписавшиеся тоже интересны. Бернард Шоу, скажем, припомнил Джойсу их собственную проблему с репертуаром английского театра в Цюрихе. Не подписал и Эзра Паунд – считал, что Джойс вылезает с личной проблемой перед боевыми порядками сражения против законов об авторском праве и порнографии в целом и требует батарею тяжелых пушек, чтобы палить по комарам. Ему принадлежит знаменитая фраза «Главный скандал – это сам американский народ, санкционирующий такое состояние закона». В декабре 1926 года Паунд написал Джойсу: «Считаю эту акцию отвлекающим залпом, уводящим внимание от главного и перетягивающим к пустякам». Джойс ответил на удивление мягко, что понимает – Паунд счел свою подпись чрезмерной и не стал усложнять ситуацию… Явной ссоры удалось избежать, Джойс становился дипломатом. Когда процесс уже шел, Паунд прислал Джойсу аффидевит [145]145
Письменное показание, заверенное нотариусом.
[Закрыть]на свою подпись, но требовал, чтобы в лице Рота он заклеймил презрением все американское. Хемингуэй отнесся к акции с плохо скрытым пренебрежением, но и Джойс пренебрег его оценкой. Отпечатан протест был, разумеется, в день рождения Джойса, 2 февраля 1927 года. Вечером он давал ужин для близких друзей, и за столом были Ларбо, Сильвия Бич, Адриенн Монье, Мак-Лиши, Сисли Хаддлстон и двое ирландцев.
Рот не обратил внимания на протест – «Улисс» выходил до самого октября, последним был отпечатан финал «Быков Солнца» с его затейливым и вполне американским кощунством: «В бога яйца, а это что еще за экскремент, этот англича-нишка-проповедник на Меррион-холл? Илия грядет! Омытый в Крови Агнца. Приидите все твари винососущие, пивоналитые, джиножаждущие! Приидите псиноухающие, быковыйные, жуколобые, мухомозглые, свинорылые, шулера, балаболки и людской сор! Приидите, подлецы отборные из отборных! Это я, Александр Дж. Христос Дауи, что приволок к спасению колоссальную часть нашей планеты от Сан-Франциско до Владивостока. Бог это вам не балаган, где насулят с три короба и покажут шиш. Я вам заявляю, что Бог это самый потрясающий бизнес и все по-честному. Он есть самая сверхвеличайшая хреновина, вбейте себе это покрепче. И все как один прокричим: спасение во Царе Иисусе. Рано тебе надо подняться, грешник, ох как рано, если думаешь обмишулить Всемогущего. Баам! Да уж куда там. Для тебя, дружище, припасена у него в заднем кармане штанов такая микстурка от кашля, которая живо подействует. Бери скорее да попробуй». По мнению С. С. Хоружего, здесь сплетены реминесценция знаменитого монолога Мармеладова из начала «Преступления и наказания» и риторическая фигура средневековых проповедей, саркастически сзывавшая грешников, преступников и отпадших. Лучшего завершения для своей авантюры Сэмюел Рот выбрать не мог. В ноябре юристы Джойса прижали его достаточно серьезно, публикация была приостановлена, но постановление Ричарда Митчелла, члена Верховного суда штата Нью-Йорк, Рот получил только 27 декабря 1928 года. Документом запрещалось любое использование имени Джойса. О возмещении убытков речи не было. Поначалу Джойс был доволен, однако вскоре начал препираться с адвокатами, особенно когда по ошибке его авторские права были оформлены на одного из юристов и потребовалось специальное заседание суда, чтобы оформить документы заново. После этого он заплатил им только треть гонорара.