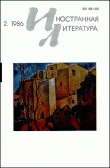Текст книги "Джойс"
Автор книги: Алан Кубатиев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 41 страниц)
Но дела шли совсем неплохо. Среди «джойсистов» появляется еще один оплот, критик Луи Гилле, с которым он повстречался на вечере поэтессы Эдит Ситуэлл, беглой английской аристократки, только начинавшей входить в славу. Гилле подошел с Сильвией извиниться за давнюю ругательную статью о Джойсе – сейчас он был о нем другого мнения. Джойс благосклонно принял извинения – статья в свое время его даже не слишком задела. Вскоре на обеде они обменялись замечаниями о «Ходе работы», и Гилле пообещал опубликовать эту беседу в «Ревю де де монде», что означало причисление теперь уже всех книг Джойса к большой литературе современности.
Объявились и давние знакомые, Падрайк и Мэри Колум. Со временем они с Джойсом стали лучше относиться друг к другу. На лекции молодого лингвиста Пера Марселя Жюссе о технике «внутреннего монолога» и его происхождении от «Лавровые деревья срублены» Дюжардена Мэри спросила Джойса:
– Ты недостаточно позабавился? Мало еще надул народу? Почему бы тебе не признать наконец свой долг Фрейду и Юнгу – неужели так плохо быть обязанным великим открывателям?
Джойс уже забыл, когда с ним разговаривали в такой манере. Он заворочался в кресле и гневно ответил:
– Терпеть не могу всезнающих женщин!..
Однако Мэри тоже была ирландкой:
– Нет, Джойс, можешь. Ты их любишь, и в этом я тебя стану убеждать даже печатно, где только смогу.
Он метнул на нее яростный взгляд, и вдруг гнев на его лице медленно сменился полуулыбкой. Но потом он все равно отплатил ей – язвительным стихотворением про дам-зануд.
Стычки у них бывали постоянно. Когда Джойс читал отрывок из «Хода работы» и спросил ее потом, что она об этом думает, Мэри ответила:
– Джойс, я думаю, это за пределами литературы.
Писатель промолчал, а потом наедине сказал Падрайку:
– Твоя жена говорит: то, что я читал, за пределами литературы. Скажи ей – за пределами сегодняшней литературы ее будущее.
С Падрайком ему было гораздо легче. Он помогал Джойсу, перепечатывая и обсуждая текст «Хода работы», во фрагменте об Ирвикере даже остались две его вставки. Ирландский Колум знал свободно, притом со множеством диалектных словечек. Джойс в качестве благодарности назвал корабль в тексте «Паудрайк».
Между тем Адриенн Монье снова занялась популяризацией «Хода работы». Мисс Уивер собралась посетить действо, и Джойс написал ей, что день этот может стать концом его парижской карьеры, как 7 декабря 1921 года стало ее началом. На 26 марта было решено устроить чтения французского перевода «Анны Ливии Плюрабель» – его читала Адриенн, а перед этим с пластинки звучал отрывок, начитанный Джойсом. Су-по рассказывал о трудностях перевода. Все было очень прилично и скучно до невозможности, и забавник Роберт Макэлмон поднял руки в молитвенном жесте и держал их так до тех пор, пока к нему не подковылял какой-то старик и не дал ему затрещину. Интереснее всего, что это оказался Дюжарден, которому показалось, что Макэлмон жестом намекает на распухшие ноги его супруги… Потом все извинились и помирились. Джойс решил, что имеет теперь полное право уехать в Англию на более долгий, чем обычно, срок.
Нора очень не хотела этого – она знала, чем обернется для него британский климат и британские встречи, но все же в апреле они съехали с площади Робийяк, пожили недолго в отеле и несколько дней спустя отправились в Лондон. Джойс назвал это их «пятой хиджрой». В Лондоне они остановились в «Белгравии»; Джойс уже мог себе это позволить. Квартира в Кенсингтоне, на Кэмден-гроув, 28-Б, снималась на неопределенный срок, потому что Джойс намеревался осесть в Англии и уже вел консультации о регистрации по английским законам брака с Норой. 4 июля, день рождения отца, был выбран днем регистрации, чтобы старик наконец утешился и не боялся, что «беззаконно живущие беззаконно и погибнут». Но в бюро регистрации Джойс сказал, что они уже были зарегистрированы под другим именем жены, и клерк заупрямился. Им следует сначала развестись, а потом уже заключать второй брак. Адвокат Джойса объяснил, что церемония совершенно законна, потому что о предыдущей никаких записей в бюро нет.
«Джеймс Огастен Алоизиус Джойс, 49 лет, холост, независимый доход, заключает брак с Норой Джозеф Барнакл, девицей, 47 лет, оба проживают на Кэмден-гроув, Лондон, 4 июля 1931 года. Отец жениха – Джон Станислаус Джойс, государственный клерк (на пенсии). Отец невесты – Томас Барнакл (сконч.), пекарь».
Репортеры накинулись на них при выходе. Довольная Нора сказала: «Теперь весь Лондон знает, что мы здесь». На первой полосе «Ивнинг стандарт» была фотография новобрачных; Джойса это рассердило, ему казалось, что его выставили на посмешище: когда Артур Пауэр шутливо спросил, как прошла церемония, Джойс сухо ответил: «Если нужна информация, посетите моего поверенного» – и отвернулся. Этот пустяк навсегда испортил их отношения. Но позже он написал о регистрации Станислаусу во вполне юмористическом тоне, подписавшись «Дорогой профессор, матримониально Ваш».
После регистрации к ним приехала Кэтлин, сестра Норы, теперь красивая молодая женщина. Джойс как-то разглядел, что на ней нет часов, подаренных им еще в Богноре, и удивленно спросил ее о них. «Я их заложила», – удрученно призналась Кэтлин. Хохотнув, Джойс ответил: «Точно так же, как я когда-то». С удовольствием он съездил с ней в Стоунхендж, куда Нора ехать не захотела, и в лондонский Тауэр, и в Виндзорский лес, и по шекспировским местам. Он просил ее называть ему деревья, которых различить не мог. В музее мадам Тюссо Кэтлин сказала, что хотела бы его там видеть, а Джойс кисло усомнился в такой возможности. К слову, он оказался прав, хотя и не совсем: они с Йетсом стоят в Зале писателей в Дублинском музее восковых фигур и к ним ходят те же посетители, что и к Майклу Джексону, выставленному по соседству.
Сестры подолгу разговаривали, и Нора жаловалась, что ненавидит ужины, где надо сидеть с творческими личностями до часу ночи, смертельно скучать, но из-за любви к мужу и сострадания к его гаснущему зрению оставаться там… Телесная сторона брака почти утратила для нее значение – похоже, и для него. Чудачества Джойса (так она их называла) то и дело раздражали ее. Когда Кэтлин сказала Норе, что он дал официанту не одну пятифунтовую банкноту, а две, Нора отмахнулась: «Вечно он так!» Еще одна пятифунтовая досталась Кэтлин. Вечером Нора потребовала, чтобы он не давал чаевых привратнику в театре, но Джойс все равно сунул ему два шиллинга. Обозлившаяся Нора повернулась и вышла вон; приунывший муж последовал за ней. Но были и любимые развлечения Джойса, всегда взбадривавшие его.
В июле 1931 года газета «Франкфуртер цайтунг» напечатала рассказ под названием «Возможно, сон». Автором числился Джеймс Джойс. Дэниел Броди, швейцарский издатель Джойса, узнал об этом и написал ему о фальшивке. Джойс ответил, что это сущее свинство, и тут же снесся с Сильвией, профессором Кертисом, Хэролдом Николсоном, Элиотом, Станислаусом, Джорджо и лондонскими адвокатами. Ему посоветовали немедленно потребовать извинений и пригрозить иском. Но «Франкфуртер цайтунг» тут же напечатала опровержение, что это, дескать, ошибка Ирен Кафки, переводчицы (и не родственницы писателя), поставившей «Джеймс» вместо «Майкл». Оказалось, что это даже не выдумка реакции – Майкл Джойс существовал и написал Джойсу письмо с сожалениями об ошибке. Однако Джойс настаивал, чтобы «Монро и Соу» потребовали от газеты более развернутых извинений, которые она отказывалась приносить. Франкфуртский юрист предупреждал, что публика считает ошибку пустяком и что нет смысла вчинять иск – можно отсудить фунтов двадцать пять, не больше, а Джойса будут считать мелочно мстительным, что недостойно писателя его таланта и славы.
Английская «хиджра» подходила к концу: на Кэмден-гроув им не нравилось, Джойс говорил, что там бродят мумии. На зиму лучше вернуться в Париж, а весной в Лондон. Июль они успели провести в Дувре, где знакомые ирландцы держали отель «Лорд Уорден». А в августе Лючия начала вести себя странно. Ее вывел из себя брак родителей; она жестоко раздражалась присутствием Кэтлин и совершенно беспричинно ревновала ее к ним, а когда они задержались в Дувре, она сорвалась в Англию одна, к Джорджо и Хелен. Родители считали это девичьими причудами и до сентября оставались друг с другом. Поменяв несколько отелей, они сняли в декабре меблированную квартиру на авеню Сент-Филибер, 2, и перевезли туда свою мебель. Джойс наконец обратил внимание на поведение дочери, считая, что она огорчена, и попытался утешить ее, вовлекая в работу – она должна была сделать большие буквицы для стихотворений, включенных в «Книгу Джойса» Герберта Хьюза, издаваемую Оксфорд Юниверсити пресс. Как ни странно, Лючия сделала эту работу к ноябрю 1931 года, но книга была уже отпечатана, и Джойс стал искать другой способ их использовать, но так, чтобы дочь не узнала, что это чистая благотворительность.
«Улисс» и «Поминки по Финнегану» привлекали все больше внимания, Джойсу поступало все больше предложений. Но Сильвия, которая, в сущности, делала обе книги, возражала против американского издания – ей от него не доставалось ни цента. Он сумел уговорить ее в обмен на некоторые свои рукописи отказаться от прав и теперь мог работать с издателями сам. Американские законы стали мягче, и можно было рассчитывать на успех. Брат Хелен Джойс, Роберт Кастор, в феврале 1932 года сделал заказ на «Улисса» от имени «Рэндом хауз», и в марте Джойс подписал контракт. Б. У. Хюбш настойчиво пытался по старой дружбе получить права на «Поминки…», и Джойс подписал контракт и с ним. Настоянием Хюбша в него был введен специальный пункт о том, что если он, Хюбш, разорвет отношения с «Викинг пресс» и решит издавать книгу сам или с помощью другой компании, то автор делегирует те же полномочия по контракту новой фирме.
В конце декабря Джойсу сообщили, что его отец смертельно болен. Припоминая все, чем огорчил старика, в удвоенном горе он послал телеграмму врачу, другу семьи, в Дублин: «Мой отец опасно болен больница драмкондра диагноз неопределенный пожалуйста предоставьте лучших специалистов все расходы за мой счет благодарю заранее джеймс джойс париж авеню сент-филибер 2». Он звонил и сыпал телеграммами в больницу через каждый час, упрашивал врачей, но сделать ничего было нельзя. Джойс-старший умирал красиво: дочери он сказал: «Я взял от жизни больше, чем любой белый человек». За несколько минут до смерти он пришел в себя, чтобы прошептать: «Передайте Джиму – он родился в шесть утра». Это не был бред: в одном из последних писем Джеймс спрашивал его о своем часе рождения, для точного гороскопа.
Джон Джойс умер 29 декабря 1931 года. Джеймс был совершенно раздавлен горем. Керрану и Майклу Хили, посетившим похороны, он писал, упрашивая выяснить, что еще говорил о нем отец перед смертью, и оба заверили его, что Джон сказал несколько раз: «Джим никогда меня не забудет…» Он писал всем, забыв о ссорах и разорванных отношениях. Паунду было написано: «Он глубоко любил меня, тем сильнее, чем старше становился, но несмотря на мои собственные глубокие чувства к нему, я никогда не смел доверять себе среди моих врагов». Элиоту: «Он очень любил меня, и мое горе и раскаяние возобновляется тем, что я много лет не приезжал в Дублин повидать его. Я держал его в заблуждении, что вот-вот приеду, я все время писал ему, но инстинкт, которому я доверял, удерживал меня от приезда, как бы мне ни хотелось».
Отцовская смерть настолько потрясла его, что он в очередной раз собрался бросить «Поминки…». Джойс считал, что вся эта книга выросла из города, куда он никогда не вернется, из человека, которого он больше не увидит, и из воспоминаний, которые не с кем больше разделить: «Меня сокрушила не его смерть, а обвинение самого себя». Он был так же волен в обращении с жизнью и благопристойностью, он так же тратил не глядя и оправдывал себя во всем, как отец, и считал эту черту основой своего таланта, дарованной ему Джоном Джойсом.
«Бедный старый дурак! – писал Джойс мисс Уивер. – Порой мне кажется, что в моем теле и горле звучит его голос. В последнее время все чаще – особенно когда вздыхаю».
2 февраля 1932 года не стало в этот раз счастливым днем. С утра Лючия была раздражительна и ссорилась по пустякам со всеми, а к вечеру в гневной истерике кинулась на мать со стулом наперевес. Нора была перепугана, и только Джорджо сумел вызвать такси и увезти сестру в психиатрическую клинику, где она была оставлена на несколько дней и вернулась сравнительно спокойной. Можно представить, в каком состоянии духа Джойс приехал к Жола на рю де Севинье. На стол подали пирог с пятьюдесятью свечами, а посередине был сине-белый сахарный «Улисс», но Джойс смотрел и не видел.
15 февраля Хелен Джойс, с огромными трудностями выносившая дитя, родила мальчика. Его назвали именами двух людей – вымышленного и мертвого: Стивен Джеймс Джойс. Но дед Джеймс решил, что мальчик сменил на этом свете своего деда. Одно из последних и самых лирических его стихотворений написано в этот самый день:
ЕССЕ PUER
Из бездны веков
Младенец восстал,
Отрадой и горем
Мне сердце разъял.
Ему в колыбели
Покойно лежать.
Да снизойдет
На него благодать.
Дыханием нежным
Теплится рот
Тот мир, что был мраком,
Начал отсчет.
Старик не проснется,
Дитя крепко спит.
Покинутый сыном
Отец да простит! [152]152
Сравнительно малоизвестный, но наиболее точный и эмоционально близкий перевод А. Ливерганта.
[Закрыть]
К удивлению многих, Джон Джойс оставил старшему сыну наследство. В дублинской книге общественных записей значится запись «665 фунтов, девять шиллингов, ноль пенсов».
Глава тридцать четвертая ДОЧЬ, БЕЗУМИЕ, НАДЕЖДЫ
Вопрос, связывать детей с религией или не связывать, в тридцатых годах XX века был достаточно болезненным не в силу запрета, а как раз по причине свободы выбора. Джойс в свое время принял решение в куда более агрессивной общественной среде и нес все последствия своего поступка. Но теперь он обернулся к нему совершенно неожиданной стороной.
Умилительные радости воспитания внука Джойсу не достались – Джорджо и Хелен известили его, что собираются крестить Стивена, и Джойс решительно воспротивился. В свое время он наслушался упреков, что не дает детям религиозного воспитания. Отвечая, что в мире сотни религий и он не может лишать детей возможности выбрать свою, Джойс в общем не кривил душой. Но тут все было иначе – его собственного внука собирались повергнуть в то самое рабство, из которого он бежал. Сын и невестка не стали спорить, но с помощью Падрайка и Мэри Колум отнесли младенца в церковь, а Эжен Жола был восприемником у крестильной купели. От Джойса это скрыли. Когда Бирн был в Париже, они с Джойсом изрядно выпили, и Джойс принялся рассказывать, как родители не могли решить, крестить его внука или обрезать. Жола со смехом добавил:
– Поэтому они его крестили…
Джойс вздрогнул:
– Крестили?
Жола хватило ума, чтобы выдать свою оговорку за шутку, и Джойс узнал правду через несколько лет, но тогда ему стало не до нее – снова начались проблемы с Лючией, домашними средствами уже неодолимые. Собственно, заниматься ими следовало много раньше, но Джойсы повторили ошибку множества родителей.
Три года назад, когда Беккет стал появляться в парижской квартире Джойса и работать с ним, Лючия влюбилась в молодого красивого ирландца, в его причуды и рискованные шутки. Он не был беззаветным тружеником, как ее отец, – Пегги Гуггенхайм сравнивает его с молодым Обломовым, который не мог заставить себя встать с постели раньше полудня, вяло преодолевая ту самую ennui [154]154
Тоска (фр.).
[Закрыть], которую превосходным парижским диалектом описал на страницах «В ожидании Годо». Джойс и Беккет с удовольствием обменивались молчанием, сидя в одинаковых позах: Беккет очень скоро усвоил манеру переплетать ноги, которой так славился Джойс. Скупые реплики могли касаться чего угодно – социализма, идеализма, женщин. Джойсу нравилось общество Беккета, но оно не заменяло ему семью – пожалуй, единственных людей, которых он мог любить. Даже Салливан не попадал в их число. Привлекало Джойса мышление Беккета, та отточенная отстраненность, которой не обладал даже он сам, как и утонченность, проявлявшаяся во всем. Лючия чувствовала то же, хотя и по-своему.
Джойс говорил с ним о философах, в которых пытался разобраться; Беккету было продиктовано несколько кусков «Поминок…»; однажды в дверь постучали, Джойс ответил «Войдите», и Беккет записал это. Перечитывая запись, Джойс оставил реплику. Случай-помощник – такое забавляло. Беккета, в свою очередь, забавляла сингулярность работы. Лючия интересовала его как отражение Джойса, причудливое, болезненное, одолеваемое комплексами, которых не было у оригинала. Они бывали в ресторанах, на спектаклях, бродили по городу, когда Беккета не одолевала лень. Молодая женщина (ей было 24 года) все хуже справлялась с собой и все откровеннее давала ему понять, как она на самом деле к нему относится. Когда ее состояние достигло пика, Беккет не нашел ничего лучше, как разъяснить ей, что приходит прежде всего к ее отцу. Та же Пегги Гуггенхайм вспоминает, что он понимал, насколько жесток, но говорил, что мертв и потерял человеческие чувства – у него не получалось влюбиться в Лючию.
Она же была ранена глубоко. Как уже бывало, дочь обрушилась на мать, обвиняя ее в подстроенном разрыве, но Нора терпела всё, стараясь поддержать и отвлечь ее. Она считала, что Лючии нужен молодой муж, да и сама Лючия откровенно говорила тому же Уильяму Берду, что ее одолевает «сексуальный голод». Но он ответил ей, что она начиталась дурацких книжек, и прекратил разговор.
Супруги Леон, видевшие происходящее почти каждый день, жалели Лючию. Леон даже попытался сосватать ей свояка Алекса Понизовского, который только что порвал с любовницей, и тот даже согласился. Но после нескольких встреч Леон предупредил его, что девушка слишком хорошо воспитана для обычной интрижки. Понизовский без особого рвения согласился сделать Лючии официальное предложение и, естественно, получил согласие.
Отдыхавшим на юге Франции Джорджо и Хелен полетела телеграмма, и брат воспринял ее настолько всерьез, что вернулся.
– Что ты имел в виду, когда писал про помолвку? – спросил отца Джорджо.
– Ну если они хотят заключить помолвку… – начал Джойс.
Джорджо перебил его:
– Какая может быть в ее состоянии помолвка? – Он не понимал того, почему этого не видит отец.
На Понизовского давил Леон, который напоминал ему, что невесте надо послать цветы, позвонить по телефону… Жених уже не чаял как выбраться из неосмотрительно затеянного предприятия. Лючия настаивала, чтобы свидетелем пригласили Беккета. Она казалась спокойной и деловитой.
Через несколько дней в ресторане «Друан» должна была состояться официальная помолвка. Перед самым выходом Лючия вдруг уехала на квартиру Леонов, упала там на диван и осталась лежать – бледная, неподвижная, незрячая. Каталепсия – называют это психиатры. Она никого не слышала, даже Нору, лепетавшую о судебном иске по нарушению брачного обещания. Потом Лючия потеряла сознание.
Врачи пытались вывести ее из жестокой прострации, кололи ее всем, что было тогда в их фармакопее, и Лючия очнулась, но безумие тоже усилилось. Помолвка была забыта. Джойс пытался найти для нее отдельную квартиру и нанять опытную сиделку, потому что рядом с ней оставаться было невозможно. Единственный, кто мог общаться с ней, был отец – он воссоздал для себя картину ее прерывистого сознания, в какой-то мере знакомого ему по собственным текстам, и следовал ей. Она рвалась в Англию, но Джойс понимал, что жить там не сможет, и искал новую квартиру, потому что срок аренды этой заканчивался. Они решили свозить ее в Лондон, слабо надеясь, что это поможет, но в апреле, когда багаж на Гар-дю-Нор был уже погружен и они садились в поезд, Лючия вдруг устроила дикую истерику, визжа, что ненавидит Англию и не хочет никуда ехать, что требует немедленно отвезти ее к Леонам и уложить ее в постель, что и было сделано. Полторы недели она пролежала у них, а потом вдруг потребовала отвезти ее к Колумам, тогда жившим в Париже. Мэри только что сделали операцию, но и она героически ухаживала за Лючией целую неделю. Джойс пытался увезти ее в психиатрическую лечебницу, но она отказалась наотрез, и врача каждое утро привозили к Колумам. Мэри пришлось притвориться, что это ее врач и что у нее те же симптомы, и доктор терпеливо слушал обеих пациенток. Потом Мэри под каким-то предлогом уходила и врач работал только с Лючией, но все, что он мог, – это признать, что она в более тяжелом расстройстве, чем сознавали все окружающие. В конце мая приехал Джорджо и увез вместе с Мэри свою сестру, обманув ее относительно цели поездки. Доктор Меллар поставил грустный диагноз: «гебефренический психоз».
Название болезни не изменилось до сих пор. Форма шизофрении, наиболее характерной особенностью которой являются эмоционально окрашенные изменения. Бред и галлюцинации, которые возникают неожиданно и так же неожиданно прекращаются. Настроение изменчивое и неадекватное, сопровождаемое ужимками, величественными позами, гримасами, ипохондрическими жалобами и однообразными фразами. Мышление дезорганизовано, человек стремится к одиночеству. Эта форма шизофрении обычно начинается в возрасте от 15 до 25 лет и не излечивается. Лючия пройдет весь тогдашний ад психиатрического лечения – смирительные рубашки, холодные ванны, морфий, электрошок, – а после 1940-х уже появятся благодетельные аминазин и галоперидол, которые и будут ее уделом до самой смерти.
Джойс позже сказал горькую фразу: «Та искра дарования, которая, возможно, у меня есть, перешла к Лючии, но в ее мозгу устроила пожар». Высочайшая степень способности к абстрагированию, с которой справлялся его мощный интеллект, сорвала дочери обыденное мышление. Не случайно Беккет изучал Джойса по Лючии: он отождествлял себя с ней и почти никогда – с сыном. Пошли консультации с медиками, клиники, уколы, попытки операций, и отныне это будет содержанием большей части отведенного ему срока.
Джойс все глубже увязал и в сложностях с мисс Уивер и Сильвией Бич. Его и ее поверенные снова напомнили ему, что он тратит свой капитал и не старается жить на доход. Джойс раздраженно перечислил свои незапланированные расходы и добавил, что она отравляет ему пятидесятилетие. Мисс Уивер приехала в Париж, чтобы успокоить его, но Джойс при встрече молчал. С Сильвией отношения портились давно, и попытки обеих сторон вернуться к прежней дружбе не удавались. В эту ситуацию была замешана и Адриенн Монье. Не так уже редко она публично высказывалась о прославленном бессребреничестве Джойса и его безразличии к славе; но в этот раз она написала ему письмо. Ее и Сильвию обязали продавать малый тираж «Хода работы», от них без конца требовали роялти с продажи «Улисса», но они не могли сделать больше, чем уже делали. Джойсу предлагалось понять, насколько их жизнь сложнее, чем его. А в конце следовали уверения в совершеннейшем к нему почтении.
Джойсу было не привыкать сносить такие удары. Он вежливо поблагодарил мадемуазель Монье, хотя и заметил, что причины для благодарности несколько иные, чем те, что сформулированы в письме. Он понимает, что мисс Бич расстроена – экономическая депрессия уменьшила продажи, ухудшилось ее здоровье, не говоря о других неприятностях. С юмором он припомнил, как она случайно смахнула пачку вырезок с рецензиями на его книги и решила, что он будет на коленях собирать их, а он, конечно, гордо ими пренебрег… Трудно представить, что можно сделать для мисс Бич сейчас, когда «Улисс» вот-вот будет издан в Англии и США; она почти распродала одиннадцатую допечатку, а двенадцатая теперь вряд ли понадобится. Пусть даже она получила с согласия Джойса права на издание во всем мире, но стоило ли требовать такую большую выплату с «Рэндом хауз»? Сильвия неохотно отозвала свои претензии, главным образом после того, как Джойс пообещал ей свою рукопись и подтвердил, что она имеет право требовать свои роялти с любого европейского издателя.
Тем временем на «Улисса» обратил внимание кинематограф. Запрос на право экранизации прислали «Уорнер бразерс», но Джойс поначалу отказал им, однако не стал возражать, чтобы Леон проработал ситуацию. Состоялась и знаменитая встреча с Сергеем Эйзенштейном, который давно следил за Джойсом. В 1927 году он читал Джойса по единственному московскому экземпляру «Улисса», а через год Айви Лоу, жена зам-наркома иностранных дел М. М. Литвинова, привезла Сергею Михайловичу из Женевы собственную книгу. В письме французскому писателю и кинокритику Леону Муссинаку от 22 ноября 1928 года он пишет: «Очень жаль, что из-за его глаз я никогда не смогу показать свои фильмы этому замечательному человеку. Мой интерес к нему и его „Улиссу“ совсем не платонический – то, что Джойс делает в литературе, очень близко тому, что мы делаем, вернее, собираемся делать в новой кинематографии!» Он просил Муссинака подписаться на «транзишн» и пересылать ему номера с «Ходом работы». Он раздобыл и читал книги Гормана и Гилберта. Он включал Джойса во все свои размышления о современном кино. В Америке, работая над экранизацией «Американской трагедии», Эйзенштейн вгрызался «в сладкие плоды познания и тонкой отравы „Улисса“ Джойса и комментариев к нему Стюарта Гилберта». Он набрасывал сценарии по нескольким произведениям Джойса и очень серьезно думал о киноверсии «Улисса».
Джойс принял Эйзенштейна в комнате с завешенными окнами, где они стояли и беседовали об «Улиссе». Остальная часть квартиры и прихожая были ярко освещены, однако, вспоминает Эйзенштейн, «этот высокий и слегка сутулый человек почти без фаса – настолько резко отчетлив его профиль красноватой кожи и огненных с густой проседью волос – почему-то странно размахивает руками и шарит по воздуху… И только сейчас я соображаю, до какой степени слабо зрение в отношении окружающего мира этого почти слепого человека, чья внешняя слепота, вероятно, обусловила ту особенную пронзительность внутреннего видения, с которой описана внутренняя жизнь в „Улиссе“… удивительным методом внутренней речи».
Впоследствии Эйзенштейн подведет итог этой встречи знаменитой фразой – «Великий человек! Он по-настоящему делает то, что все мы только хотели бы сделать, потому что вы это чувствуете, а он знает». Через два года Сергей Михайлович прочтет в Государственном институте кинематографии большую лекцию о Джойсе.
Стюарт Гилберт набрасывал сценарии по «Улиссу» и «Анне Ливии Плюрабель», против чего Джойс тоже не возражал, но при его жизни у кино не оказалось шансов стать вровень с литературой. «Улисса» экранизирует Джозеф Стрик лишь в 1967 году, а следующая версия, «Блум» Шона Уолша, выйдет в 2003-м и особого фурора не произведет. Лучше всех, пожалуй, будут «Мертвые» Джона Хастона, которые тоже выйдут только в 1987-м.
Переводы его книг на иностранные языки очень импонировали Джойсу, но и тут случались огорчения. Японцы в феврале 1932-го выпустили пиратскую версию «Улисса», и безотказному Леону пришлось писать британскому консулу в Токио, где адвокаты выяснили, что европейские права действуют на территории Японии всего десять лет. Джойсу посулили какую-то скромную сумму, и он негодующе отказался от нее.
Одновременно приходилось заниматься делами Лючии. Джойса приводила в ужас даже не ее болезнь, а то, как она повторяет начало его судьбы, – стойкую неприязнь к матери и непрестанную тягу к отцу… Подошло время ехать в Цюрих к Фогту, показывать ему правый глаз с растущей катарактой. Жола были неподалеку, в Фельдкирхе, и Джойс решил взять с собой Лючию. Мария Жола согласилась приглядеть за ней, а одну из сестер клиники наняли для более квалифицированного ухода. Леон пытался убедить его показать Лючию серьезному врачу, но Джойс и слушать не хотел.
Перед отъездом Уильям Берд взял их на автопрогулку по Булонскому лесу. Джойс поразительно хорошо ориентировался там и показывал дорогу, в итоге приведшую их к ресторану; Нора тут же запротестовала, но Джойс пообещал, что ограничится одной бутылкой шампанского. Нора не соглашалась, но после шампанского в ход пошел железный аргумент – Джойс попросил Берда проводить его до мужского туалета, потому что не видит ступенек. Как только Нора потеряла их из виду, Джойс живо остановил Берда и сказал:
– Берд, я могу больше никогда вас не увидеть. Не окажете ли мне услугу?
– Любую, – ответил Берд, – но мы встретимся с вами еще много раз…
– Встретимся, разумеется. Но завтра я еду в Цюрих на новую операцию и чувствую, что в этот раз могу вернуться слепым. Поэтому я сказал, что могу никогда вас не увидеть.
Тронутый Берд попытался утешить его:
– Джеймс, я всегда сделаю для вас все, что могу…
Джойс нащупал его локоть и радостно сказал:
– Тогда пошли закажем вторую.
Разъяренная Нора, увидев шампанское, потребовала такси, но Берд проводил ее до машины и пообещал, что доставит ее мужа домой не позже чем через полчаса. Он сдержал слово – правда, спустя три часа.
Полулегально забрав Лючию с медсестрой из клиники, Джойс увез их в Фельдкирх, оставил у Жола и убедил дочь продолжать работу над буквицами, а сам уехал с Норой в Цюрих.
Фогт встретил его неласково: Джойс не показывался два года подряд, вместо договоренных частых консультаций, и оправдания, что на него сваливалась неприятность за неприятностью, не сняли главной проблемы: состояние правого глаза ухудшилось до почти неминуемой слепоты. Можно было попробовать сделать сразу две операции, но и тут уверенность в улучшении была небольшой, однако уже можно было прооперировать и левый глаз. Джойсу было твердо сказано, что состояние его нервов отражается на зрении; но какой мог быть покой для отца сходящей с ума дочери? Джойс написал докторам Харманну и Коллисону в Париж, и они категорически не согласились, что левый глаз следует оперировать сейчас. Даже Лючия написала ему об этом.
Джойс злился – ему достался «лучший в мире офтальмолог, живущий в худшем климате мира». Жола осторожно намекали, что Лючия очень плоха, но это его не убеждало, хотя и тревожили ее совершенно бессвязные речи. Она требовала разрешить ей приехать в Цюрих, и родители, опасаясь, что Жола станут свидетелями сцены вроде той, что сорвала отъезд в Лондон, сняли номер в отеле и пробыли с ней в Фельдкирхе с августа по сентябрь. Поначалу Лючия была спокойна, терпеливо работала над шрифтами, а Джойс писал Леону и Пинкеру, что делает книгу детских стихов по алфавиту. Им надлежало подготовить ее продажу. Алфавит был сделан до буквы «О». Кое-что удалось использовать в факсимильном издании «Яблок по пенни», выпущенном в октябре 1932 года. Несмотря ни на что, Джойс дописал несколько кусков для начала второй части «Поминок…», а в самом начале сентября вернулся в Цюрих, к Фогту, готовый лечь на стол; пресса уже обсуждала возможную трагедию, но Фогт после осмотра и оценки состояния глаза отложил операцию. Разрез пришлось бы делать сквозь хрусталик, а это почти наверняка грозило травматическим иритом, способным поразить второй глаз; он был сейчас получше, но перенес много операций и мог просто отказать. Спустя год-другой глаз восстановится и даст шанс. Джойсу поменяли его чудовищно сложные очки, и Фогт сердито посоветовал ему приезжать каждые три месяца для осмотра.