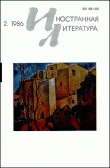Текст книги "Джойс"
Автор книги: Алан Кубатиев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 41 страниц)
Но Эйлин было необходимо возвращаться в Брэй, и это известие опять растревожило Лючию. Эйлин она проводила, но за этим последовали дикие выходки, которые даже мужественную мисс Уивер откровенно испугали. Однажды Лючия исчезла на целую ночь. Затем она опять решила прооперировать свой подбородок и потребовала консультаций с врачами. Эйлин поспешила вернуться, но это ничего не дало: племянница становилась все неуправляемее. Однажды она выбежала на улицу неодетая (стоял февраль), заявив, что едет в Виндзор, и запрыгнула в автобус. Эйлин успела вскарабкаться следом и уже из отеля в Виндзоре позвонила мисс Уивер, попросив привезти одежду. Тем временем Лючия протелеграфировала мисс Уивер, что возвращается в Лондон, однако вернулась в отель. Когда Эйлин пришла к ней, в номере ее снова не оказалось. Джойс отнесся к этим происшествиям крайне спокойно, сказав, что это пустяки по сравнению с тем, что Норе пришлось вытерпеть за последние три-четыре года. Эйлин уехала в Брэй и забрала Лючию с собой. Трудно представить, чем после этого мисс Уивер могла успокоить Джойса – ей куда больше было жаль Эйлин, но Джойс втянул ее-в обсуждение Лючии и все время настаивал на том, что она в здравом уме. Его жестоко раздражало, что дочь упоминают рядом с Эйлин, которую он считал «воспитанной как рабыня», и уж если упоминать ее рядом с кем-то, то лишь с ним, потому что он «тоже безумен». А дочь «очень часто ведет себя как идиотка, но разум ее так же ясен и беспощаден, как молния».
Даже неглупого и опытного Поля Леона, офицера Первой мировой войны, он сумел убедить в том, что Лючия сохраняет все качества здорового человека, в том числе юмор и наблюдательность, и нуждается в оценке с помощью другой логики, чем обыденная, нужно просто больше терпения и сострадания. Леон даже убеждал мисс Уивер, что Джойс скрывает ото всех постоянное напряжение и тревогу. Летом Филипп Супо был в Штатах и сообщил Джорджо с Хелен, что у Джойса очень плохо с желудком, настолько, что он потерял интерес ко всему – его состояние беспокоит всех. Если сын с невесткой не приедут, Джойс может серьезно заболеть. Поначалу они не слишком поверили в это, но пришли независимо друг от друга несколько других писем о том же. Сам Джойс весной 1934 года писал мисс Уивер: «Возможно, выживу я, возможно, это дикое безумие, что я сейчас пишу, возможно, все это очень смешно. Уверен я лишь в одном. Je suis bien triste» [156]156
Я очень печален (фр.).
[Закрыть]. В другом письме: «Чувствую себя, как зверь, получивший в череп четыре сокрушительных удара дубиной. Но в письмах сыну и невестке сохраняю тон почти веселой безответственности». Отсутствие Лючии было тяжелым испытанием: при всех сложностях ее со стояния она была дополнительным основанием жестче контролировать ее и себя:
«Бывают минуты и даже часы, когда в моем сердце нет ничего, кроме ярости и отчаяния, ярости и отчаяния слепца. Со всех сторон я слышу, что я оказывал и оказываю на моих детей дурное влияние. Зачем мне просить их вернуться? Париж – спесивая развалина, похожая на меня, или, если угодно, разлагающийся кутила. Стоит мне включить радио, и я слышу, как британский политик мямлит чушь, а его немецкий кузен орет и вопит, как безумный. Возможно, Ирландия и США – безопасные места. А возможно, газ пустят именно там. Что ж, пусть так. Девиз под моим гербом – „Mors aut honorabilis vita“ [157]157
Смерть или достойная жизнь (лат.).
[Закрыть]».
С каждым днем его ярость и отчаяние становились все очевиднее.
– Говорят о моем влиянии на дочь, – слышала от него Мария Жола. – Но почему не говорят о ее влиянии на меня?..
Но что-то все же продолжало удерживать его в мире. Когда воры забрались в домик Эйлин и не нашли ничего достойного кражи, он написал ей, спрашивая: что может вор надеяться отыскать в доме любого из Джойсов? Он писал веселые письма дочери, рассказывая, что воры ожидали сокровищ, произведений искусства, сундуков золотых монет и драгоценностей, которые наверняка имелись в таком домишке. «Нет, видно, не перевелись еще идеалисты…» Лючия ладила со своими сестрами, Норой и Боженой, и им пока удавалось оберегать ее от серьезных травм. Однажды она едва не отравилась аспирином, в другой раз устроила костер из торфа прямо на полу. Избегая говорить об этом с тетей, Лючия писала ему, прося денег, устраивала истерики, обвиняя в нечуткости, и жаловалась на дурное обращение. Джойс попросил нескольких своих дублинских друзей, включая Майкла Хили, проверить, что происходит на самом деле. Ответы были тревожные: Лючия опять решила уехать – из Брэя в Голуэй к Кэтлин Барнакл; в Дублине на почте она случайно повстречала ее. Кэтлин обрадовалась Лючии, но ей самой надо было в клинику, ложиться на операцию. Потом Лючия снова сбежала, и дряхлый больной Майкл Хили, которому оставалось жить всего несколько месяцев, гонялся за ней по дублинским пригородам, пока ее сострадательно не задержала полиция. Тети Ева и Флоранс отправились выручать ее и были потрясены ее запущенным видом – грязная, одичалая, голодная, не понимающая, где находится. Но она сама попросила отвезти ее в приют, и Керран по просьбе Джойса помог. А в июле ее поместили под надзор в Фингласе.
Джойсу ее неприятности принесли новые недуги: он почти не спал, а когда засыпал, его мучили кошмары; он тонул и выпрыгивал из воды, как рыба, а днем его мучили слуховые галлюцинации, но врачи считали, что это просто расходившиеся нервы. Работать он теперь не мог; упросил Марию Жола съездить в Ирландию и узнать правду – что происходит с Лючией.
Она поехала и убедилась, что девушка в гибельном состоянии. Керран с женой помогли Марии увезти ее в Лондон, где мисс Уивер снова пришла на помощь. Лондонский хирург Уолтер Макдональд практиковал курс лечения, облегчавший состояние некоторых психически больных. Джойс, по-прежнему считавший, что у недуга Лючии происхождение органическое, уцепился за эту идею. Но после курса инъекций ей и в самом деле стало легче, и по совету врача мисс Уивер сняла для нее коттедж в Кингсвуде, 24 мили от Лондона, и увезла туда Лючию с опытной медсестрой. Там ее, продержали до середины декабря, пока ее вымотанные родители приходили в себя в Фонтенбло под присмотром Герберта Гормана и его новой жены Клэр. В сентябре они уехали в Париж, куда все-таки возвращались Джорджо и Хелен.
Теперь мисс Уивер снова посылала Джойсу отчеты о состоянии Лючии. Она приходила в себя и даже начала писать ему, а он тут же предложил ей купить себе новую шубу: два чемодана с ее вещами пропали. Но желания Лючии менялись ежеминутно. Прежним оставалось одно – Джойс не выносил предположений, что она неизлечима. Только Джорджо мог говорить такое, не задевая его. Остальным, даже друзьям, это не позволялось.
Через месяц он опять попросил Марию Жола съездить и посмотреть. Многострадальную мисс Уивер он подозревал в том, что она смягчает факты, чтобы не волновать его. На самом деле она и медсестра изо всех сил старались избежать новых приступов и не отходили от Лючии, но деревенский воздух не помог. Со второго курса лечения она рвалась домой, и доктор Макдональд запросил разрешения родителей оставить ее, потому что она психически больна. Это было ошибкой. Джойс ответил, что не позволит распоряжаться своей дочерью какому-то англичанину, даже если он шотландец. Марии Жола опять пришлось ехать в Англию и забрать Лючию в Париж. Она собиралась оставить ее у себя в своем большом доме в Нейи, но уже в дороге поняла, что никакого улучшения на самом деле не было. В марте 1935 года, через три недели после возвращения, Лючию увезли из дома в смирительной рубашке. Врачи в клинике Ле Везине пришли к заключению, что она опасна и нуждается в специальном надзоре. Все, что смог Джойс, это поместить ее в заведение покомфортабельнее: с апреля ее содержали в приюте для душевнобольных в Иври. Поначалу тамошний главный врач, доктор Ашиль Дельма, решил, что у нее циклотимия, хроническое расстройство настроения, но личность не разрушена и ее можно лечить. Джойс приезжал к ней, писал ей, настойчиво твердил, что придет день, когда она выздоровеет.
Она не выздоровела больше никогда. А он так и не перешел ту самую границу.
Глава тридцать пятая МЭТР, МАЭСТРО, МАСТЕР
На лечение и капризы Лючии ее отец тратил три четверти своего дохода, и этого положения не изменили даже крупные выплаты за американское издание «Улисса». Расходы росли, а за последние два года особенно резко; он продал б о льшую часть своих акций, не считаясь с низкими ценами. «Когда они кончатся, – говорил он Леону, – я снова буду давать уроки». Мучимый тревогой за Лючию, он изменил своим обещаниям и напивался так, что Нора в бешенстве угрожала уйти от него и даже несколько раз переезжала в отель, хотя и ненадолго. На следующий день делегация добрых друзей приезжала с букетом роз умолять ее вернуться. В конце концов она уступала, несколько дней Джойс пил умеренно, потом опять срывался. Одному он все же не изменял: ночные загулы сменялись лихорадочной дневной работой над рукописью. Жуткий почерк, гигантские буквы на огромных листах, лупы и очки.
Джорджо перенапряг связки на американских концертах, требовалась операция, Хелен тоже болела. Джойс то страдал вместе с домашними, как Блум, то вдруг полностью отстранялся от всего, как Стивен Дедалус, и на изумление окружающим был легок и весел; чаще всего это требовалось для той части «Поминок…», над которой он в данное время работал.
Лючии в Иври не становилось лучше. Джойс решил издать ее рисунки к Чосеровой азбуке в подарок ко дню рождения, 26 июня. Одно из самых приличных его писем этой поры – красноречивое описание этого проекта, сочетающееся с горестными описаниями положения Лючии. Под конец он опять срывается: «Мне представляется, что будь вы там, где сейчас она, и чувствуй вы то, что должна она, возможно, вы ощущали бы надежду, если бы понимали, что не заброшены и не забыты». Гарриет немедленно предложила долю в расходах на издание, но Джойс набросал список предполагаемых подписчиков и дал понять, что те, кто не подпишутся, перестанут считаться его друзьями. Выпавшие были. С ними Джойс порвал отношения.
Книгу издали в июле 1936 года; больше ничего Джойс сделать не мог. Боясь, что Лючия может отреагировать истерикой, если ее не возьмут, они с Норой тайком уехали в Данию. Ему давно хотелось увидеть и ощутить Скандинавию – отчасти из-за всегдашней любви к Ибсену, отчасти потому, что он придумал Ирвикеру скандинавское родство и нужны были детали. Кроме того, шведы уже начали переводить его книги, поэтому он хотел переговорить и с датчанами, заинтересовавшимися «Улиссом». Через Льеж и Гамбург они отправились в Копенгаген. Там, тихо и незаметно поселившись в отеле «Турист», Джойс принялся изучать датский. Инкогнито сохранить, разумеется, удавалось недолго, и когда он заказал в книжном магазине доставку нескольких книг, владелец тут же узнал его и радостно известил, что «Улисс» отлично продается. Джойс не успел обрадоваться, как ему с тем же восторгом сообщили, что «Любовник леди Чаттерлей» продается еще лучше.
Книготорговец познакомил его с Томом Кристенсеном, датским писателем, рецензировавшим в 1931 году «Улисса», и Джойс поразил Тома своим беглым датским – правда, с триестинской интонацией. Разговор, естественно, перешел на роман, и Джойс спросил, не хочет ли Том перевести книгу. Тот жизнерадостно ответил:
– Конечно! Дайте мне десять лет!
Переводчицей должна была стать госпожа Кастор-Хансен, и Джойс немедленно потребовал ее телефон, а когда их соединили, отчеканил:
– Я Джеймс Джойс. Я понял так, что вы будете переводить «Улисса», и прибыл из Парижа сказать вам, чтобы вы не меняли ни единого слова.
Госпоже Кастор-Хансен и не пришлось этого делать; она не смогла заняться «Улиссом», и отличный перевод полковника Могенса Бойзена был издан уже после смерти Джойса.
Одновременно с каникулами ему пришлось вычитывать гранки английского издания, запланированного Джоном Лэйном на 3 октября 1936 года. Все трудности меркли перед фактом, что он все-таки победил, пусть на это ушло двадцать лет и неизмеримое количество сил и здоровья. Кристенсен приводит реплику Джойса: «Война между мной и Англией окончена; я победил». Но его самые желчные замечания касались того, как это воспримут ирландцы. Карл Фрис-Меллер, поэт, критик и переводчик Элиота, пересказал Джойсу слова Йетса после присуждения ему Нобелевской премии в 1923 году: «Разве не примечательно, что Джойс, не бывавший в Дублине с ранней молодости, пишет лишь о Дублине?» Джойс, выслушавший его, ответил: «Я никогда не вернусь в Дублин».
Кристенсен очень развеселил его, когда рассказывал, как читал «Улисса» в Риге, куда бежал от несчастной любви. «Надо быть изгнанником, чтобы меня понять, – подтвердил Джойс, – Стюарт Гилберт торчал в Бирме, читая мой роман». На многочисленные вопросы о символике «Улисса» Джойс отвечал уклончиво: «Может быть» – или вообще отмалчивался. Ему явно не хотелось ничего объяснять. Даже на вопрос о «Новой науке» Вико он ответил, что не верит ни в какую науку, но его воображение начинает работать при чтении Вико, чего не дают тексты Фрейда или Юнга… Точно так же он уклонялся от разъяснений пун в «Ходе работы», хотя весело обсуждал рассказ о портном и норвежском капитане. Взамен он попросил прислать ему книги Кристенсена и Фрис-Меллера и прочитал их с немалым интересом, особенно роман Кристенсена, во многом повторявший «Портрет…».
Джойса много интервьюировали, и при всей своей нелюбви к журналистам он говорил с ними. Одно из интервью оказалось намного более подробным и длинным – Оле Виндинг сумел пробить его броню, – но вышло только после кончины Джойса. Журналист был поражен очень хорошим датским языком писателя, и Джойс серьезно ответил, что после захвата викингами Дублина в нем наверняка течет немного датской крови… Он читал Гуннара Хейберга так же внимательно, как Ибсена, а на неизбежный вопрос об Ибсене сказал, что ставит его выше очень многих, что он мастерски выстраивал сюжеты и не воспользовался ни единым лишним словом. Ибсен на «голову с плечами» выше Шекспира в том, как строится драма. Ему никто не ровня. Он обновляется в каждом поколении и будет обновляться. Каждое время будет открывать в его проблемах свои.
Возникло подобие дружбы. Оле Виндинг возил их с Норой по Копенгагену и, разумеется, в Эльсинор. Закапал дождь, и Джойс упрекнул Нору, что она не взяла зонт, а жена ответила ему точной цитатой из нечитаного романа мужа: «Ненавижу зонтики». Виндинг шутки ради согласился, что зонтики комичны, а Джойс, вдруг развеселившись, заявил, что зонтики королевски величавы (Ирвикер, кстати, всюду носит зонтик) и что его друг, молодой член королевской семьи Камбоджи, который живет в Париже, говорил о своем отце, которому в силу высокого ранга положено семь зонтиков, один над другим, а ему пока только шесть. Зонтик – это высокое отличие.
Литература тоже было затронута. На вопрос о Габриеле Д’Аннунцио Джойс коротко ответил: «Когда-то он был великолепным поэтом». Естественным образом прозвучал вопрос: «Вам нравится Италия при Муссолини?» Джойс пожал плечами: «Конечно. Сейчас – как и всегда. Италия есть Италия. Не любить ее из-за Муссолини было бы так же нелепо, как ненавидеть Англию из-за Генриха Восьмого».
Про входившего в моду Хемингуэя Джойс сказал: «Мы были знакомы еще до того, как он уехал в Африку. Он пообещал нам живого льва. К счастью, не привез. Но вот книгу, которую он написал, нам бы хотелось. Хемингуэй – хороший писатель. Он пишет, как живет. Он нам нравится. Он здоровый, крепкий крестьянин, сильный, как буйвол. Спортсмен. Готов сам жить той жизнью, которую описывает. Он бы никогда не написал этого, если бы его тело ему не позволило. Но здоровяки такого типа обычно по-настоящему скромны; за оболочкой Хемингуэя прячется больше, чем знают остальные».
«Тайм» в 1954 году опубликует интервью с Хемингуэем, где он расскажет:
«В одном из тех случайных разговоров, которые ведутся за выпивкой, Джойс сказал мне, что опасается, что его проза слишком городская и что ему, наверное, следует поездить и увидеть мир. Он боялся некоторых вещей, молний и прочего, но был замечательным мужчиной. Его тяготило многое – жена, работа, зрение. Жена как раз была с нами и сказала, да, твоя проза слишком городская, Джиму не помешало бы поохотиться на львов. Мы пошли выпить, и Джойс ввязался в драку. Он не мог даже разглядеть того парня, и потому кричал: „Задай ему, Хемингуэй! Врежь ему!“».
Следующим, разумеется, был Юджин О’Нил, о котором Джойс не захотел говорить; сказал только, что его драматургия совершенно ирландская. С куда большей охотой он высказывался об Андре Жиде: ему очень нравились «Пасторальная симфония» и «Подземелья Ватикана», которые он считал восхитительными. Но он рассказывал, что Жид – коммунист и что некоторое время назад молодой человек по имени Арман Птижан, шестнадцатилетний, как Рембо, взялся писать большое исследование по «Ходу работы» и закончил его задолго до того, как был завершен исследуемый текст!.. Сейчас ему двадцать. За время изучения предмета Птижан якобы стал преданным поклонником Джойса и спросил у Жида, что будет с Джойсом, когда во Франции победит коммунизм. Жид якобы поразмышлял некоторое время, а затем ответил: «Мы разрешим ему остаться».
«Ход работы» Виндинг читал, хотя и не целиком. Джойс говорил не столько о книге, сколько о том, что ему стоило и значило написать ее. С 1922 года, когда он стал с ней жить, никакой нормальной жизни больше не было. Она требовала чудовищного расхода энергии: «Моя книга была для меня большей реальностью, чем сама реальность. Все вливалось в нее. Все, что было вне ее, было неодолимой трудностью: даже утреннее бритье, к примеру. Любые нападки на книгу, любые попытки защитить ее были ничем по сравнению с тем, что давала работа над ней. Между персонажами двух книг никакой связи нет. В „Ходе работы“ отсутствуют характеры. Это же как сон. Стиль тоже иной, он нереалистичен. Здесь мир сна. Если запомнился герой, это чаще всего старик или андрогин. Однако и его связь с реальностью очень слаба». Виндингу он сказал (это было в начале сентября 1936-го), что написать осталось совсем немного. Три четверти книги уже готовы, теперь работа пойдет быстрее.
В Копенгагене Джойсу нравилось – ритуал развода караула, неспешные прохожие, нарядные почтальоны. Дворцы впечатляли его меньше, чем крестьянские фермы, чистые, основательные, с сытым и ухоженным скотом. «Коппелия» Делиба в Королевском театре показалась ему лучшим спектаклем, который они с Норой видели. Джойс решил на следующую весну переселиться в Копенгаген и пожить там, а может, и остаться.
Но в Цюрих приехал Станислаус, по непонятной причине высланный фашистами из Италии, и Джойсу пришлось из Парижа сразу ехать туда; у брата не было ни денег, ни работы, он пытался найти ее в Швейцарии, и Джеймс попросил о помощи швейцарских друзей. Нашлось прилично оплачиваемое место школьного учителя, но очень высоко в горах, в Цугерберге, крошечном унылом городишке. Станислаус решил рискнуть и вернуться в Триест. Никаких разговоров о политике Джойс не потерпел: стиль его прозы не захотел обсуждать Станислаус. Но расстались они дружески. Риск оправдался. После многих проволочек Джойсу-младшему вернули должность в университете, где он и проработал до самого начала войны.
Светская жизнь Джойса в Париже сильно съежилась; он почти не виделся даже с Сильвией Бич. Магазин его больше не привлекал, пусть там и бывали люди, которым он был интересен, однако они были для него всё безразличнее. Сражаясь за Салливана, Джойс встречался и завязывал отношения со многими людьми, но к 1936 году их почти не осталось. Да и Салливан перестал восхищать его, как прежде, – голос его становился все зауряднее, терял свой божественный звон. Общение практически ограничивалось людьми, которых Джойс знал еще с 1920-х годов, а то и раньше. Но среди них оставались Поль Леон и его жена Люси Понизовская. Официально он не был никем, отказывался получать жалованье за огромную работу, но случалось, писал не только под диктовку, но и ответы за Джойса. Джойс благосклонно принимал его шутливую преданность. Когда у Леона случился тяжелый приступ астмы, он прислал ему корзину фруктов с запиской: «Надеюсь, фрукты приемлемы для вашей инвалидности. Дж. Дж.». Экземпляр «Поминок по Финнегану» был надписан так:
«Тому самому евразийскому рыцарю, Полю Леону, с тысячью и одной благодарностью от того самого многострадального писателя Джеймса Джойса.
Париж, 4 мая 1939 года».
Горману он продиктовал уже всерьез: «За последний десяток лет, в болезни или здравии, ночью или днем он (Поль Леон. – А. К.) был абсолютно бескорыстным и преданным другом, и то, что я сделал, я никогда бы не смог сделать без его помощи».
Круг друзей Джойса в основном исчерпывался Гилбертами, Жола, Беккетом; время от времени туда попадали Рене Байи и его жена-ирландка, Филипп Супо, Нино Франк и, разумеется, Салливан. Почти все они прошли через испытания – Джойсу приходилось помогать все время. Супо вспоминал, что гостю обязательно задавался вежливый вопрос, какой дорогой тот будет возвращаться; при любом маршруте визитеру находилось попутное поручение – купить книгу, позвонить, вычитать гранки, уточнить цитату, что-нибудь найти. Нора говорила, что, если бы сам Господь сошел с небес, и ему Джойс нашел бы поручение. Но и он был внимателен ко всем. Знал и помнил все дни рождения и годовщины, хотя смертельно обижался, когда не поздравляли его – упрекал даже Лючию. Заболевших он регулярно обзванивал, подробно справляясь об их самочувствии. Детям он дарил игрушки, а смерть третьего ребенка Жола была для него тяжелым личным потрясением.
Джойс почти не выходил из дому один: в театр и рестораны его чаще всего водили Супо и Гилберты. Театр для него теперь означал несложные комедии в «Пале-Рояль»; он с удовольствием хохотал, сидя в первом ряду, откуда мог что-то видеть. Беккету он пересказывал эпизод, где человек в ресторане пробует суп, а официант подает реплику: «Похоже на дождь», на что следует ответ: «И вкус такой же…» Нино Франк водил его в кино или в оперетту, где он слушал музыку дублинской юности. Его забавляли шансонетки Мориса Шевалье, особенно тексты с игрой слов и жеманными намеками. Все это изумляло друзей, особенно помнивших его с юности. Он словно бы уходил все дальше от себя прежнего или куда-то, куда им не было доступа. Когда фрау Гьедон познакомила его с Ле Корбюзье, восхищавшимся «Улиссом», они проговорили почти час о попугаях Джойса, а потом архитектор сказал, что Джойс чудесен: «Я словно разговаривал с птицей».
Нино Франк одно время бывал с Джойсом больше, чем остальные, – Джойс предложил ему перевести «Анну Ливию Плюрабель» на итальянский. Основание было сформулировано крайне интересно: «Следует сделать это, пока жив хоть один человек, понимающий, что я пишу, – это я сам. Однако я не гарантирую, что через два-три года я все еще буду в состоянии это делать». Очевидно, имелось в виду понимание. Франк пытался доказывать, что итальянский язык не подходит для пун, что невозможно перевести эту главу на итальянский, но не преуспел; дважды в неделю они сидели над текстом, и Джойс работал над звучностью, ритмом, словесной игрой, а Франк пытался отстаивать смысл, которым Джойс нередко пренебрегал. Франк напомнил ему о сонете Петрарки, где перечисляются итальянские реки, и Джойс немедленно принялся строить текст вокруг него, хотя и с другими названиями. Итальянскому он почему-то благоволил; английский ритм уступал место итальянскому.
Появился еще один переводчик, Жорж Пелорсен, которого Жан Пулен попросил перевести для журнала «Мезюр» сборник «Яблоки по пенни». Джойс даже подружился с ним, но неумолимо требовал искать точнейшую эквиритмию при переводе. На все возражения Пелорсена Джойс отвечал печальными вздохами. Несколько раз Джойс вытягивал Пелорсена на прогулки с непредсказуемыми результатами: однажды потащил его в Нотр-Дам слушать проповедь. Священника звали отец Пинар; также называлось дешевое красное вино, и Джойса это страшно забавляло. Он тут же сочинил на арго сочный лимерик, затем гимн дешевому красному на старофранцузском и принялся громко его распевать. Визит в собор окончился почему-то за полночь в бистро.
Особые отношения связывали Джойса с Беккетом, несмотря на тягостную память о его роли в жизни Лючии. Хотя на присланную ему рукопись «Мэрфи» Джойс отозвался ехидным лимериком, но впоследствии поразил автора, цитируя по памяти большой кусок, почти целый эпизод. Беккет, правда, ответил ему таким же ехидным акростихом. Текст его балансирует между пародией и любовью, по-джойсовски перемешивая несколько языков и игру слов. Большинство биографов трудолюбиво переводят и пересказывают его на современном английском, но Беккет главным образом любовно-иронически обыгрывает там девиз Стивена Дедалуса «Молчание, изгнание, мастерство».
Они на диво мало говорили о литературе – Джойс со все большим отвращением относился к таким беседам. Немногим, что он еще отстаивал и о чем спорил, были «Поминки по Финнегану». Одной посетительнице, которую он почему-то принял, Джойс даже прочел отрывок из книги, на что она с удивлением сказала: «Но это же не литература!» «Это была литература», – ответил Джойс, имея в виду то, что она слушала его чтение. Он много раз повторял, что его слово вернулось к музыке и именно так его следует воспринимать. «Одному Богу известно, что означает моя проза. Но она приятна уху». Другой английский гость сказал, что его текст – смесь музыки и прозы. На что Джойс строго ответил: «Это чистая музыка».
Тогда же прозвучал знаменитый вопрос: «Почему вы написали книгу таким образом?»
Не менее знаменитый ответ последовал мгновенно:
«Чтобы следующие триста лет критикам было чем заняться».
Максу Истмену Джойс говорил: «Я требую от своего читателя посвятить моим текстам всю свою жизнь». В шутку и всерьез он ищет идеального читателя «Поминок…» среди «страдающих идеальной бессонницей».
С первых написанных им строк Джойсу приходится воевать за свое видение мира, свой способ отражения, за темы и сюжеты. Все добивались простоты – Джойс отстаивает сложность. Все воспевают уникальность – Джойс ищет и находит все, что говорит о вечном круговороте лиц и положений. Нераздельность формы и содержания с ритмом и звуком, то, что выстраивает зрелую поэзию Элиота в замечательное творческое явление, Джойс отыскал и воссоздал в прозе намного раньше. Та деформация языка, которую предпринял он, описывая ночное бытие личности, мир сна и все его преображения, служила идее Джойса об истории, отбрасывающей тень, где события оборачиваются своими же комичными отражениями. Бороться приходилось и за нее. Книга подходила к концу, и это помогало Джойсу выстоять: бросать работу было нельзя.
Но фигурой мирового масштаба он все равно оставался. В 1938 году, пусть ненадолго, в его жизни появилась немецкая политэмигрантка Гизела Фройнд, социолог, искусствовед и фотограф, ученица Адорно, Мангейма и Норберта Элиаса. При Гитлере ей пришлось вместе с семьей эмигрировать во Францию из-за еврейского происхождения и социалистических симпатий. Там она занималась историей искусства, снимала и писала, ее фото проиллюстрировали ее же очерки о Северной Англии и потомках знатных английских родов. Гизела Фройнд сотрудничала со многими европейскими журналами, но наиболее известными ее работами стали снимки литературных знаменитостей Франции, Англии и Америки.
С Джойсом, которого она к тому времени знала и глубоко почитала, молодую немку познакомила Адриенн Монье, поселившая ее в своем доме и, по некоторым данным, ставшая ее любовницей. Идея отснять и Джойса возникла сама собой. Сильвия Бич и Адриенн, в сущности, ввели Фройнд в обширный круг знакомых писателей, поэтов и критиков. Они же уговорили Джойса, панически боявшегося фотовспышек и прожекторов, неизбежных при работе с низкочувствительной тогда цветной пленкой. Больные глаза могли не выдержать такой нагрузки. Неохотно сдавшись их обещаниям сделать все щадящим образом, Джойс принял Фройнд и компанию еще в квартире на рю Эдмон Валантэн. С собой они привезли маленький проектор, складной экран и коробку тщательно отобранных цветных и черно-белых слайдов. Норе, которая тоже без особого энтузиазма отнеслась к этой фотосессии, было клятвенно обещано, что Джойса не задержат и не переутомят. Усадив его как можно ближе к экрану, ему показали современников – Роллана, Колетт, Арагона, Монтерлана, Валери, Жида и многих других. Больше часа Джойс вглядывался в них, иногда трогал и обводил пальцем изображения, но не сказал ничего. Лишь глубоко вздыхал, явно волнуясь.
Свет выключили. Джойс помолчал и сказал:
– Они великолепны. Когда вы хотите снимать меня? Разумеется, не в цвете. Мои глаза этого не выдержат.
Перехватив инициативу, он повел себя как опытный продюсер – усадил всех за стол и помог набросать план фотосессии «Джеймс Джойс в Париже». В сущности, снимки должны были стать частью рекламной кампании «Поминок по Финнегану» и центром становилась книга. Эжен Жола был приглашен на следующий день, чтобы участвовать в съемках в качестве персонажа снимка, где они с Джойсом работают над корректурой «Поминок…». Потом Джойс предложил серию снимков на фоне интерьера «Шекспира и компании» и с присутствием Адриенн. Но это вряд ли был приступ великодушия: Джойс прекрасно знал, что английские и американские читатели связывают их с Сильвией имена – ведь это она бесстрашно издала «Улисса» в 1922 году, а французы помнят, что французский перевод выпустила Адриенн Монье. Нелишне было еще раз напомнить, что он издается, несмотря ни на что, и что он автор великой книги. А для ублажения общественной морали, которую наверняка должно было потревожить воспоминание о скандале вокруг «безнравственного» Джойса, решено было завершить сессию домашними снимками Джойса-патриарха, отца семейства, в окружении жены, сына и внука – Гизела назвала это «человеческим миром большого писателя, практически скрытого дымовой завесой эрудированной литературной критики».
Из всей работы, проделанной тогда, в мае 1938-го, осталось пять снимков, ставших теперь классикой иконографии Джойса и вообще классикой. Хотя Джойс был сущим наказанием для художников, он оказался идеальным натурщиком для фотографа: терпелив, внимателен, артистичен и добивался наилучших возможных результатов. С той же целью он настоял, чтобы Гизела уничтожила пять или шесть снимков, показавшихся ему неудачными. Всего, по воспоминаниям Фройнд, их было больше сотни, она сама отобрала дюжину, которую хотела продать, но Джойс оставил от нее половину.