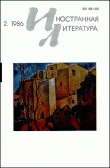Текст книги "Джойс"
Автор книги: Алан Кубатиев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц)
В Риме у Джойса появилась привычка уходить из дома очень рано и сидеть в кафе с книгой до ухода в банк. Он читал все, что мог достать, и в письмах Станислаусу оттачивал свое критическое мастерство, не стесняясь ничем, но в то же время стараясь снова и снова уяснить для себя, что в мировой литературе для него свое, что чужое, жестко вычленяя цели, стиль и точность работы автора. В августе 1906 года он прочел итальянский перевод «Портрета Дориана Грея»: «Разумеется, Уайльд преследовал и добрые намерения – некое желание явить себя миру – но книга загромождена ложью и эпиграммами. Если он и вправду осмелился развить в ней какие-то аллюзии, то она должна была быть лучше. Подозреваю, что он сделал это в книгах, напечатанных частным образом».
«Записки охотника» Тургенева, восхитившие Станислауса, его не тронули – правда, читал он их во французском переводе. С интересом Джойс прочел «Себастьена Рока» Октава Мирбо, где его восхитили и мрачность в изображении жизни иезуитского коллежа, и стиль – «трудно преуспеть во Франции, где почти каждый так хорошо пишет…». Той же оценки удостоился «Кренкебиль» Анатоля Франса, которого Джойс полюбил навсегда. Читает он и Гауптмана, которого считает обладателем тайны художника, и в каждой новой пьесе (в тот раз это была «Роза Бернд») пытается эту тайну отыскать. Гауптман удостоился от него величайшей джойсовской похвалы – «пока я не нахожу в нем ничего от шарлатана».
При этом обильном чтении он продолжает терзать тетушку Джозефину просьбами о присылке всего печатного, что имеет отношение к Ирландии, прежде всего газет, но также книг и журналов. Его по-прежнему завораживает древняя Ирландия, он замышляет какой-то текст на эту тему. Выпрашивает карту Дублина поподробнее и книгу Гилберта «Исторические и муниципальные документы Ирландии», фотографии и открытки с видами страны. Из доходившей ирландской прессы он с неудовольствием узнавал, что Кеттл, Шихи, Скеффингтон и Гогарти становятся все популярнее и значительнее. Последний всё делал попытки примириться с Джойсом, а тот всё отбивал их. Гогарти расспрашивал Чарльза Джойса о делах Джеймса и об отношении к нему, Гогарти, и даже что о нем, Гогарти, думают прочие члены семьи. После этого разговора Гогарти написал Джойсу умиротворительное письмо с предложением забыть старое, бросить раздоры, но Джойс ответил, что такое «не в его власти». Тогда Гогарти, который только что женился, написал Джойсу в Рим, и Джойс опять ему отказал, хотя и формально вежливо добавил, что они могут встретиться в Италии.
Из Нью-Йорка, где молодая чета вкушала медовый месяц, Гогарти радостно ответил, что будет счастлив принять любезное приглашение Джойса, но заметил, что ему кажется, он будет гораздо счастливее видеть Джеймса, чем Джеймс – его, но ему «тяжко по мертвой руке тосковать, слышать голос, которого нет» [54]54
К сожалению, в русском переводе (С. Я. Маршак) этой классической строки А. Теннисона закрепилось жестокое «мертвой» и «голос, которого нет», тогда как в оригинале гораздо более мягкое «vanished» и «the voice is still». Зато «days that are dead» превратились в умильные «потерянные дни».
[Закрыть]. Уместно заметить, что Джойс никогда не прекращал этого подобия отношений – по каким-то джойсовским склонностям он не давал этой ране зажить.
Гораздо мягче он был с Томасом Кеттлом, ставшим, к слову, членом парламента. Однако и с ним Джойс не помирился до конца. Собственно, ему претили не сами его бывшие друзья, но мужчины как интеллектуальные партнеры: «Им, оказывается, тяжко понять меня и невозможно со мной ладить, даже когда они кажутся хорошо снаряженными для этого дела. С другой стороны, две куда более скудно снаряженные женщины, тетя Джозефина и Нора, кажутся способными воспринять мою точку зрения, и если даже они не ладят со мной, как могли бы, то им определенно удается сохранять определенную лояльность, что весьма похвально и приятно. О тебе я, конечно, не говорю. По всем предметам, исключая социализм (который тебе безразличен) и живопись (которая мне неведома), – у нас общие или сходные мнения». Станислаус пытался убедить его, что Кеттл – мыслящий политик, но Джеймс вдруг совершенно отказался от парламентаризма и углубился в Шинн фейн, то есть перешел на сторону Артура Гриффита. Тут явно был отголосок неизживаемой поглощенности Парнеллом, который не смог сделать парламент инструментом прогресса, что вряд ли удалось бы и Кеттлу. Но газета Гриффита «Юнайтед айришмен» была тогда лучшей в Ирландии.
Джойс писал о Гриффите, что это единственный человек, пытающийся сделать Ирландию полноценной страной. Шинн фейн добивалась экономической и политической независимости точно так же, как он добивался в своем самоизгнании независимости художника и самого искусства. Социалистические восторги его подкрепились конгрессом в Риме и другими акциями социалистов Италии. То были яркие праздники с изобилием алых знамен, оркестров и пылких ораторов. Социализм был невероятно популярен среди итальянской интеллигенции – как молодой, так и вполне зрелой. Социалистами были выдающийся психиатр и криминалист Чезаре Ломброзо, писатель Эдмондо де Амичис, философ-марксист Антонио Лабриола, молодой, талантливый и злой репортер Бенито Муссолини и множество других. Но про свой социализм в конце концов Джойс грустно скажет, что да, он слишком неустойчив и плохо сформулирован…
В то время Сингу пришлось пережить громкий скандал по поводу «Молодца с Запада», и даже не в газетах, а в самом театре «Эбби» – из-за фразы: «И все девушки Мэйо постояли передо мной в одних сорочках!» Джойс бесстрастно заметил: «Чудное видение». А давний полуприятель Падрайк Колум, доставленный в участок в пьяном виде, голосил: «Такая клевета на невиновного – оскорбление для всей Ирландии!» Национальный позор был приравнен к 40 шиллингам или двум неделям за решеткой. Джойс с удовольствием прочитал об этом в «Дейли мейл», но, к удивлению Станислауса, принял сторону националистов против сотоварища-литератора. Как кельтская богиня Морриган, Джойс питался раздорами и скандалами – в них он видел испытание для человеческого духа и горестно радовался, когда испытание оказывалось непосильным.
К Йетсу он теперь не испытывал никакой симпатии – «утомительный идиот», «лишенный связи с ирландским народом». Неохотно признавал Синга – «этот по крайней мере может поймать их за уши». Брату он писал: «Чувствую себя человеком в доме, который слышит скандал на улице и крики знакомых голосов, но не может выглянуть и узнать, что, черт подери, происходит. Это отвлекает меня от рассказа, который я собирался написать», – то есть от «Мертвых». Станислаус, которому не слишком нравился Колум, на этот раз обозлился и на брата, не понимая, что Джеймс отрицает не столько личности, сколько то, что они для него воплощают.
Часть объяснения заключалась в том, что Джойс пил все чаще и больше и угрюмая раздражительность между выпивками, классическая черта алкоголиков, накладывалась на всё. Обдумав свою жизнь и будущее, он решил, что и работа в банке, и сам Рим более невыносимы. Следовало решить, писатель он или уныло благопристойный обыватель. Конечно, ему придется искать попутный заработок. Но нынешний статус «означает моральное уничтожение». Вот уже несколько месяцев он не писал ни строчки и даже чтение требовало небывалых прежде усилий. «На театр Господа Бога я смотрю глазами моих сотоварищей, клерков, поэтому ничто не удивляет, не трогает, не восхищает и не отвращает меня». Равнодушие могло означать отстраненность художника, но Джойс чувствовал – это омертвение, крепнущая кома, одичание.
С уже привычным восторгом крушения он известил банковское начальство, что увольняется в конце февраля. Проработал он на самом деле всю первую неделю марта. Письма разнообразным агентствам Франции и Италии были отосланы. Джойсу хотелось попасть в город без туристов, и поначалу ему показалось, что это может быть Марсель. Порт, солнце, старый город… Банк опротивел ему окончательно. И все же ка-кой-то, пусть призрачный, деловой и коммерческий опыт ему удалось собрать. Он надеялся на портовые конторы. Но услуги его никому не требовались.
В середине февраля Джойс договорился с домохозяйкой, что останется еще ненадолго, и тут же написал Станислаусу, что решил вернуться в Триест, к Берлицу. Станислаус был в ужасе: он только что сходил к Артифони выяснить, собирается ли тот сдержать слово, данное Джеймсу перед его отъездом в Рим – что если он захочет вернуться, то всегда может рассчитывать на прежнюю позицию… Артифони с наслаждением отказал. И теперь Станислаус заклинал брата держаться Рима – в Триесте еще хуже. Но Джойс ответил, что если в школе нет вакансий, то он снова возьмется за уроки. Станислаус предупредил, что их скорее всего не найти. Это не остановило Джеймса. Пусть город напоминал ему обо всем тяжелом, что связано с «Дублинцами», там есть два по-настоящему понимающих его человека.
Мучила простуда, подхваченная коварно мягкой римской зимой; он сатанел из-за отказа Джона Лонга издать «Дублинцев», Нора изводила его разговорами о более комфортабельной жизни, последняя попытка найти место в Марселе не кончилась ничем. «Рот мой полон гнилых зубов, а душа – сгнивших амбиций…» В довершение всего Нора забеременела. Постель бедным вместо оперы, говорят в Риме. У него хватает духа шутить над собой: «Эглинтон был уверен, что я вернусь в Дублин попрошайничать, Бирн – что стану горьким пьяницей, а Косгрейв – что нимфоманом. Увы, джентльмены, я стал банковским клерком. Сейчас я думаю, что это хуже, чем предрекали все трое пророков». Но Стэнни он писал: «Еще немного такой жизни, и пророчество Бирна сбудется».
Несколько оттяжек не ослабили решительности Джойса, а отъезд получился совершенно феерическим. Вечером он напился с двумя почтовыми служащими и отправился с ними на танцульки, где неосторожно дал им заглянуть в свой бумажник. За день до этого ему выдали расчет – 200 крон. Собутыльники пошли за ним, оглушили и забрали деньги. Полиция арестовала бы его, но в толпе оказались люди, знавшие «синьора Джойса» и доставившие его домой, совсем как в конце 15-го эпизода «Улисса», «Цирцея». По счастью, дома оставалось несколько крон, Джойс протелеграфировал брату о возвращении, затем усадил Нору с Джорджо в поезд и покинул Рим.
Глава четырнадцатая «МЕРТВЫЕ», КНИГА, ИРЛАНДИЯ
Рим дорого обошелся душевному состоянию Джойса, но он и был писателем, который не может писать в состоянии умиротворенности и согласия с самим собой. Собственно, таких писателей нет.
Все же Вечный город заплатил ему за унижения и разлад. Именно там Джойс осознал до конца, что изменилось в его отношении к Ирландии и остальному миру. Воплощением этой перемены стал один из самых необычных его рассказов – «Мертвые» («The Dead»). Долго созревавший в нем рассказ окончательно оформился в Риме, среди всех неудач, озлобления и колебаний. Какая-то часть души Джойса вырабатывала странный свет, которым наполнен рассказ, не складывавшийся, пока Вечный город не остался позади.
В нем срастаются две жизни – истории трех поколений семьи Джойсов и происшествие в Голуэе 1903 года. Юноша Майкл Бодкин ухаживал за Норой Барнакл, но заразился туберкулезом и слег. Вскоре после этого Нора собралась в Дублин, и Бодкин сбежал из больницы, чтобы спеть ей на прощание, стоя под яблоней у ее окна. Ночь была холодная, ветреная и дождливая. В Дублине Нора узнала, что Бодкин умер, и когда она встретила Джойса, то поначалу он привлек ее, как она потом говорила сестре, именно сходством с Бодкином. А Джойс охотился за деталями, как кошка за крысами, и выспрашивал Нору обо всем, что она могла рассказать. Сперва его задело, что она интересовалась еще кем-то до него, а потом злило, что ее сердце может тронуть еще что-то, даже если это жалость к мертвому мальчику. Ревнивцу Джойсу было почти все равно, что это всего лишь маленькая могила на маленьком кладбище Отерарда, и он то и дело жаловался тете Джозефине Мюррей, что Нора видит в нем другого человека. Когда они первый раз уже осели в Триесте, Джойса снова начала мучить эта тема.
Неотступность мертвецов занимала его мысли в Дублине, таком же католическом городе, как Рим. Живым было куда труднее в нем, чем мертвым – они процветали. И Дублин, казалось, похороненный в памяти, воскресал и царил в его мыслях. В «Улиссе» Стивену мерещатся мертвецы, встающие из могил и высасывающие из живых радость жизни. Его воображение сплетает воедино брачное ложе, смертное ложе и ложе родов. И смерть приходит, «бледный вампир, буря в очах, ее паруса-крылья летучей мыши кровавят море, рот целует рот…». Жизнь и смерть могут нести нас одновременно, в одной реке.
За полгода римской жизни Джойс почти выдумал рассказ. Скандал вокруг театра «Эбби» и «Удальца с Запада» отвлек его ненадолго; Синг последовал совету Йетса, который отверг Джойс, – искать вдохновения у ирландского народа, и отправился на Аранские острова. Рассказ отзывается и на это: мисс Айворс, решительная веснушчатая националистка, с заколкой-эмблемой Ирландии (такие носили сторонники Ирландского возрождения) обвиняет героя в англофилии и буквально настаивает, чтобы он совершил экскурсию на место действия «Скачущих к морю» Синга, но добивается от него яростного ответа: «Сказать вам правду… мне до смерти надоела моя родная страна!» Для Джойса, в отличие от героя, такой ответ ничего не решал.
Рассказ начинался сценой рождественской вечеринки и заканчивается трупом, то же переплетение, что в «Поминках…» – «плясабельный» и «погибельный» [56]56
«Funferal» и «funferal» в оригинале.
[Закрыть]. Джойс писал Стэнни, что гостеприимство и островной характер Дублина – черта, которой он больше не встречал нигде в Европе, поистине добродетель, которой он еще не воспроизвел. «Мертвые» согреты этой любовно переданной щедростью и весельем. Застольная речь Гэбриела Конроя, «небольшой клочок бумаги в жилетном кармане», демонстрирует чистейший образец этого жанра – речи для благопристойного ирландского застолья, потому что есть еще неблагопристойные, в изобилии представленные уже в «Улиссе». В ней есть отсылки к греческим мифам, солидные комплименты, приятное красноречие, хвала ирландскому гостеприимству и открытости. «С каждым годом я все больше чувствую, что среди традиций нашей страны нет традиции более почетной и достойной уважения, чем традиция гостеприимства. Изо всех стран Европы – а мне пришлось побывать во многих – одна лишь наша родина поддерживает эту традицию. Мне возразят, пожалуй, что у нас это скорее слабость, чем достоинство, Но даже если так, это, на мой взгляд, благородная слабость, и я надеюсь, что она долго удержится в нашей стране…не умрет среди нас традиция радушного, сердечного, учтивого ирландского гостеприимства, которую нам передали наши отцы и которую мы должны передать нашим детям».
Это не только пародия на собственную саркастическую и язвительную манеру Джойса, но и придуманный им способ смягчать сказанное прежде. Он и внешность Конроя конструирует в полном контрасте со своей собственной – упитан, высок, румян, гладко выбрит, глянцевитый зачес, отличный костюм… Весь отбор деталей «Мертвых» нацелен на то, чтобы выявить мучающее автора. Место действия пришлось поменять, так как рождественская вечеринка в полунищем доме досталась «Стивену-герою» – на ней тоже вспоминают об умершем. Джойс выбирает дом своих бабушек-теток миссис Каллахэн и миссис Лайонс, куда все взрослые и взрослеющие Джойсы приходили каждый год, и Джойс-отец, как и Конрой, мастерски разделывал гуся, а речь героя – точная имитация его красноречия.
В рассказе хозяйки – старые девы, у них другие имена, но остальные гости довольно узнаваемо сконструированы из авторских воспоминаний и впечатлений детства. Фредди Малине сделан из сына миссис Лайонс, Фредди, владельца магазинчика открыток, но размещено предприятие на менее фешенебельной улице, чтобы Гэбриел обоснованно мог ссудить ему соверен. Осипшего и капризного тенора д’Арси создает из рассказов отца о М'Гакине, ведущем теноре оперной труппы Карла Розы, неуверенном и оттого неудачливом.
Даже персонажей под своими именами Джойс бестрепетно делал своей собственностью и гражданами своего Дублина.
Сотворение Гэбриела Конроя – процесс куда более сложный, хотя исходная сюжетная точка, ревность к умершему поклоннику, собственная – джойсовская. Джойс всегда упивался мученичеством преданного, отравой предательства: по свидетельству Дж. Прескотта, слово betrayal [57]57
Преданный (англ.).
[Закрыть]то и дело всплывало в его речи. Стивен Дедалус, Блум, Ричард Роуан, Ирвикер – все они преданы и все мучаются этим слабым, но неотвратимо восходящим к сердцу ядом.
Те же муки переданы и Гэбриелу. Письмо, написанное жене («Почему все эти слова кажутся мне такими тусклыми и холодными? Не потому ли, что нет слова, достаточно нежного, чтобы назвать тебя? Как далекая музыка, дошли к нему из прошлого эти слова, написанные им много лет тому назад» [58]58
Здесь и далее перевод О. Холмской.
[Закрыть]) – дословная цитата из письма Джойса Норе – 1904-й. Конрой, как и Джойс, пишет рецензии и обзоры для «Дейли экспресс», за что его высмеивает патриотка мисс Айворс, прототип которой – одна из сестер Шихи, Кэтлин, носившая такую же патриотическую булавку и патриотический лифчик. Даже очки и набриолиненный прямой пробор у него от тогдашнего Джойса, и то, что он куда лучше одет и ссужает золотые, а не одалживает по шиллингу, ничего не меняет: мука и просветление, к которым Конрой возвращается, – это путь самого автора.
Теперь у Джойса были и рождественский ужин, и гости, и то о себе, что накопилось за эти годы. Праздник, яркий свет, сытная еда, смех и выпивка – Джойс подробно и даже торжественно описывает тройной ряд бутылок на крышке рояля, среди которых меньше всего минеральной воды в «белом с косыми зелеными перевязями». Но улицу медленно засыпает снег, и из праздничного покрова он оборачивается чем-то иным: на нем, как на бумаге, выписываются страхи и ревность Конроя, нелепая ревность и ужас, когда «против него вдруг встало какое-то неосязаемое мстительное существо, в своем бесплотном мире черпавшее силы для борьбы с ним». Гэбриел начинает осознавать всю мелочность своих претензий, свою уязвимость и слабость. Щедрый гость, каким он себя видит в самом начале, ранен горькой репликой служанки – а он-то думал, что в этом доме все счастливы. Затем от этого образа откалывается осколок за осколком, и вот уже почти невозможно вспомнить так тщательно отточенную застольную речь, и красавица жена все же «деревенская красотка» с запада… В сознании самого Гэбриела запад Ирландии – воплощение темноты и жестокого примитивизма, и ощущение не покидает его весь рассказ, потому-то он так болезненно реагирует на приглашение мисс Айворс съездить на Аранские острова. Дикость, грязь, нищета, холод и сырой туман – все то, что он вытеснял из себя поездками в Европу, где пьют вино и носят хорошо скроенные макинтоши.
Гэбриелу неприятно и то, что он способен испытывать такие чувства, но он не хочет от них избавляться. Гости расходятся. Где-то далеко в доме осипший и неуверенный голос выводит простенькую ирландскую песню – Бартелл д’Арси и не выдерживает молчания и, в пальто, в калошах, подняв крышку рояля, подбирает аккомпанемент для «Девушки из Огрима».
Огрим – жалкая деревушка на западе Голуэя. Тем не менее начинается песня строками: «Я дочь короля, прибредшая из Каппакина в поисках лорда Грегори, помоги мне Бог найти его, а дождь хлещет на мои золотые волосы, роса оседает на мою кожу, и дитя мерзнет в моих руках, лорд Грегори, впусти же меня». Соблазнитель-аристократ и деревенская девочка-мать оказываются здесь рядом, но Конроя задевает не простенький текст, а то, как слушает песню его жена. «Он спросил себя, символом чего была эта женщина, стоящая во мраке лестницы, прислушиваясь к далекой музыке…» Джойс услышал эту балладу от Норы, и хотя поначалу собирался промодулировать рассказ стихотворением Мура, ощутил, что «Девушка из Огрима» ближе – запад, Голуэй, дождь, бесприютность тоньше сплетались с больным мальчиком, в ледяной ливень пришедшим под окно Гретты спеть ей прощальную серенаду.
Конвей и Гретта приходят в отель, но вместо маленького любовного праздника получается тяжелый и печальный разговор о мертвом возлюбленном и памяти о нем. Муж впервые узнает о юном возлюбленном; Джойс очень интересно поменял его имя – Майкл Бодкин [59]59
Bodkin – кинжал (англ.).
[Закрыть]– на Майкла Фюрея. Вспоминается архангел Михаил, а новая фамилия перекликается с «fury», яростью, страстью, той, которая осталась в прошлом и которой нет в чинном Дублине. Гэбриел старается хотя бы иронией ослабить это воспоминание – ну как же, мальчик-газовщик и он, учитель языка (еще одно сходство – профессия Джойса)… «Отчего же он умер таким молодым, Гретта? От чахотки?» Но Гретта, помолчав, отвечает: «Я думаю, что он умер из-за меня». Презираемый Джойсом У. Б. Йетс в прославленной «Графине Кэтлин» (1902) написал эпизод, где старуха-Ирландия поет песню о златовласом юноше, повешенном в Голуэе, а на вопрос, отчего он погиб, отвечает: «Он погиб от любви ко мне; многие мужи погибли от любви ко мне».
Русские переводы «Дублинцев», к сожалению, упрощают оттенки и нюансы мысли Джойса, обедняют те ощущения, которые он делает великой литературой. В последней фразе «Мертвых» исчезла та часть фразы, где говорится, что Гэбриел «слышит, как тихо ложится снег на вселенную и как тихо, словно приход их последнего завершения, ложится он на всех живых и мертвых». Подстрочнику тоже нелегко передать всю глубину этого строя души, но то, что Гэбриел утончившейся душой слышит почти несуществующий звук, то, что снег не забвение, а единение, – такие краски терять просто жаль.
Герой не собирается оставить мир – он просто «curvata resurgo», выправляет согнутое, и расстается с тем, чем раньше гордился, что считал своим отличием: разве что в этом случившееся подобно смерти. Как юноша Майкл, Гэбриел жертвует собой, и изображение этого самоотказа Джойс собирает из «лысых холмов», «покосившихся крестов», «терна»… Мальчику он завидует именно потому, что тот сумел пожертвовать собой из-за любви, с христианством не имеющей ничего общего. Но и Гэбриел умирает за Гретту – он убивает в себе всё, что разделяло его и аранских крестьян, и даже гостей вечеринки, тайное превосходство над которыми должно было помочь вытерпеть всю ее скуку. Они оба оставили далеко позади юность, свежесть, страсть, и Гэбриел тоже «агнец, закланный на алтаре», на ее алтаре, но и она тоже сгорела на его алтаре, и он не чувствует сожаления – только нежную жалость.
Гэбриел, который презирал собственную страну, заплатил ей дань, о которой не узнает никто; она больше, чем та, которая отлилась в его застольной речи. Уверенность в том, что достойная жизнь возможна лишь за пределами Ирландии, отрезана чувством связи, принятия, даже восхищения пусть не всей страной, но той частью, которая больше всего Ирландия, жизнью, которую она ведет. Тут всё напряженнее, огненнее, и земля побеждает его, солидного, уверенного, интеллигентного. В «Портрете…» Стивен Дедалус, безоглядно покинувший национализм, мучительно оправдывает себя тем, что уходит в самоизгнание затем, чтобы вернуться с даром – новым сознанием народа.
Как это часто бывало в жизни Джойса, ему не пришлось выдумывать завершение «Мертвых». Подобно Стендалю, он «брал свое добро везде, где его находил», и нашел его в другой книге ирландского автора, которую читал в юности, расхвалил в «Дне толпы» и перечитал в 1907 году, согласно помете на его экземпляре. В ней жених перед самой брачной ночью узнаёт, что оставленная им когда-то девушка покончила с собой. К несчастью, об этом узнаёт и невеста. Она не может позволить мужу даже поцеловать себя, он мучается раскаянием, все испорчено, и заплаканная новобрачная наконец засыпает, а муж (тут начинается почти буквальное фабульное сходство) подходит к окну и смотрит, как занимается грустный серый рассвет. Жизнь кажется мужу полной неудачей, и к тому же он с ужасом осознает, что убившая себя возлюбленная была страстнее и привлекательнее его жены… И он решает, что воздаянием будет посвятить себя жене, сделать ее жизнь счастливой. Вот тут и начинается типично джойсовская смена акцентов и перестановка мебели. Мертвая возлюбленная/возлюбленный, муж, подавленный ощущением неудавшейся жизни, смирение перед лицом вечной правды, решимость принять жизнь в ее неумолимости одолжены у «Тщетного богатства» Джорджа Мура (1895).
«Мертвые» неожиданно стали осевой вещью в творчестве Джойса. Тема обманутого мужа есть во всем, что им написано, и только в этом рассказе из нее вырастают иной вывод, иные ощущения, сознание взаимной зависимости мертвого и живого. Упомянув об этом впервые еще в 1902-м, в эссе о Мэнгане, Джойс развивает эту мысль в «Дублинцах»; первый рассказ книги о том же, как и «Несчастный случай», но куда ближе к ней «День плюща», где разговор живых, к чему бы ни переходил, неминуемо вьется вокруг смерти. Кто-то из университетских приятелей на его реплику о том, что смерть есть лучшая форма жизни, ядовито заметил, что в таком случае отсутствие есть лучшая форма присутствия, не зная, что для Джойса это не вовсе абсурд. Два эти рассказа связывает персонаж, который не появляется и не появится, потому что мертв, но споры и переживания из-за него живее всех живых.
Джойс признавался Станислаусу, что идея «Дня плюща» заимствована у Анатоля Франса, из знаменитого «Прокуратора Иудеи». Там Понтий Пилат, элегантный, усталый, насмешливый, рассуждает с друзьями о том, что происходило в Иерусалиме тогда, и никто не вспоминает одно-единственное имя. Когда в конце беседы Пилата вдруг спрашивают, помнит ли он человека по имени Иисус из Назарета, он совершенно честно отвечает: «Иисус? Иисус из Назарета? Нет, не могу такого припомнить…» Но отсвет этого человека лежит на всем, о чем они говорили, и без него беседа не имела бы никакого значения. У Джойса это Парнелл и Майкл Фьюри.
В «Улиссе» призрак матери не оставляет сознания Стивена, призрак сына то и дело встает перед Блумом. «Поминки по Финнегану» – тончайшее сращение умершего и живого; там Анна Ливия Плюрабель, женщина – река жизни, текущая к океану-смерти, чтобы исчезнуть в нем, не исчезая, просто пресная вода становится горькой солью. Но ведь океан ее и породил, из рожденных над ним туч пролилась ее прозрачная плоть, океан и муж ее, она отдается ему. Так же и Гэбриел ищет то, что породило его, – в них одна печаль и усталость. Волны Шэннона для него мутны и буйны, Анна Ливия видит холодный и безумный океан. И в «Поминках…» она обручается не только с любовью, но и с гибелью.
Джойсу всего двадцать шесть, но он пишет рассказ, достойный очень взрослого и зрелого мастера. Он уже оправдал для себя бегство от Ирландии, но куда он бежит и зачем, вряд ли ясно до конца ему самому. В «Русских сказках» Горького мудрый пристав советует барину, имеющему проблемы с идентификацией; «Потритесь вы об инородца!» Изгнание, вернее, самоизгнание, окончательно сделало Джойса дублинцем. «Мертвые» написаны о том, что это такое – быть ирландцем без Ирландии.