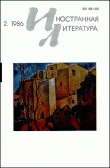Текст книги "Джойс"
Автор книги: Алан Кубатиев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 41 страниц)
Глава семнадцатая ДУБЛИН, ХУДОЖНИК, ИСТОКИ
Все книги Джойса – непрекращающийся разговор с собой, и первая неуходящая тема этого диалога есть Дублин, воспринимаемый им как живое существо. Тот же разговор вели Йетс, Арнольд, Вордсворт. Но Дублин не только тема: это еще и целая семья, связанная с ним родством, почти кровосмесительным. И в «Стивене-герое», и в «Портрете…», несмотря на гордо заявленное одиночество, рядом есть родные и друзья, с которыми сплетаются путаные и болезненные связи. Бунтарь никогда не бунтует в одиночестве – ему нужны среда и ее реакции, чтобы по ним замерить высоту своего мятежа. Ему нужны соратники, чтобы восторженно разделять. Ему нужно требовать все большей и большей преданности от них, чтобы изгонять их или, что еще упоительнее, прощать, когда становится ясно, что им за ним не угнаться, и что самое упоительное, чувствовать себя преданными ими… То есть у него имеется билет в Святую землю, но он требует депортации туда. Так или примерно так живет Джойс: гневно хлопнув дверью, он с улицы подкрадывается поглядеть в щель между занавесками. Связи ему были нужны самые тесные и ранящие, расстояние значение не имело, его знаменитые письма есть способ соединительной ткани. Стоит вспомнить, что в анатомии кровь считается ее разновидностью. Десятки писем в неделю текут в разные страны оттуда, где в данный момент находится Джойс. Ирландию он унес на подошвах башмаков, она была с ним в обличье жены, брата и сестры, которую он взял, чтобы триединство было полным – Жена, Юноша, Дева.
Знаменитая фраза Джойса не раз звучала в парижские годы в ответ на вопрос, вернется ли он в Ирландию: «А разве я оттуда уехал?»
Самые тесные связи у Джойса с детством. Громогласная бравада отца, неиссякаемое терпение и нежность матери. Даже из Парижа он у нее, а не у отца спрашивал совета и поверял ей свои замыслы. Отцу было невозможно даже просто довериться – он был ненадежен, капризен и болтлив, и это знали все. Отношения Джойса с матерью и к матери во многом определяют его отношения с Норой. Путаным и жестоким летом 1909 года он слал ей письма, где видна его надежда восстановить часть души, утраченной с материнской смертью. Невероятно откровенно он уже (в приведенном выше письме) рассматривает их отношения как связь матери и ребенка, ибо отношения любовников кажутся ему слишком эгоистичными. Сам он явно готов и к роли младенца, и к роли матери. Мария Жола писала, что Джойс говорил о своем отцовстве, словно это материнство. А сам он замечал, что есть только два вечных образа любви – матери к ребенку и мужчины ко лжи. Разумеется, его желание связано и еще и с вечным его самоощущением слабого среди сильных. Дитя на руках у сильной женщины, «оленя ранили стрелой», тихий среди буянов, интроверт между экстравертами, Парнелл среди предателей, Иисус под бичами римлян.
Тепло и уютно в семье было тоже в самые ранние годы, и разрушение этого состояния у Джойса связано именно с отцом, с его неспособностью быть мужчиной, несмотря на бороду, лихость и изрядное число детей. Но и сам Джойс не слишком любил ответственность – вот только основа этой нелюбви была другая. В «Стивене-герое» о мистере Дедалусе сказано, что у него было то же отвращение к ответственности, что и у его сына, но без его отваги. Собственно, и с церковью он расстался еще и потому, что ирландский католицизм на редкость патерналистичен.
Одновременно это было испытание материнской любви на прочность – так он будет испытывать всех своих женщин, и тех, что любили его, и тех, кого любил он. Конечно, Мэй Джойс была огорчена, но не отказалась от него, хотя ее довольно скорая смерть могла выглядеть как следствие того, что проба вышла слишком жесткой. Нора, с которой он поделился своим горем, то ли в шутку, то ли всерьез назвала его «женоубийцей». Однако всю тяжесть предстоявшей участи она в 1904 году знать не могла. Ведь любовница Джойса должна была одновременно стать ему и матерью, и королевой, и даже богиней, чтобы быть достойной его преклонения. Но чтобы быть уверенным в ее любви, он хотел доказательств, что она принимает в нем даже самое худшее, и начал с того, что сделал ее женой и никак не узаконил их отношения. Опять-таки – и глубоко религиозная мать должна была признавать его сыном и любить, несмотря на отказ от законов Божиих.
Чего это стоило матери, мы уже знаем. Нора проверку прошла, очевидно, потому, что ее не слишком волновал статус: в среде, откуда она вышла, встречались и более жестокие варианты. И тогда он выбирает инструмент позазубреннее – сомнения в ее верности. В какой-то мере Джойсу было все равно, правда это или нет. Ведь если он возвел на нее поклеп и она оказалась чиста, ему тоже выпадает дивная возможность покаяться…
Нора проходит и эту ордалию. Тогда Джойс начинает третью, длящуюся почти весь остаток их жизни вдвоем: признавать все его порывы, вплоть до самых причудливых, поверять ему все свои мысли, вплоть до самых потаенных, особенно смутительные. Она обязана раскрыть ему двери в жизнь своей души, чтобы он мог с предельной точностью вызнать, что такое женщина… И этот тест Нора прошла и проходила всегда. Джойсу было прощено всё. Даже те самые письма из Триеста, где покаянные были пламеннее обвинительных.
Однако в таком сведёнии, «жена – мать», ничего необычного не было – в психологической истории литературы мы найдем множество примеров. Джойс их как раз отодвигал друг от друга, делал их полюсами собственной натуры и искренне страдал от их несводимости. Нора давала ему то упоительное ощущение блудного сына, без которого он не мог, – любящего, страдающего и заставляющего страдать всех. В нем различали мальчишку, скрытого во взрослом, он говорил: «Она видит меня насквозь».
Как бы ни обходился Джойс с Норой – как с источником, соратницей, матерью, «живыми ножнами», богиней, – он знал и завидовал той редкой цельности, которой обладала Нора, нимало не задумывавшаяся о том, на что она разделена в себе самой. Однако ему казалось, что совершенная модель женщины – это самка Молли, в полусне думающая о Стивене то как о дитяти, то как о любовнике, или Анна Ливия Плюрабель, одновременно Река Мира и жена, вспоминающая, как страстно влюблена была она в своего мужа…
Прежде всего Джойс исследует СВОЕ душевное пространство, свою ментальность и все ее сплетения. Порождения этих начал он уносит в свои книги. Его представление об Ирландии, смесь горя и отвращения с яростью библейских пророков, будет сформулировано в «Портрете…», знаменитой максимой «Ирландия – старая свинья, пожирающая свой приплод», и себя, разумеется, он считал одним из перемолотых этими зубами. В одном из более поздних писем Джойс пишет, что «Дублинцы» не о том, «каковы они» в Дублине, а о том, «каковы мы»: «мы» непривлекательны: заносчивость, глупость, развращенность, комичность самого низкого разбора, но именно потому перехватывает горло от жалости и сочувствия. Если их нет в Ирландии, то пусть найдутся за ее пределами, у тех, кто увидит ее в этот беспощадный микроскоп, – не случайно лилипутов придумал англо-ирландец. Будет ли читатель способен, увидев неприкрашенную, малопривлекательную реальность, испытать сострадание и «гнев за человека» – отлично, значит, он тоже прошел испытание. Жалость, на которую рассчитывает Джойс, особая: как пишет Эллман, в ее составе «яростная привязанность, понимание и насмешка».
«Дублинцы» написаны как бы в отсутствие автора, но его предпочтения и неприязнь все равно выступают, и везде мы находим присутствие Матери. Мать-устрашительница в «Пансионе» и «Матери»; мать-сочувственница в «Мертвых», обнимающая равно и живого мужа, и мертвого любовника, между которыми скоро уже не будет различия; в «Аравии» и «Дне плюща» одним из главных мотивов становится утрата любви и сочувствия матери. Не случайно Джойса впоследствии с одинаковой страстью будут и ненавидеть, и любить именно феминистки: он пишет именно о тех положениях жизни, где мужчины не выстаивают ни с какой помощью – в «Сестрах» брата не спасает даже вера, в «Облачке» жена делает неумолимый выбор в пользу ребенка, а не инфантильного мужа. Хотя жалость и поддержка – тоже их функция, но мужчины в «Дублинцах» на нее точно не способны, да и женщины тоже молят о сочувствии: «Эвелина», Гретта, навеки утратившая девичьи радости, обманутая девушка Корли в «Двух рыцарях», полуребенок Мария в «Глине». Женщинам – труды, мужчинам – спиртное, детям – мучения; таков мир «Дублинцев». В этот мир Джойсу приходится нырять куда глубже, чем позволяет его личный опыт, потому что «Портрет…» требовал более подробной реконструкции прошлого, изображения детства и юности как семени, которое прорастает зрелостью, не всегда привлекательной.
Следует помнить, что и сам «Портрет…» вырос из «Стивена-героя». Собственно, переработка одной книги в другую стала обычным для Джойса мучительным преобразованием слишком простой вещи в куда более сложную. Так он будет работать всегда, по принципу средневековых схоластов с их «Skotison!» [64]64
Затемняй! (др. – гр.).
[Закрыть]. В «Портрете…» Стивен излагает Линчу свою теорию творчества как «художественного зачатия, художественной беременности и художественных родов». А периоды эти соответствуют, по Джойсу, цельному пути – движению от лирического искусства к эпическому и драматическому:
«Образ, само собой разумеется, связывает сознание и чувства художника с сознанием и чувствами других людей. Если не забывать об этом, то неизбежно придешь к выводу, что искусство делится на три последовательных рода: лирику, где художник создает образ в непосредственном отношении к самому себе; эпос, где образ дается в опосредованном отношении к себе или другим; и драму, где образ дается в непосредственном отношении к другим…
– Вот здорово, – сказал Линч, снова засмеявшись. – От этого воняет настоящей схоластикой.
– Лирический род – это в сущности простейшее словесное облачение момента эмоции, ритмический возглас вроде того, которым тысячи лет назад человек подбадривал себя, когда греб веслом или тащил камни в гору. Издающий такой возглас скорее осознает момент эмоции, нежели себя самого как переживающего эмоцию. Простейшая эпическая форма рождается из лирической литературы, когда художник углубленно сосредоточивается на себе самом как на центре лирического события, и эта форма развивается, совершенствуется, пока центр эмоциональной тяжести не переместится и не станет равно удаленным от самого художника и от других. Тогда повествование перестает быть только личным. Личность художника переходит в повествование, развивается, движется, кружит вокруг действующих лиц и действия, как живоносное море… Драматическая форма возникает тогда, когда это живоносное море разливается и кружит вокруг каждого действующего лица и наполняет их такой силой, что они приобретают свое собственное нетленное эстетическое бытие. Личность художника – сначала вскрик, ритмический возглас или тональность, затем текучее, мерцающее повествование; в конце концов художник утончает себя до небытия, иначе говоря, обезличивает себя. Эстетический образ в драматической форме – это жизнь, очищенная и претворенная воображением. Таинство эстетического творения, которое можно уподобить творению материальному, завершено» [65]65
Перевод М. Богословской.
[Закрыть].
Джойс не был бы собой, если бы его герой со смешанным выражением восторга и брезгливости не добавил бы:
«– Художник, как Бог-творец, остается внутри, или позади, или поверх, или вне своего создания, невидимый, утончившийся до небытия, равнодушно подпиливающий себе ногти».
Циник Линч сардонически отвечает.
«– Что это на тебя нашло, – брюзгливо сказал Линч, – разглагольствовать о красоте и воображении на этом несчастном, Богом покинутом острове? Неудивительно, что художник убрался то ли внутрь, то ли поверх своего создания, после того, как сотворил эту страну».
Но Стивен ему не отвечает, хотя, в сущности, это развитие его мысли. Он нарисовал не Бога-творца, но Богиню-родильницу. «В девственной утробе воображения мир становится плотью». Для Джойса это не совсем метафора. Станислаус записал, что в первых набросках «Портрета…» герой выводился чуть ли не из эмбриона с различимыми и развивающимися чертами. Нора, беременная их первым ребенком, и тот невероятно детальный интерес к ее состоянию, сведения об этом, которые Джойс неутомимо собирал, – все это не просто медико-биологический курьез, а попытка врастать литературу в иную, чем эстетическая, систему представлений. «Портрет художника в юности» – рассказ о вынашивании души и мучительных ее родах. Роман начинается с изображения огромного отца, словно бы увиденного крошечным существом, едва разросшимся сперматозоидом, и заканчивается метафорическим отделением от матери, сначала описанием ссоры из-за неверия героя, а затем упоминанием предотъездных сборов, когда мать укладывает его вещи.
Душу окружает тело. А оно бурлит и сочится жидкостями, выделениями, секрециями – мочой, слизью, плодными водами, кровью, молоком. Низшие – не по качеству, по месту – стихии борются с высшими. С третьей главы плещут иные влаги – чаша Святых Даров, кровь Господня, в четвертой – воды Моря-Океана и только в пятой заговорит иная стихия – огонь, металл, воздух полета.
Постепенно, строка за строкой, эмбриональные и самые примитивные ощущения героя начинают меняться: вот проросло и забилось сердце, вот оно начинает говорить ему о девочке Эйлин, и почти одновременно складывается сексуальное предпочтение – плод обретает признаки пола. Вот формируется мозг, и с ним приходит постоянное мучительное чувство стыда за низменные, животные ощущения. Каждая глава заканчивается явлением новой влаги, размывающей и уносящей нанесенное прежними. И только с конца третьей главы меняется даже влага – чаша Святых Даров, кровь Господня. Глава четвертая заканчивается морем, то есть одной из величайших очищающих стихий – Океаном. И оно очищает для Стивена «заране избранную цель» – жизнь во всей ее прелести и телесности. Больше не надо плыть в потоке, пора воспарить, соединить собой «огромный равнодушный купол неба» и «ту землю, что родила его и приняла к себе на грудь». Пятая глава о том, как душа копит силы и плоть мысли, которая будет питать ее в полете, – дневник Стивена рассказывает, как освобождается душа и даже выражающее ее слово меняется.
«Эмбриональность» повествования дает Джойсу возможность перестроить всю образную систему книги в этом ключе – беременность, вызревание, муки явления, как младенец движется сквозь родовые пути, так движется и Стивен: вперед, даже из благой теплой тьмы к мучительному, но свету. Все глубже и острее вкус бытия, все сложнее ощущения и переживания, – детская синестезия, мокрый поцелуй проститутки на языке, даже не на губах, а после вино и опресноки причастия снова на языке. Но вот душа начинает высвобождаться из плоти, а затем из мягких и непреклонных удержаний религии. А когда она слышит зов искусства, высвобождение становится необратимым. Грехопадение оказалось искупимым, а художник, так же как и грешник, просыпается в Стивене через ощущение ужаса и последующего катарсиса. Теперь Стивен, собирая себя заново из тех же ощущений и переживаний, из измененных Джойсом подлинных событий, отказывается от католицизма – новое жречество намного упоительнее и куда ближе к настоящей вечности. Проповедь об уродстве греха в третьей главе преображается в проповедь о красоте и искусстве в пятой. Девочка, бредущая по воде, – один из самых пленительных женских образов мировой литературы, – это Дева его мира. Джойс многое убрал из того, что касалось телесности героя, усилив власть ума. Тюрьма разрушена, низменность существования непереносима, перерождение неизбежно.
Джойс наслаждался «энергией заблуждения», воспламененной его методом, воссоздания себя из матрицы-Матери. Герою начинает казаться, что у него другие родители, что он подкидыш или приемыш. «Улисс» будет куда более детальным и проработанным использованием метода: книга среди других планов будет повторять план-устройства человеческого тела. В «Быках Гелиоса» Дедалус опять становится эмбрионом, плодиком, но пародийно возрождается не к жизни, а к попойке. Примирение с Отцом в «Улиссе» происходит лишь потому, что Блум – полная противоположность реальному отцу Джойса. Но Блум к тому же еще и полностью порабощен Женщиной, под власть которой приводит и Стивена. В «Поминках по Финнегану» тела словно вывернуты наизнанку, их среды одинаковы, только они легко слипнутся в новую молекулу; не случайно в обычном человеческом обличье Ирвикер не может даже совокупиться с женой. Создание множества моделей семейных отношений, использование их как основы для более сложных построений, уничтожение их противоречий делало Джойса в собственных глазах более чем демиургом – «Создателем Вселенных» (О. Стейплдон).
Поразительное воображение и логика Джойса начинают входить между собой в намного более изощренные связи, чем ранее, в годы ибсеновских претензий, – случилось и продолжает случаться нечто вроде Пресуществления, когда вещественное становится косубстанционально не совсем или полностью невещественному.
Глава восемнадцатая НЕУДАЧНИК, СКАНДАЛИСТ, ВОИТЕЛЬ
Отношения Джойса и Норы становились все теснее – хотя, казалось бы, куда еще после стольких испытаний и двоих детей. Но даже после дублинской поездки оставались Джойсы, которые этого не приняли. Подарки, на которые он потратил деньги, взятые в счет гонорара за «Дублинцев», видимо, раздражали Станислауса так же, как разбуженная ностальгия по Ирландии. Но Джеймс говорил только о том, как принимали его и как он преуспел. «Неужели никто обо мне не спрашивал?» – наконец вылетело из Стэнни. «Почему, все, – ответил Джойс, – и передали много писем, только я их там забыл». Примечательно, что все это время Станислаус содержал Нору и Лючию, посылал деньги брату и племяннику в Дублин, нашел средства на их обратный путь, мирил брата и его невенчанную жену, улаживал конфликты между ними и квартирохозяевами.
Возможно, что все переросло бы в серьезный разлад, если бы Джеймс опять не уехал. Милая и терпеливая Ева Джойс почти сразу затосковала по Дублину, да так, что стало ясно – только домой. В Триесте ей нравилось лишь одно: изобилие кинематографов. В Дублине не было ни одного. Джойс мгновенно заболел этой идеей, своим новым деловым проектом; он отыскал компанию из четырех предпринимателей, успешных владельцев двух местных театров с пышными названиями «Эдисон» и «Американо», а также «Вольта» в Бухаресте. Люди были совершенно не кинематографические: глава, обойщик Антонио Мачнич, придумавший новый модный диван, двое других – Джованни Ребез, торговец кожей, и Джузеппе Карие, драпировщик. Единственным, кто что-то понимал в технике, был Франческо Новак, владелец велосипедной лавки. Джойс познакомился с ними через Николу Видаковича, иначе вряд ли они бы ему доверились.
Начал он с мимолетного замечания:
– Знаете, есть город, где полмиллиона жителей и ни одного кинематографа…
– Где это? – незамедлительно спросили его.
Но он отмолчался и лишь некоторое время спустя признался, что речь идет об Ирландии. Тут же была добыта карта, и он показал, что кинотеатров нет ни в Дублине, ни в Белфасте, ни в Корке. Рынок совершенно девственный, захватить его можно было полностью, стать монополистами и выкачать все прибыли. Проект им понравился, но исполнение оставалось проблемным. И тут Джойс благородно предложил на время оставить свою работу в Триесте и побыть их представителем в Дублине – поискать годный зал, арендовать его и подготовить все прочее. Расходы вполне приемлемые: несколько фунтов на проезд в Дублин и поденное содержание в десять крон, около восьми шиллингов. Никакого капитала Джойс вложить не мог и на равную долю не рассчитывал. Однако ему приходилось оставить кормившую его работу и брать на себя риск начального периода; поэтому десять процентов показались партнерам вполне приемлемым вариантом.
С помощью Видаковича, практикующего адвоката, соглашение между пятью партнерами было подписано, и Джойс уехал в Ирландию. Он задержался ненадолго в Париже, намереваясь послушать хорошую оперу, но дисциплинированно проследовал в Лондон и снова при помощи карточки «Пикколо делла сера» получил в поезде купе первого класса. В Дублине он был 21 октября и с головой окунулся в поиск возможных размещений. Рядом с Сэквилл-стрит, одной из главных дублинских магистралей, был снят дом, у инспектора городских театров получено разрешение, и Джойс вызвал Мачнича, а сам принялся подсчитывать стоимость проводки и подведения электричества. Мачнич добирался долго, и владелец дома грозил сдать его другому, кто заплатит живые деньги. 50 фунтов, присланные компаньонами, утихомирили лендлорда, потом явились сами Мачнич и Ребез, которых Джойс поселил в отеле «Финнз», где Нора когда-то была горничной.
Развивая проект Джойса, они отправились посмотреть Белфаст. Обход прошел не слишком удачно, хотя Джойс успел посмотреть знаменитые ткацкие фабрики и позвонить Уильяму Рейнольдсу, положившему его стихи на музыку. Мачнич и Ребез дождались Новака, намеченного в управляющие дублинским кинотеатром, и киномеханика-итальянца. Задержка произошла из-за того, что регистратор, выдающий лицензии, отсутствовал. Пришлось съездить в Корк, на этот раз по-деловому, без экскурсий, что огорчило Джойса. На нем была переписка – с половины пятого утра он рассылал срочную корреспонденцию в Триест, Лондон и Бухарест, а в семь они уже мчались под моросящим дождем в Найтсбридж, к поезду на Корк. Осмотр занял «пять жутких часов», затем они отправились в Дублин, куда и вернулись в одиннадцать вечера. Почти два месяца Джойс нанимал рабочих, заказывал мебель, сочинял афиши для открытия – а в промежутках, до трех ночи, писал роман.
20 декабря кинотеатр наконец открылся. Играл оркестр, публика аплодировала. Газеты были благожелательны, хотя репертуар первого сеанса был довольно странным: документальный фильм «Первый парижский приют для сирот», где показывали голых детей, французский фильм об отцеубийстве «Помпоньер» и «Трагическую историю Беатриче Ченчи», ренессансную историю об убийстве сестры братьями. Но показ прошел под аплодисменты. Репортаж «Ивнинг телеграф» был отправлен в Триест брату, чтобы он показал его Прециозо, а тому, в свою очередь, следовало написать об успешном прорыве триестинцев на мировой кинорынок и роли Джойса в этом предприятии.
Когда партнеры отбыли на родину, Джойс дождался получения лицензии и бросил синематограф на Новака, потому что задерживаться в Дублине не желал. Кроме того, у него была еще пара дел, коммерческий проект по импорту фейерверков, и старое предложение – агентство по импорту в Европу ирландских твидов ручной работы. На образцы Джойс прилично оделся и даже одарил кое-кого из триестских учеников.
В этот раз он повстречал мало знакомых. Столкнулся с Ричардом Бестом в кафе, с юным тогда Чарльзом Даффом, будущим автором книги «Джеймс Джойс для обычного читателя». Несколько раз виделся с Джорджем Робертсом, который намеревался успеть дать ему на просмотр гранки «Дублинцев», но не сумел, и вычитку пришлось отложить.
Поездки по делам «Вольты» были для Джойса не только сменой деятельности, но и новым эмоциональным и нравственным испытанием. В новой разлуке с Норой он вновь терзал себя и ее даже после их бурного примирения. К тому же перед отъездом она, не церемонясь, обозвала его «идиотом» за то, что он явился домой среди ночи и в соответствующем виде. За это Джойс наказывал ее ледяными открытками без писем. А потом обычный срыв. Письмо от 27 октября – поток ненависти к Ирландии и монолог об одиночестве и о том, как она вновь его предала:
«Не вижу ничего с любой стороны себя, кроме портрета священника, которому изменяют, слуг его и хитрой лживой женщины. Незачем мне приезжать сюда или оставаться тут. Если бы ты была со мной, я бы не страдал так.
…Я ревнив, одинок, недоволен и горделив. Почему ты не можешь быть со мной терпеливее и добрее? Тот вечер, когда мы вдвоем пошли на „Мадам Баттерфляй“, ты была со мной особенно груба. Я просто хотел послушать эту прекрасную и нежную музыку с тобой. Я хотел, чтобы ты почувствовала, как плывет душа твоя, подобно моей, в истоме и вожделении, когда героиня поет романс о надежде во втором акте, „Un bel di“: „Однажды, однажды увидим мы, как поднимается столб дыма над дальним краем моря; а потом появится корабль“… Потом другим вечером из кафе я пришел в твою постель и стал рассказывать обо всем, что надеюсь сделать и написать в будущем, о тех беспредельных амбициях, которые на самом деле и есть движущие силы моей жизни. Ты не слушала меня. Знаю, было поздно и ты устала за целый день. Но мужчине, мозг которого в огне, просто необходимо рассказать кому-нибудь о том, что он чувствует. Кому я мог рассказать, кроме тебя?»
В постели с врагом; чувствуй, как я, думай, как я, изнемогай, как я. Острие поединка с миром сходилось для Джойса в упрямой и дерзкой ирландке, оказавшейся частью всей его жизни. Но он заключал и перемирия, чаще всего в том же самом письме:
«Моя любовь к тебе – скорее обожание…»
Куда было Норе понять эти резкие перемены тона, настроения и отношения? Она отвечала, что несчастна, что боится – он устал от нее. Он утешал ее, писал и говорил, что не надо сомневаться в нем. Что если он напишет что-нибудь утонченное или благородное, то лишь потому, что слушал у врат ее сердца… Писал, что ищет для нее соболью шубу. Через пару дней соболь превратился в серую белку, отделанную синим атласом, но пока дела в «Вольте» шли не настолько хорошо, чтобы купить и это. Затем Джойс отослал ей несколько пар перчаток и двенадцать ярдов донегольского твида – из агентских образцов. Но самым необычным подарком стала рукопись «Камерной музыки»: не бумага, а специально обрезанный пергамент, индийские чернила, на обложке инициалы «Д. Д.» и «Н. Б.» каллиграфически сплетены в сложный вензель. «Ты маленькая грустная бедняжка, а я чертовски меланхоличный тип, поэтому наша любовь кажется мне такой печальной. Не плачь об этом усталом юном джентльмене на фотографии (это было последнее дублинское фото Джойса. – А. К.). Дорогая, он не стоит этого».
Нора, возможно, радовалась этим изысканным подаркам, но ей мешали кредиторы, счета и особенно домохозяин, некто Шольц, решительно отказывавшийся быть снисходительным… Станислаусу под угрозой немедленного выселения через суд пришлось заплатить целых два фунта – все, что у него было. Теперь настала его очередь давать телеграмму о присылке денег.
Джойсу и хотелось бы явить себя новым человеком, но как только весть о его деловых удачах разнеслась по Дублину, кредиторы стали в стойку. В списке тех, кто занимал и занял у него деньги, было около сорока человек. От некоторых Джойс спасался то в трамвае, то в пассажах. Тем не менее он цитировал слова Дидоны из «Энеиды»: «Non ignara mali miseris succurere disco» [67]67
Страданья изведав сама, знаю, как страдавшим помочь (лат.).
[Закрыть], которые в «Улиссе» произнесет уже как Стивен. К тому же возникла новая проблема: Джон Джойс после тяжелого конъюнктивита попал в больницу Джарвис-стрит, отчего все заботы о доме легли на Джеймса. Здешний домовладелец тоже грозился подать в суд и выселить их. Джойс иронично написал Станислаусу, что Рождество они встретят на улицах Дублина. Наскребя пяток шиллингов, он перевел их в Триест, а к Рождеству и Джойс-старший послал Норе несколько монет. Посылка с афишами «Вольты» должна была показать зловредному Шольцу и прочим кредиторам, что дела идут неплохо и им следует немного подождать.
Это помогло с кредиторами, но не с Норой. Ее душевное состояние ухудшалось. Она писала, что больше не может выносить разлуку пополам с угрозой выселения. Джойс ответил: «Ты пишешь, как королева. Пока я жив, буду помнить спокойное достоинство твоего письма, его печаль и презрение, и то крайнее унижение, которое испытал». Он предлагал ей оставить его, потому что он это заслужил – такое самобичевание одновременно делало его значительнее в собственных глазах. «Если ты оставишь меня, я буду вечно жить с памятью о тебе, святее, чем память о Боге. Я буду молиться во имя Твое». Однако Нора уже и сама взяла себя в руки. Следующие ее письма деликатнее и уравновешеннее. А Джойс пишет новое письмо, где говорит о ней в третьем лице, словно Рэли, обращающийся к Елизавете. Хотя речь о том, как он побывал в отеле «Финнз», устраивая своих партнеров:
«Очень ирландское место. Я так долго жил за границей и во стольких странах, что сразу чувствую голос Ирландии в чем угодно. Беспорядок на столе – ирландский, изумление на лицах – тоже, любопытные взгляды хозяйки и ее официантки. Чужая страна, несмотря на то, что я родился тут и ношу одно из ее древних имен… Бог мой, глаза полны слез! Почему я плачу? Потому, что так печально думать о ней, бродящей по комнатам, почти без еды, бедно одетой, простой и недоверчивой, всегда носящей в своем тайном сердце крохотное пламя, сжигающее тела и души мужчин… В ней я любил образ красоты мира, тайну и прелесть самой жизни, красоту и обреченность расы, породившей меня, образ духовной чистоты и жалости, в которые я верил мальчиком».
Ясно, что рождает лирику последних эпизодов «Портрета…»: «Тихая текучая радость разлилась в этих словах, где мягкие и долгие гласные беззвучно сталкивались, распадались, набегали одна на другую и струились, раскачивая белые колокольчики волн в немом переливе, немом перезвоне, в тихом замирающем крике; и он почувствовал, что то предсказание, которое он искал в круговом полете птиц и в бледном просторе неба над собой, спорхнуло с его сердца, как птица с башни, – стремительно и спокойно». Девочка на отмели становится для него образом всей прелести мира. В «Изгнанниках» лицо Берты – «цветок, но куда прекраснее. Дикий цветок, распустившийся в живой изгороди». В «Улиссе» Молли – «цветок с гор».
Джойс ликует по поводу очередного примирения. Письма – свидетельства того, как он разрывается между благоговением перед духовным обликом Норы и могучей плотской страстью. Снова он видит себя капризным ребенком, которого надо любить, но и наказывать обязательно надо. Эллман пишет о «стиле Верлена в тональности Мазоха». Он допытывается о мельчайших деталях ее встреч с молодыми людьми до него, при этом добавляя покаянно: «Господи помилуй, и ты можешь любить такую тварь, как я?..» Но и Нора писала ему письма пооткровеннее, чем Блум своей Марте Клиффорд.