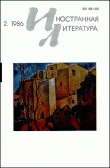Текст книги "Джойс"
Автор книги: Алан Кубатиев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 41 страниц)
Глава двадцать седьмая ТРИЕСТ, ОТЪЕЗД, ПАРИЖ
Одним из первых, кому Джойс сообщил о предстоящем возвращении, был, разумеется, Станислаус.
Радости по этому поводу он не выразил: более того, угрожал покинуть квартиру, если в нее ступит нога Джеймса. Он только начал обретать независимость и оправляться от лагерных впечатлений, и тут старые беды грозят вернуться вновь. Джеймс почти не писал ему во время войны, не сдержал обещания посвятить ему «Дублинцев», вычеркнул его из «Портрета художника в юности». То, что это было сделано из творческих соображений, делало ситуацию еще болезненнее. О том, что его ни разу не поблагодарили за непрестанную денежную поддержку, не стоило и говорить.
Но Джеймс и его семья решили, что им лучше остановиться в другом месте. Триест очень изменился, как и они. Гавань была почти пуста, старожилы боролись за жизнь и оплакивали добрые старые времена. Последняя квартира на виа Донато Браманте была реквизирована во время войны. К счастью, мебель и бумаги сохранились на складе. В город вернулись его сестра Эйлин с мужем Франтишеком Шауреком и двумя детьми. Они смогли позволить себе огромную, почти на целый этаж квартиру на виа Санита, где с ними поселился Станислаус. Франтишек получил прежнюю должность прокуриста в «Живностенска банка», а Станислаус быстро обзавелся учениками. Шаурек тоже мало радовался приезду шурина, но сестра быстро переубедила его. Станислаус уступил им свою комнату, перебравшись в меньшую. Мебель Джойса расставили по квартире, Джорджо и Лючия спали на жестких диванчиках, но в целом все было не так уж плохо. О деньгах старались не говорить; все знали, что Джойс перед отъездом из Цюриха уже заложил свои серебряные часы, и Нора, оставшись с Эйлин наедине, поблагодарила ее за жилье: «У нас не осталось ни пенса…» Эйлин посоветовала ей пока не говорить об этом ни с деверем, ни с Франтишеком. Ведь на этот раз бедность была не так несокрушима: письмо Пинкеру с просьбой аванса от Хюбша, быстро присланные деньги, и вот уже ждать нового транша от мисс Уивер гораздо легче, однако ее поддержка, даже после второго письма, не возобновилась.
Квартира была набита битком, но найти другую было невозможно – цены были фантастические. Про вечера с друзьями в кафе следовало забыть. Да и друзей вернуть оказалось непросто – они чувствовали, как изменился Джойс. Синьора Фанчини говорила: «Джойс стал теперь кем-то другим» – «Joyce non é piu quello». Сильвио Бенко, теперешний редактор «Пикколо делла сера», Арджо Орелл, триестинский поэт, сам Франчини и Джойс гораздо реже собирались теперь за вином и разговорами. С Джойсом было все труднее говорить: он безжалостно отметал то, что занимало его собеседников. Идеи, классификации, политическая терминология его больше не занимают – это преходящее. Интеллектуальный анархизм, материализм, рационализм – они и паука из паутины не прогонят. Но прежние интересы его не оставили. С Франчини они переходили с итальянского на латынь, Джойс декламировал целые куски из литургий, перемежая их забавными пародиями на триестино, французском, немецком, греческом и даже русском. Он распевал насмешливые песни, в том числе о бедном короле Викторе Эммануиле – «Он мал, он мал, но итальянец он!»
Этторе Шмиц, обрадованный встречей с Джойсом, слегка обиделся на скептическое замечание о психоанализе: «Что ж, если так надо, проще оставаться с религией». С ними часто бывали и его прежний ученик Оскар Шварц, и веселый художник Сильвестри.
Джойса узнавали на улицах еще и оттого, что одевался он по-прежнему – пиджак от одного костюма, брюки от другого. Но теперь к нему добавилось слишком короткое и слишком просторное пальто, опоясанное армейским ремнем. Шварц почтительно спросил его:
– Как прошли для вас годы войны, профессор?
Джойс ответил:
– Да, мне говорили, что в Европе идет война…
Сильвестри же он признался как-то раз, в ресторане «Дрезнер» на Пьяцца делла Борса, за ужином: «Сильвестри, я теперь богат». – «Тогда закажи мне свой портрет», – немедленно отреагировал Сильвестри. Джойс согласился, но оказалось, что он просто неспособен позировать – поза менялась то и дело. Сильвестри применил гениальный ход: поставил большое зеркало, отражавшее движения кисти, и Джойс теперь завороженно следил за работой. Портрет был написан, однако заплатил за него Джойс лишь год спустя.
Частных уроков он давать больше не собирался, но восстановился в Высшей коммерческой школе, которая преобразовалась в университет Триеста. Преподавал он час в день, шесть часов в неделю, но и это для него было невыносимо. Ученики вспоминали, что Джойс мог умолкнуть посреди урока и несколько минут сидеть с отсутствующим видом и загадочной улыбкой или смотреть на них, словно не видя, а руки его при этом делали странные жесты. Системы в его преподавании не было никакой. Заучивание он считал скучным, поэтому диктовал студентам множество слов, особенно названия всяких блюд и продуктов, утверждая, что это крайне важно. Кто-то из студентов робко поинтересовался, как долго нужно учить язык, и Джойс раздраженно ответил: «Я занимался итальянским пятнадцать лет и только начинаю овладевать им». Первое жалованье выплатили только через два месяца преподавания, поэтому Джойс не слишком усердствовал в экзаменах и всем студентам, кроме двух-трех самых настойчивых, поставил минимальный проходной балл.
Писать Джойсу было чрезвычайно трудно, и все же он не сдавался. Более того, он собирался закончить «Улисса» в 1920 году, но пока работал только над тринадцатым эпизодом, «Навсикаей», который в подробностях описывал Фрэнку Бадгену. У него возникает даже не совсем шутливый план запатентовать «новый стиль… полный дыма ладана, культа Девы Марии, онанизма, жареных устриц, палитр художников, трепотни, околичностей и т. п. и т. п.». Герти Макдауэлл ему пришлось писать при помощи кучи сентиментальных романов и новейшего песенника, присланного тетушкой Джозефиной. Но так как девичьему воображению Герти противопоставлена Блумова наблюдательность, изобилующая деталями, Джойс так же детально выясняет топографию, с помощью той же тетушки Джозефины высчитывая, есть ли за церковью Марии Звезды морей в Сэндимаунте деревья, которые видны с берега, и есть ли ступеньки на спуске от Лизи-террас.
«Навсикаю», как он писал выше, Джойс стремился закончить к своему дню рождения – и успел. Эзра Паунд отнес рукопись мисс Уивер, которая немедленно ее прочитала. На этот раз у нее не было никаких упреков; правда, Джойсу она написала, что у него совершенно медицинский подход к человеческой душе, что он даже не пытается ей польстить; так что он не священник и не врач – он и то и то: видимо, он «преподобный Джеймс Джойс, S.J., M.D.».
Польщенный Джойс слегка ерничает: «Было очень интересно прочесть то, что вы написали обо мне в последнем письме, потому что я трижды принимался изучать медицину, в Дублине, Париже и снова в Дублине. Я был бы куда опаснее для общества в целом, если бы продолжил, чем в моем теперешнем состоянии».
Не откладывая, он погружается в «Быков Гелиоса», который считает «самым трудным эпизодом всей одиссеи… как для толкования, так и для исполнения». Биографы и литературоведы любят упоминать, что перед глазами Джойс держал диаграмму с изображениями человеческого плода на всех стадиях развития, одновременно читая «Историю ритма английской прозы» Сейнтсбери. Сложную структуру эпизода он расчерчивал Бадгену в письме от 22 марта:
«Работаю изо всех сил над „Быками Гелиоса“, идея – преступление против плодородия через стерилизацию соития. Сцена – больница. Прием: девятичастный эпизод без разделений, с введением салюстиано-тацитова типа (неоплодотворенная яйцеклетка). Потом через самую раннюю английскую аллитерационную и моносиллабическую поэзию и англосаксов („Еще в лоне лежа и любовью людскою лелеемо“), затем в стиле Мандевилла… затем „Смерть Артура“ Мэлори („и Лене-хан магистр божился и клялся в том от него не отстати“), затем стиль елизаветинских хроник („в этот самый момент юный Стивен наполнил все кубки“), затем торжественный пассаж, по Мильтону, Тэйлору и Хукеру, оборачивающийся чеканной латинской сплетней в стиле Бертона или Брауна, затем вполне бэньяновский фрагмент („причиной было то, что он возлег с некоторой шлюхой, чье имя, по ее словам, было Птичка-в-Ручке“). Потом дневниковый слог Пеписа-Ивлина („Блум приятно заседал с ватагой бездельников, были там Диксон мл., Вин. Линч, Док Мэдден и Стивен Д.“) и так далее через Дефо – Свифта и Стила – Аддисона – Стерна, Лэндора – Пейтера– Ньюмэна, пока все не завершится жуткой перемесицей пиджин-инглиш, ниггер-инглиш, кокни, ирландского, жаргона Бауэри и ломаного раешника. Эта процессия также тонко связана с каждой частью с некоторыми предшествующими эпизодами дня и, кроме того, с естественными стадиями развития эмбриона и эволюции фауны в целом. Двухстопный англосаксонский мотив прорезается время от времени… чтобы создать ощущение бычьих копыт. Блум оборачивается spermatozoon, госпиталем чрева, нянькой при яйцеклетке, Стивен – эмбрионом. Ну как, впечатляет?»
Сложность схемы не должна скрывать того, что написанное Джойсом сложно лишь в части образа и исполнения. «Мысль для меня всегда проста», – писал он. Т. С. Элиот прочитал эпизод как изображение воскрешения английской прозы, «всех английских стилей», но дело скорее в том, что Джойс каталогизирует формы, в которых английская проза навсегда застыла, и безжалостно, тем самым пескоструйным аппаратом, с которым он себя уже сравнивал, сдирает с почтенных образцов глянец благоговейных касаний. В его рабочих записях есть хронометраж работы над «Быками» – тысяча часов. Призраки гигантских животных не покидали его, он говорил, что чувствует себя как сотоварищи Одиссея, пожиравшие священных зверей, но в отличие от них понимал, что он делает. Его буквально тошнило за едой. С невероятным облегчением Джойс писал Бадгену 18 мая: «Быки гадского паскудного Гелиоса закончены». Мисс Уивер написала ему полушутя: «Я думаю, эпизод можно назвать „Гадес“ – чтение его будет равно спуску по кругам ада». Он тут же спрашивает ее: не напоминает ли эпизод Гадес-Аид потому, что он так же развивается по девяти кругам, располагаясь между началом хаоса бытия и началом хаоса небытия? Мисс Уивер имела в виду совсем не это и в очередной раз попросила его не обращать внимания на все ее комментарии.
В переписке Джойса не прекращаются просьбы к Бадгену приехать – ему обещают студию Сильвестри, потом комнату в квартире Шауреков, учеников за шесть, семь и даже десять лир в час. «Ты увидишь МЕНЯ, – величаво обещал он. – Ты будешь слушать (покуда не стошнит) проклятых быков проклятого Гелиоса. ЗАПАСИСЬ ЭНЕРГИЕЙ!» Но Бадген, даже искушаясь, предвидел, что Триест для него как для художника – топь и что лучше уж вернуться в Англию, например, в Корнуолл, где он вырос. Поэтому Джойс опять задумался о возможности каникул в Уэльсе, Ирландии или в том же Корнуолле. Ему хотелось повидать отца. Кто-то из друзей семьи писал ему: отец считает, что один лишь Джеймс заботится о нем и верит в него и что все его мысли о сыне – увидеться, прежде чем он, отец, умрет.
Джойс и так не хотел оставаться на лето в Триесте, но в Ирландии дрались – патриоты с черно-коричневыми, – и надежды на скорое перемирие не было никакой. Но тут Эзра Паунд вторично подтолкнул вперед его литературную карьеру.
В начале мая он был в Венеции и предложил встретиться в Триесте. Джойс был готов, но внезапно заболела жена Паунда, и ему пришлось увезти ее на Лаго ди Гарда, где климат был благоприятнее, и позвать туда же Джойса. Тот было собрался, но железнодорожная катастрофа заставила его в очередной раз личное присутствие заменить перепиской.
«Виа Санита, 2,
Триест,
5 июня 1920 г.
Дорогой Паунд: я уже отправился на вокзал, чтобы уехать утренним поездом в 7.30. Но когда я туда прибыл, мне сказали, что пассажирский поезд, отбывший несколько часов назад, столкнулся с другим. По счастью, меня на нем не было. Мне также поведали, что экспресс 7.30 „Триест – Париж“ отменен из-за забастовки. Есть два поезда, между Триестом и Десенцано, один приходит в „ведьмин час“, 23.30. Второй в пять, идущий, точнее, ползущий всю ночь и прибывающий в шесть утра. Для меня это невозможно.
Теперь я намерен пропутешествовать по этой линии, как можно скорее отправляясь в Англию и Ирландию, но думаю, что сейчас уезжать невыгодно. Полагаю, что около 12 июня вы приедете в Лондон. В этом случае мы, надеюсь, встретимся. Единственная причина, по которой я принял ваше щедрое приглашение в Сирмионе, была встреча с вами. Но для вас это обернется большими расходами. И для меня, если я поеду вторым классом. А о состоянии дороги можете судить сами.
Мои доводы за путешествие севером таковы. Мне нужен длительный отдых (это означает не прекращение работы над „Улиссом“, но покой, в котором я смогу его закончить) и не здесь. Не говоря ничего об этом городе (De mortuis nil nisi bonum [117]117
О мертвых ничего, кроме хорошего (лат.).
[Закрыть]), положение мое тут за последние семь месяцев было крайне скверное. Я живу в квартире с одиннадцатью другими людьми и с чрезвычайным трудом обеспечиваю время и покой для того, чтобы написать две главы. Вторая причина – одежда. У меня ее нет и купить нечего. Другие члены семьи пока обеспечены хорошим платьем, купленным в Швейцарии. Я ношу ботинки моего сына (которые велики на два размера), и его же едва не выброшенный костюм, узкий в плечах, прочие вещи или моего брата, или свояка. Здесь я ничего не смогу купить. Пиджачная пара, сказали мне, стоит 600–800 франков. Рубашка – 35 франков. На то, что у меня есть, я могу прожить, но не больше. С тех пор, как я тут, я не обменялся с другими и сотней слов. Большая часть моего времени проходит между двумя кроватями, окруженными горами заметок. Я выхожу из дома в 12.22 и прохожу то же самое расстояние по тем же улицам, чтобы купить „Дейли мейл“, которую читают мой брат и моя жена, и возвращаюсь. То же самое вечером. Однажды меня соблазняли театром. Другой раз приглашали на публичный обед, как профессора здешней Scuola Superiore, а на следующий день послали просьбу подпираться на итальянский военный займ на 20 тысяч, 10 тысяч или хотя бы на 500. Мне надо обзавестись одеждой, поэтому я думаю, что должен поехать в Дублин и купить ее там.
Третье: мои двое детей не спали в кровати с тех пор, как мы здесь. Они укладываются на жесткий диван, и климат с июля по сентябрь здесь очень сложный.
Четвертое: курс меняется сам по себе. Когда фунт (я имею в виду другой фунт, английский, а не американский) [118]118
Каламбур: фунт (pound) пишется также, как фамилия Паунд.
[Закрыть]держится на 100 или 90, я могу справиться с ценами, потому что мои деньги в английской валюте. Сегодня фунт на 62, и мой свояк (он кассир здешнего банка) говорит, что он катится вниз благодаря всяким коммерческим уловкам и тому, что никто ничего не покупает по таким высоким ценам. Если он упадет до 50-ти, я не продержусь, но утону. Вернувшись в Швейцарию, я все равно бы не смог содержать там семью; кроме того, я ненавижу возвращаться. Цены тут в восемь – десять раз выше, чем в 1914-м.
Я мог бы давать тут уроки (многие люди ожидали этого от меня), но не буду. У меня есть должность в школе, которую правительство подняло до университета. Мне платят около трех шиллингов в час за шесть часов в неделю. Считаю это тратой моего времени и нервов.
Я не могу найти тут квартиру. Чтобы найти, в руке нужно держать чек на 20–30 тысяч лир аванса. Поэтому я предполагаю провести три месяца в Ирландии, чтобы написать „Цирцею“ и закончить книгу. Сюда я вернусь с семьей в октябре (если нам в промежутке кто-нибудь подыщет квартиру) или без них, чтобы дописать конец…»
Письмо похоже на монолог из абсурдистской пьесы – как, впрочем, и многие из тех, где Джойс перечисляет свои нескончаемые неудачи. Едва прибыв в Триест, увязнув в проблемах, он уже просчитывает дорогостоящее путешествие для всего своего семейства в Англию и Ирландию вроде бы для того, чтобы подешевле приодеть себя и свою семью. Но из всего, что уже известно о Джойсе, вырастает уверенность, что тянет его туда собственный Wanderlust [119]119
Жажда странствий (нем.).
[Закрыть]. Кстати, письмо умиротворяет и его самого настолько, что он прибавляет иронический постскриптум:
«Послание очень поэтичное. Не подумайте, что это тонко вербализованное прошение о ношеной одежде. Его следует читать вечером, когда озерная вода поплескивает и очень ритмично».
Паунд ответил из Сирмионе очень сочувственным письмом. Они ждали его до восьми вечера, не садясь ужинать, а Паунд приготовил торжественную речь, где Джойсу предлагались или ужин, или визит в баню. Затем случилась ночная гроза, настолько бурная, словно Вулкан-Дедалус и вправду добрался до Италии. Джойсу предлагается пожить в Сирмионе, а одежду купить в Вероне, где она дешевле, чем в Лондоне. Рассказ о ночной грозе, чего не знал Паунд, мог отвратить Джойса от поездки, но он пересилил себя, понимая, что эта встреча будет очень значимой. Мисс Уивер он написал: «Несмотря на мой ужас перед грозами и отвращением к путешествиям, я еду, прихватив с собой сына в качестве громоотвода».
Когда он приехал к Паунду 8 июня, то первый вопрос, который задал хозяину, был – кто его таинственный благодетель? Но Паунд не смог или не захотел ответить. Потом они обсудили ситуацию Джойса в деталях и пришли к выводу, что Джойсу необходимо пару дней побыть в Париже, осмотреться и, если получится, обсудить возможность перевода на французский «Портрета…», а может, и «Дублинцев». Паунд собирался поехать первым и подготовить почву. Затем состоялось вручение одежды и обуви, описанное Джойсом в лимерике: «Бард в омываемом озером Сирмионе / Жил в покое и кушал мед и акрид, / Пока не появился сукин сын / И не оставил его на берегу озера / Без одежды, ботинок, времени, покоя и денег». Всё оказалось мал о , но костюм Джойс носил в Париже.
Паунду он очень понравился: «Под маской сварливого ирландца, упрямого, как мул или ирландец», как он писал, жил человек, написавший «Камерную музыку». Его нельзя было сравнить ни с кем; даже Йетсу не хватало той степени концентрации и поглощенности, которая была нужна для «Улисса». Упрямство Джойса импонировало Паунду – оно помогало не отрываться от настоящей работы ради статеек и журнальной поденщины. Джойс выглядел изможденным, но достаточно крепким, и уверенно выздоравливал после операций.
Вернувшись в Триест, Джойс уже всерьез начал обдумывать переселение. Он по-прежнему собирался в Лондон после двух-трех недель в Париже, и семейство начинало вновь паковать чемоданы со всеми ирландско-итальянскими воплями и ссорами, а Джойс деликатно истребовал назад свою рукопись, некогда подаренную миссис Маккормик, и договаривался с Джоном Куинном о ее продаже. Прошение об отставке руководству университета он уже подал и попросил передать его должность Станислаусу. С Франчини, Бенко, Шмицем, Сильвестри он попрощался, но всегда оставался с ними в переписке. Правда, однажды он едва не поссорился с Франчини, который прочитал залихватскую лекцию «Джойс обнажается на публике». Развенчивая Джойса, он умудрился в конце даже помолиться во спасение его души. Собственно, это был скорее эффектный ход, и Джойс мог бы оценить его как художник, однако он предпочел обидеться.
Проводить Джойса пришли Шауреки, а обиженный в очередной раз Станислаус отказался. Потом в письме он извинился за это, а Джеймс по-братски его простил. «Внимательное чтение моих невинных страниц есть единственный устранитель иллюзий, который оправдает вложенные в меня деньги». По сути, это конец их близости. Они переписывались, но Джойс едва терпел постоянную критику братом его последующих вещей. Конечно, быть братом Джойса – нелегкое состояние, но и Джойсу было нелегко; он был порывист и капризен, а Станислаус пунктуален и зануден. Вода и камень, стихи и проза, лед и пламень. Эллман считает, что и в этом они были зеркальны: легкомыслие Джеймса было внешним, при нужде оно легко сменялось упорством и суровостью, а твердость и самодисциплина Станислауса были защитой оттого, что казалось ему пороками старшего брата. Он не забывал унижений, которые вытерпел вольно или невольно от Джеймса в Триесте. Но помнил и о том, что в конечном счете из-за его настойчивости сменил дублинскую безвестность на педагогическую карьеру и жизнь интеллектуала-космополита. Долг оказался красен платежом, и с высокими процентами.
Два дня они провели в Венеции, потом остановились в Милане повидаться с Карло Линати, переводившим «Изгнанников», потом через Швейцарию перебрались в Дижон, где провели сутки, а 8 июля они наконец в Париже, где немедленно были взяты в опеку Эзрой Паундом. Сам он жил в «Отель Элизе», на рю де Бон, 9, а их на время устроил неподалеку, в маленькой гостинице, растрогавшей Джойса сходством с дублинскими. В Париж он приехал на неделю, а остался почти до конца жизни.