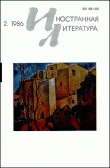Текст книги "Джойс"
Автор книги: Алан Кубатиев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 41 страниц)
Глава пятнадцатая ОРАТОР, ЖУРНАЛИСТ, ПОЭТ
Первые годы вдали от Ирландии Джойс как будто оттачивал способность падать от любого толчка и превращать любое мелкое осложнение в сокрушительную катастрофу. Никто не осмеливался предположить для Джойса оптимистического будущего; он словно делал все, чтобы оправдывать худшие прогнозы. Однако в «Улиссе» Блум, пронаблюдав, как Стивен Дедалус попадает в одну за другой в любые возможные передряги, выносит неожиданный вердикт: «Уверенность в себе, равные и противоположные силы саморасточения и самососредоточения».
В Триесте его не ждало ничего хорошего. Станислаус несколько раз писал ему, что в школе Берлица его даже не хотят видеть, Артифони ему помогать не собирается, да и он, родной брат, вот-вот сорвется из-за постоянных требований денежной помощи. Но Джойсу как будто не было до этого ни малейшего дела. Он словно не замечал бедности и падений, в которой тонула его жизнь. Какие-то литературные боги хранили его там, где другие, куда более благополучные, погибали. Именно такое чудо случилось в Триесте.
7 марта 1907 года Станислаус, встревоженный двумя подряд телеграммами, что его брат возвращается в Триест ночным поездом вместо дешевого каботажного пароходика, помчался на вокзал. Он упустил Джеймса, и тот нашел его сам – изрядно пьяный, заносчивый и требовательный. В кармане у Джеймса была одна лира – десять пенсов или около того, что было определенным прогрессом: когда Стэнни приехал в Триест, брат встречал его с одним чентезимо. Джеймс совершенно в манере будущих «Поминок…» сказал: «Мы в дыре. Сделай что-нибудь. Найди». Стэнни принялся объяснять, что все очень плохо, что этим летом ни у кого не было уроков, но Джеймс рассмеялся и сказал: «У меня есть ты!» Эллман замечает, что если бы Станислауса не существовало, Джойс бы выдумал кого-нибудь вроде. Но тут Джойс почувствовал, что брат не верит в его способность выворачиваться из трудных положений, и начал творить чудеса.
Франчини, которому он был изрядно должен, тем не менее приютил его у себя на несколько дней. Артифони был ни к чему второй преподаватель английского, но еще меньше ему нужен был независимый конкурент, оттягивающий клиентуру – особенно престижную, вроде графа Сордина, барона Ралли, того же Роберто Прециозо, который был предан прежнему учителю. Поэтому Джойсу предложили пятнадцать крон в неделю, за шесть часов преподавания, и он мгновенно согласился: это куда лучше, чем протирать штаны в банке, а перед натиском его попрошайничества пал даже Артифони. Работа выглядела сомнительной и недооплачиваемой, но пока Джойса это не волновало. Все его прежние ученики были рады ему, Прециозо тут же заказал ему серию статей о том, что такое империя для Ирландии. Читатели «Пикколо делла сера» обречены были сделать вывод, что мерзости империи в Триесте и Дублине одинаковы. А Прециозо пообещал ему заплатить по особой ставке – он же оказался чем-то вроде иностранного корреспондента.
Джойс, польщенный возможностью продемонстрировать свой изысканный итальянский, первую статью сделал уже через неделю, вторую в середине мая, третью в сентябре. «Я вряд ли Иисус Христос, как я когда-то сладко мечтал, но думаю, что талант к журналистике у меня все же есть», – говорил он Станислаусу. В начале «Улисса» Стивен говорит, что, как ирландец, он служит двум господам – английскому и итальянскому языку. Но Британской империи и Ватикану в первых двух статьях приходится очень несладко. Третья, «Ирландия у черты», появилась через четыре месяца, и в ней досталось уже ирландцам – за то, что они воюют сами с собой, а не с английским угнетением. Газеты Англии писали о так называемых «актах аграрного терроризма», когда судили крестьян, не способных объясниться по-английски, а суд и ленивые переводчики не пытались даже вникнуть в их объяснения и честно пересказать случившееся. «Фигура косноязычного старика, обломка не нашей цивилизации, глухого и немого перед своим судьей, – вот символ Ирландии у черты общественного мнения». Аграрные преступления, хотя и нечастые, были актами последнего отчаяния. Что бы ни старались выставить читателю британские журналисты, Ирландия не была страной дикарей и хулиганов, пусть даже само это слово тамошнего происхождения.
Очерки Джойса сделали ему некоторое имя, во всяком случае в Триесте. Ученик Джойса, «дотторе» Аттилио Тамаро, впоследствии автор националистической истории Триеста, предложил ему три публичные лекции об Ирландии в Народном университете. Джойс немедленно согласился. Первая лекция, 27 апреля 1907 года, называлась «Ирландия, остров святых и мудрецов»; Джойс и так редко говорил экспромтом, но тут он из боязни ошибок написал и тщательно выправил полный текст лекции на итальянском.
Лекция оказалась неожиданно менее жесткой, чем от него ждали. Собственно, так Ирландию вполне заслуженно именовали еще в Средние века, поэтому Джойс делал акцент на том, что британское владычество растлило народ, извратив его лучшие качества, отшлифованные неустанным духовным трудом: «Преобладающие экономические и политические условия не позволяют развиваться индивидууму. Душа страны ослаблена бесполезной борьбой и нарушенными договорами, индивидуальная инициатива парализована влиянием и ограничениями церкви, тогда как тело сковано полицией, налоговым ведомством и армией. Никто, обладающий самоуважением, не остается в Ирландии, но бежит оттуда, как будто страна вот-вот переживет пришествие Юпитера гневного…» Джойс не кровожаден, однако попов и королей Ирландии не надо: «Может быть, со временем начнется постепенное пробуждение ирландского сознания, и может быть, после четырех-пяти столетий пребывания пищей для червей мы увидим, как ирландский монах отшвыривает прочь рясу, сбегает с монахиней и громко провозглашает конец согласованному бреду, который был католицизмом, и начало бреду несогласованному, которым является протестантизм».
Надежд на немедленное устранение британской власти он не питает: «Ирландии достаточно двусмысленностей и взаимного непонимания. Если она хочет поставить пьесу, которой мы так долго ждали, то пусть на этот раз она будет цельной, законченной и определенной. Ирландским постановщикам стоит посоветовать то же, что советовали не так давно нашим отцам – торопитесь!.. Уверен, что по крайней мере я никогда не увижу, как взовьется занавес, потому что уже отбыл с последним поездом».
Озвучивание своего неприятия ирландских несуразиц, как ни странно, помогло ему сохранять накаленно-живую связь с родиной. То, что отозвался отец, его только обрадовало. Джон Джойс шумно возмущался побегом сына с невенчанной женой, но постепенно ощутил, насколько приятнее прощать. Еще в Риме он поздравил сына с Рождеством и, чтобы закрепить отношения, попросил фунт на праздники. Фунта у сына не нашлось, и вечно дающему Станислаусу пришлось раскошелиться еще и на отца – понятно, выслав фунт в Рим, чтобы Джеймс мог послать его в Дублин… Они обменялись гордо-ворчливыми и ирландски-красноречивыми письмами, и здесь Джеймс уже сам по мелочи наскреб фунт, чтобы подтвердить свою сыновнюю снисходительность: это было крайне важно для него.
И тут вышла первая настоящая книга Джеймса Джойса.
В конце марта из Рима в Триест пришла посылка, отправленная Элкином Мэтьюсом из Англии. Там были гранки «Камерной музыки». Джойс тщательно выправил их и отослал обратно, а потом вдруг заволновался о качестве стихов. Станислаус вспоминает, что в начале апреля Джеймс не шутя собрался на почту, давать Мэтьюсу телеграмму об отказе издавать книгу. Брату стихи нравились, он долго отговаривал автора, но тот был неумолим. Стихи были о любви, а он, Джеймс Джойс, никогда любви не знал. Никаких подделок, литература и без него изолгалась! Наконец Стэнни убедил Джеймса все же издать книгу. Даже если она – ложь, то потом он сможет опубликовать правду. Время показало, что, как в известном анекдоте, Джеймс был тоже прав: «Камерная музыка» все больше выцветает на фоне остальных его книг.
Артур Саймонс сдержал слово и опубликовал рецензию в майском номере «Нэйшн». Там написано, что это чистая поэзия, не принадлежащая ни к одной школе, каждое стихотворение – «миг остановленной вечности». Стихи тонки и музыкальны, однако «несут то и дело возникающий укол прозы, как у Рочестера, придающий чувственности оттенок язвительности».
Дублинские друзья обошли сборник почти полным молчанием – откликнулись лишь Томас Кеттл в «Фрименз джорнел», Артур Клери в «Лидер» да какой-то несуразный аноним. Почти двадцать лет эти отзывы оставались единственными упоминаниями о нем в дублинской прессе.
Денег ему книга не принесла – роялти выплачивались только после продажи трех сотен экземпляров, а к июлю 1908 года из тиража в 507 экземпляров разошлось только 127. Правда, стихи уже ложились на музыку, ими заинтересовались такие известные тогда музыканты, как Джеффри Молино Палмер, написавший музыку к 32 из 36 его стихотворений. Собственно, Палмер вернул Джойсу высокую оценку стихов и стал одним из очень немногих, кому Джойс был благодарен; когда еще совсем молодого Палмера начинает мучить рассеянный склероз, Джойс поддерживает с ним связь и часто пишет ему.
Первая скромная удача не улучшила и его отношения к Триесту – его снова терзало разочарование. Не удалось убедить «Коррьере делла сера» послать его корреспондентом в Дублин, на выставку; в июле он пишет в Колонизационное общество Южной Африки, но и там нет вакансий. Ему было все равно куда уезжать, в Индию или Белуджистан. Сам факт, что это невозможно, болезненно раздражал. К тому же у него начались приступы ревматизма, обострившиеся в середине лета. Вполне возможно, что это были последствия романтических ночлегов в римских и триестских канавах. Пришлось лечь в больницу и пролежать там до сентября. Джойс рассказывал биографам, что Норе приходилось брать стирку, чтобы прожить, но Станислаус куда достовернее описывает, как снова тащил семью на себе. Артифони даже навестил Джеймса и пообещал оплатить больничные счета, однако списать долги, в которые залез Станислаус, отказался. Через несколько дней после госпитализации мужа у Норы начались схватки, ее пришлось везти в ту же больницу, и 26 июля 1907 года в палате для бедных, «почти на улице», говорила Нора, появился второй ребенок Джойса – девочка. Назвали ее Лючией, но так как был день святой Анны и мать Норы тоже звали Анной, она получила и второе имя. При выписке Норе выдали 20 крон – на бедность.
Девочка войдет в жизнь Джойса так глубоко, как он и представить себе не мог. Но первые дни ее жизни были тяжелы для всех – больной Джойс, разозленный Стэнни, едва оправившаяся Нора, кормившая непрерывно вопящую Лючию, и совершенно неугомонный Джорджо. Когда отец семейства выписался, в школе были два новых преподавателя, немец и француз, и Станислаусу категорически отказали в авансах. Джойс тут же решил оставить Берлиц и уволился без всякого предупреждения. Теперь он полностью ушел в частное преподавание, брал по 10 крон за урок (Артифони платил три), и Станислаусу приходилось трудно еще и здесь – он не мог уйти из-за долгов и щепетильности. Когда у него спрашивали адрес замечательного преподавателя, синьора Джакомо, он печально отвечал, что, как сотрудник школы Берлица, не имеет права говорить… Правда, в сентябре – октябре у Джойса было всего трое учеников, и пришлось сильно сократить расходы, до того как Стэнни отработает долги.
Но тут на помощь решил прийти Оливер Гогарти, который, как врач, очень озаботился известием о ревматизме Джойса. Перевод на фунт стерлингов был первым подспорьем, а осенью Гогарти приехал в Вену закончить медицинское образование и оттуда написал Джойсу. Ответ был неожиданно дружеским, и 1 декабря Гогарти пригласил его с собой в Афины и Венецию, потом на неделю в Вену, а затем вообще предложил поселиться там. В этом городе его уже ждали ученики. Джойс долго обдумывал предложение, но уступил доводам брата и отказался. Силы понемногу возвращались, и Джойс работал над рукописями. Болезнь часто дает возможность подумать и накопить нетерпение. Он педантично расписал свою литературную жизнь на несколько лет вперед. «Мертвые» были почти закончены, и финал с его усталостью, опустошенностью, тоской в немалой мере окрашен недугом автора. После этого он собрался полностью переписать «Стивена-героя», убрав первые главы, и начать с того, как герой по имени Дали идет в школу; вся книга должна была уместиться в пять длинных глав. Тут Джойс наконец нащупал всю конструкцию книги. В конце ноября он переписал начисто первую главу и до апреля 1908 года завершил третью.
Его проза стала насыщенной и сосредоточенной – в «Стивене-герое» он грешил многословием. Работа оказалась затягивающе новой для самого автора, он нащупывает стиль, какого в ирландской литературе прежде не было, но одновременно тягостно уверен, что никогда эту книгу не издаст. Уже тогда Джойс предвидел обвинения в непристойности и даже судебное преследование.
В конце осени его дневники и заметки все чаще несут следы обдумывания замысла, который станет «Улиссом». Собственно, рассказ уже был придуман и продуман, и все же Джойсу хотелось написать ирландского «Пер Понта». Станислаус в разговоре предложил сделать из романа комедию – в средневековом, дантовском смысле, но Джойс отказался. Что он, собственно, имел в виду и какого Пера Понта он хотел создать – остается неясным. Затем является другая ремарка – об ирландском Фаусте. Разговор опять заходит об автобиографии, и Джойс взрывается, когда ему говорят, что автобиография писателя должна говорить о его психологии: «Психологи! Как может знать человек о том, что происходит в его собственной голове?»
Все это – беседы, ссоры, обсуждения, саркастические разборы ирландской и прочей книжной продукции – было верхушечной частью непредставимо гигантской работы, кипевшей в Джойсе трезвом и пьяном, больном и здоровом, пишущем, читающем, преподающем. Трудно представить таким тиглем банального молодого человека в шляпе и очках, угрюмо торопившегося на очередной урок. Бурлившее в тигле оказалось неслыханным сплавом изо всего, что возможно в человеческой жизни.
Разговоры о романе сплетались чаще на основе драмы, чем на прозаическом фундаменте. Джойс часто бывает в театре. Франчини, рецензентствовавший для «Коррьере делла сера», снабжал его контрамарками. Ему посчастливилось видеть Элеонору Дузе в «Привидениях» Ибсена, и он восторженно сравнивал ее с ролью в «Мертвом городе» д’Аннунцио, виденном в Лондоне еще восемь лет назад. «Там, дома, и представить не могут, что бывают такие актеры!» – кричал он на весь театральный зал, глядя на Эрмете Дзаккони в «Нахлебнике» Тургенева. Триестинцы даже любовались его бушеваниями. Театр не поменял его отношения к Шекспиру. Ранее Джойс отвергал «Макбета» с его фантастикой и несообразностями, теперь он принялся за «Гамлета». В Триесте гастролировал Томмазо Сальвини, и даже его могучая трактовка Гамлета вызывает ярость у Джойса. Ему претит, что безумие Офелии лишает силы всю историю датского принца, сентиментализируя ее, что мерзость Клавдия, укрепляющая ненависть Гамлета, никак не рисуется драматически и принимается скорее на веру. Нет, утверждает он, Ибсен куда лучше – он хотя бы настаивает, что мы живем в бесконечном повторении одной и той же драмы и четыре-пять персонажей исчерпывают ее целиком. Эллман замечает, что, как многие большие художники, Джойс искал у других больших художников главным образом подтверждения своей духовной истории.
Подтверждением было и то, что театр «Эбби» все воевал против Синга. Но если поначалу Джойс злорадствовал, видя, как запутались Йетс и его соратники, то сейчас он с небывалой скромностью признает: «Искусство Синга куда оригинальнее моего». Перечитав в 1908-м «Скачущих к морю», он уговорил своего приятеля и ученика Никколо Видаковича помочь перевести эту вещь на итальянский. Будущим переводом заинтересовался талантливый актер и продюсер Альфредо Сайнати из итальянской компании «Гран гиньоль», и все бы хорошо, но Синг умер в 1909 году, а наследники почему-то не дали согласия.
Срывались и другие проекты. Издание «Камерной музыки» никак не отразилось на «Дублинцах»: в ноябре 1907 года Элкин Мэтьюс отверг второй вариант рукописи, но предложил ее дублинскому издательству «Маунсел и К°». Исполнительным директором его был старый приятель и кредитор Джойса, Джордж Робертс, который еще в 1905-м собирался издавать юного гения, но популярное английское издательство было, разумеется, куда лучше провинциального ирландского, да и читатели там были другие. Джойс написал в «Хатчинсон и К°», но там посоветовали даже не ходить на почту. Издательство «Олстон Риверс» отклонило ее в феврале 1908-го, «Эдвин Арнольд» – в июле. Джозеф Хоун, главный редактор «Маунсел», официально предложил ему прислать рукопись, но Джойс тянул с отправкой до следующего года.
Житейские проблемы бодро смешивались с творческими. Снова потребовалась квартира. От Франчини семья перебралась в комнаты по соседству, куда ради экономии переехал и Станислаус… Неудобства были тоже традиционные – чтобы попасть к себе, Джеймс и Нора проходили через комнату Стэнни. Когда Джеймс, шатаясь, возвращался из кафе, то непременно будил брата, который тут же закатывал ему жестокий скандал. «Ты что, хочешь ослепнуть?! – кричал он. – Хочешь болтаться с собакой-поводырем?!» Из следующей комнаты откликалась Нора: «Да, иди и напейся! Это все, на что ты способен. Говорил мне Косгрейв, что ты псих. Клянусь, что завтра же твои дети будут окрещены!» Такой угрозы Джойс вынести не мог даже пьяный. Ярость брата, презрение жены и собственный страх, что алкоголь усугубит проблемы со зрением, начавшиеся после приступа ревматизма, заставили его 12 февраля 1908 года торжественно отказаться от спиртного. Нельзя сказать, что Джойс безупречно держал слово. Британские военные моряки пригласили компатриотов на линкор, щедро угостили и Джойса вернули домой в полной бессознательности. Но в мае он перенес сильное воспаление радужной оболочки, напугавшее его так, что он бросил пить надолго.
Зато нашлась квартира: просторная, на втором этаже дома 8 на виа Скусса, но за нее потребовали залог в 25 фунтов стерлингов. Ученик по имени Этторе Шмиц предложил ему 200 крон, все, что у него было, ученик-грек, торговец фруктами, тоже собрался помочь, но у Станислауса был богатый клиент, часто предлагавший помощь, и в этот раз Джеймс вынудил брата принять 600 крон от его щедрот. Но их не выпускала квартирохозяйка, требовавшая уплатить долг или отдать взамен мебель. Нора со всеми этими треволнениями выкинула трехмесячный плод, что ее не слишком огорчило, однако Джойс долго и внимательно рассматривал мертвый эмбрион, которого воскресит в тоске Блума по Руди, потерянному сыну.
Учеников летом практически не было, и Джойсу пришлось задуматься о других способах заработать на жизнь – он предложил себя фирме знаменитых донеголских твидов в качестве комиссионера в Триесте, снова начал заниматься вокалом. Решил искать вакансию на государственной службе. Всерьез обсуждал со Станислаусом шансы получить в Королевском университете трехлетнюю стипендию по итальянской литературе. Тем временем что-то начало получаться с намерением Джойса отослать Джорджо и Станислауса на лето 1909 года в Дублин. Маргарет, ведущей дом отца, он пообещал оплатить дорогу брата и сына, а также их содержание. В конце письма он благодарит сестру за вопрос о здоровье и пишет, что ревматизм отступил и теперь он больше напоминает заглавное «S», чем заглавное «Z». Станислаус в ответ на предложение спросил, почему с Джорджо должен ехать не отец, а дядя.
Осенью 1908-го переезд на новую квартиру едва не сорвался – Джойс застрял между старой хозяйкой и новой, да еще Станислаус не выдержал и устроил скандал. Джойс хотел, чтобы он не торопился возвращать 400 крон, взятые у ученика, а брат решительно отказался злоупотреблять доверием благодетеля. Тогда разъярился Джеймс и предложил ему убираться, что и было сделано с криками и грохотом. Стэнни отыскал квартиру на виа Нуова, 27, куда затем явился Джеймс – извиниться и признать, что они с Норой погорячились… Примирение состоялось, но проживание осталось раздельным.
В марте 1909 года они наконец переехали. Станислаусу тоже вышло воздаяние: Артифони предложил ему занять место исполняющего обязанности директора «Скуола Берлиц», потому что прежний завалил всю работу. Мученичество Станислауса возобновилось: работа была тяжелой и прибавка в четыре фунта не делала ее привлекательнее. Впрочем, Триест ему все равно нравился. А вот Джеймса он разъярял, и прежде всего потому, что он связывал город и свое затянувшееся неписание. Три первые главы «Портрета…» лежали в папке, пятнадцать первых лет жизни и вспышка благочестия были описаны, дальше все было намного сложнее, и писать об этом надо было не теряя, важным и смыслонесущим казалось всё.
На помощь пришел один из учеников, упомянутый ранее Этторе Шмиц, сорокавосьмилетний тогда, успешный менеджер компании, производившей антикоррозийную краску для судов, имевшей фабрики в Триесте, Мурано, Вене, Риге и даже в Лондоне. Из-за лондонских контактов Шмиц решил заниматься английским и познакомился с Джойсом. Его жена Ливия тоже решила брать уроки. В конце 1907 года Джойс прочел им только что законченных «Мертвых». Синьора Ливия, которую считают одним из прототипов Анны Ливии Плюра-бель, в восхищении собрала в саду их виллы букет цветов и подарила их Джойсу. А сам Шмиц признался, что поглощен литературой, и даже напечатал два романа, полностью провалившихся у публики. Первый, «Одна жизнь», под псевдонимом Этторе Самильи, а второй, «Дряхлость», под именем Итало Звево. Этот псевдоним намекал на его происхождение от отца, австрийского немца, и матери, итальянской еврейки; он означал на диалекте «италонемец». Но сам он говорил, что выбрал его из жалости к «одинокой гласной, окруженной шестью согласными в имени Шмиц». Джойс попросил оба романа и унес их с собой, скорее из вежливости и ядовитого любопытства, чем из подлинного интереса. Но его ждало открытие. Шмиц оказался талантлив. Мягкая и печальная ирония, совершенно отличная от джойсовской, но прекрасно выписанная, достоверно переданный триестинский колорит, имена-фамилии и словечки на арго. То, что так заинтересовало Джойса, возмущало итальянских критиков-пуристов. Когда на следующий урок он возвращал книги Шмицу, то поинтересовался:
– Вам известно, что вы писатель, которым незаслуженно пренебрегли? В «Дряхлости» есть куски, которых не улучшить даже Анатолю Франсу.
Потрясенный Шмиц забыл об уроке и завтраке, утащил Джойса в город и несколько часов, бродя по Триесту, они говорили о своих взглядах на литературу. До своей гибели в 1928 году он написал по крайней мере один несомненный шедевр – трилогию «Самопознание Дзено», именно потому, что стал по-другому воспринимать свою работу. Он был старше Джойса почти на 20 лет и обладал способностью, которой тот был практически лишен, – дружить. Шмиц был одинаково внимателен и к друзьям, и к своим рабочим, на любой вечеринке или приеме вокруг него быстро собиралась маленькая толпа, собственно, талант его и уходил на развлечение друзей великолепными афоризмами и анекдотами. Очевидно, после обидного провала его первых книг Шмиц прятал свои литературные амбиции в такие нарядные коробочки. Жена его, Ливия Венециани, была богата и красива и исповедовала католицизм. Интерес Шмица к иудаизму давно угас, но в течение нескольких лет именно он был для Джойса, пока тот писал «Улисса», главным источником сведений о еврействе.
Шмиц оставил запись о своем друге-учителе – еще и потому, что тот сам попросил его об этом. Такое домашнее задание по английскому языку.
«М-р Джеймс Джойс, описанный его преданным учеником Этторе Шмицем.
Когда я вижу его идущим по улице, мне всегда кажется, что он наслаждается досугом, полным досугом. Никто не ждет его, и он не хочет достигнуть цели кого-нибудь встретить. Нет! Он идет, чтобы остаться с собой. Он также не прогуливается ради здоровья. Он идет потому, что его ничто не останавливает. Я думаю, что, если он встретит на своем пути высокую стену, его это не потрясет. Он просто сменит направление, и если новое окажется несвободным, он снова сменит его, колеблясь только натуральными движениями тела, а ноги его будут двигаться безо всяких усилий ускорить (убыстрить) его шаги. Нет! Его шаг – подлинно его шаг, и ничей больше, и его нельзя ни замедлить, ни сделать быстрее. Все его тело спокойно, как у спортсмена. Если двигается, то как у ребенка, ослабленного любовью родителей. Я знаю, что жизнь была не такими родителями для него. Она была самой плохой, и все равно мистер Джеймс сохранял внешность человека, который считает все вещи точками света, вспыхивающими для его удовольствия. Он носит очки и поистине использует их без перерыва с раннего утра до поздней ночи, когда он просыпается. Может быть, он видит меньше, чем это предполагает его внешность, но он выглядит как существо, которое двигается, чтобы видеть. Конечно, он не может драться и не хочет. Он идет сквозь жизнь, надеясь не повстречать плохих людей. Я сердечно желаю ему не встретить их».
За домашнее задание можно поставить твердую «пятерку». Хотя о некоторых определениях приходится напряженно догадываться или даже оспаривать их: мистеру Джойсу нравилось встречать плохих людей. Они оправдывали его уверенность в несовершенстве мира и были очень, очень интересны.
В мае «Пикколо делла сера» напечатала очерк Джойса об Оскаре Уайльде – это было связано с постановкой «Саломеи» Рихарда Штрауса. «Саломея» даже в судьбе Уайльда занимает особое место: она была запрещена к показу в Британии на долгие годы, кайзер Вильгельм лично наложил вето на постановку оперы в Берлине, а совет директоров Метрополитен-опера после премьеры снял ее с репертуара. Триесту все они были не указ, и постановка состоялась с большим успехом. Джойс заново заинтересовался Уайльдом, пытался перевести на итальянский «Душу человека при социализме» и часто упоминал о нем. Уайльд интересовал его как родственная натура, человек, пытающийся увидеть красоту во всем, но сознающий, что он унижен и загнан. Гомосексуализм, за который Уайльда поносили и в конечном счете уничтожили, прочно опирался на английскую систему образования, и в «Портрете…» есть эпизоды, свидетельствующие об этом. Джойс подводит читателя к мысли, что Уайльд, хотевший радости и добра всем, предан, обесчещен и замучен, как Христос. И в этом он тоже видит их сходство. Ему пора было собираться в Иерусалим, проведать своих гонителей и предателей, увидеть, какой новый мятеж вызовет его появление и какой приговор изречет ему Ирландия. Пока что она безмятежно молчала.
Об этом он размышляет и пишет всю весну 1909-го, и единственный, кто выигрывает здесь, – замотанный Станислаус. Ему не придется везти Джорджо. Ему не придется даже тратиться – Джеймсу неожиданно заплатили вперед за год уроков, и они с сыном триумфально отбыли в конце июля на целых шесть недель.
Вряд ли Джойс предчувствовал в полной мере, чем обернется для него возвращение.