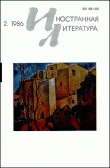Текст книги "Джойс"
Автор книги: Алан Кубатиев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 41 страниц)
Глава двадцать восьмая СИЛЬВИЯ, АДРИЕНН, «ЦИРЦЕЯ»
Чего Джойс поначалу не ожидал, так это оказаться персонажем светской хроники. Как-то внезапно в Париже он стал даже держаться иначе – сумрачно, сдержанно; однако действовало это гораздо сильнее, чем его прежние эскапады. Тридцативосьмилетний Джойс отмерял теперь свое молчание, как другие – слова. Переезд, как всегда, оказался тяжелее всего для детей. От полного непонимания обстановки и отсутствия близких (кроме родителей) они отчаянно держались за итальянский язык и на нем говорили постоянно. Джорджо вымахал за шесть футов, заканчивал школу и не имел никаких планов. Когда Джойса спросили, почему он так безразличен к будущему сына, он ответил: «Я так занят своим, что для его у меня не остается времени». Это очередной спектакль Джойса: на самом деле он заботился о Джорджо и даже подыскал для него место в банке. Но куда больше его обрадовало, насколько противен был банк его сыну – почти как когда-то ему самому.
Тринадцатилетняя Лючия была бы очень хорошенькой, если бы не легкое косоглазие, которое ее пока не волновало. Никаких странностей в ее поведении не было. Они оба были очень привязаны к отцу и во многом зависели от него. Джорджо, правда, начинал над ним подтрунивать; например, сообщал, что считает величайшим романистом Достоевского, а величайшим романом «Преступление и наказание». А отец насмешливо отвечал, что это странное название для книги, в которой нет ни преступления, ни наказания.
Исторический Париж его волновал мало – еще с римских времен Джойс не любил памятников. Валери Ларбо вспоминал, как они ехали в такси мимо Триумфальной арки и он спросил Джойса, как долго, по его мнению, будет гореть Вечный огонь. Тот ответил: «Пока Неизвестный солдат не восстанет в отвращении и не задует его». Зато общения было вдоволь. За несколько недель он познакомился с десятками людей, приходили восторженные посетители и просто любопытствующие снобы, из Америки, Англии и Ирландии, кто-то стал ему другом, кто-то врагом, он разыгрывал то нищего писателя, то величавого маэстро, и всегда талантливо. Пришли деньги и, разумеется, тут же ушли. Пока что слава была просто всеобщим любопытством к модному имени, а Джойс был чувствителен к таким вещам – они его огорчали. Все это не помешало ему окончить «Цирцею» и три последних эпизода «Улисса».
Паунд, которого дети звали «Синьор Стерлина», то есть «Стерлинг», уже окончательно стал добровольным и бесплатным агентом Джойса. С ним работала профессиональный литературный агент Женни Серруйс, с которой он познакомился в салоне Натали Клиффорд-Барни, приятельницы Реми де Гурмона и Поля Валери. Паунд убеждал ее стать переводчицей «Портрета художника в юности», но она после долгих раздумий отказалась: боялась не найти времени для такой серьезной работы. Тогда Паунд отнес роман мадам Людмиле Блох-Савицки, теще английского поэта Джона Родкера. Она уже работала с какой-то вещью, но Паунд властно отобрал у нее книгу и вручил ей «Портрет».
«Вы должны перевести Джойса, – сказал он. – И немедленно. В современной литературе мира нет ничего похожего, да и в прошлом мало».
Она сдалась. Перевод планировалось издать несколькими выпусками в «Л’Аксьон», но был получен отказ, поэтому сделали заход в «Меркюр де Франс». Неудача и здесь. Наконец «Эдисьон де Сирен» дала согласие, но напечатала перевод лишь через четыре года, в марте 1924-го. Перевод был сделан на совесть, мадам Блох-Савицки не поддавалась ни на какие уговоры Джойса поторопиться и отвечала, что лучше отложит другие свои работы. Джойс унялся, но вдруг решил, что персонажам следует дать французские имена – к примеру, Стивена сделать Этьеном. Ну и автор станет Жаком Жуайезом, пуркуа па? Переводчица не согласилась, однако настояла на другом – французский перевод теперь назывался «Дедалус».
Паунд неутомимо разбрасывал экземпляры «Портрета…» и папки с отзывами прессы – Париж должен был уяснить себе, что к ним прибыл автор с репутацией. У этой работы имелась оборотная сторона: Джойсу приходилось, жертвуя временем и преодолевая раздражение, встречаться со множеством людей.
Многих задевала его нелюдимость и даже грубость, но впечатление он оставлял. И многие решали ему помочь. Первой была та же Людмила Блох-Савицки. Она и ее муж предложили ему бесплатное жилье в Пасси, на улице Л’Ассомпсьон, 5, возле Булонского леса, куда он и въехал с семьей в середине июля. Это была маленькая трехкомнатная квартира, с двумя спальнями окнами на улицу и крошечной кухней. Джорджо кровати не хватило, и Джойсу пришлось наведаться к Женни Серруйс, которая под неукротимым напором Паунда готова была ему помогать. Она прислала им раскладушку, и Джойс поблагодарил ее письмом в самых чопорных выражениях. Затем, кое-как справляясь с мучительным нежеланием просить, он дал понять, что писать ему не на чем, и она прислала стол. Видимо, то же было с постельным бельем, одеялами, книгами, присланными из Триеста и необъяснимо задержанными таможней; за них пришлось хлопотать. Наверняка она одалживала ему деньги. После он поблагодарил ее в типично джойсовском стиле: «Для вас мелкие проблемы никогда не были затруднением – качество, необычное для женщины».
Женни познакомила его со своим женихом, Уильямом Аспиноллом Брэдли. Переводчик Реми де Гурмона, Уильям представлял в Париже издательство «Харкурт, Брейс и К°». Джойсу он понравился не только поэтому – его интересовало, что Джойс пишет. В это время заканчивалась «Цирцея», и автор подробно объяснял, как он это делает, но скорее себе, чем своим поклонникам. На них проверялись намеки, аллюзии, ассоциации, но Брэдли скоро покинул категорию подопытных, напомнив Джойсу, что генерала Гранта звали Улисс. Джойс это записал – на манжете. То, что генерал курил длинные сигары, внесено было туда же. Известно, что одним из первых рукопись заключительного эпизода видел Брэдли.
Они обсуждали и других авторов, хотя рано или поздно возвращались к Джойсу. Андре Жида любили оба: Джойс читал «Пасторальную симфонию» еще в Цюрихе, и она ему понравилась своей горькой иронией и раскрытием душевной слепоты священника, пытающегося спасти от греха незрячую девочку. Джойс высоко ценил язык Жида. Пруста он отложил после нескольких страниц, сказав, что не видит никакого особенного таланта, но допускает, что ошибается. Прочитав книгу стихов Элиота, он не сказал ничего.
Осенью Брэдли подарил Джойсу свою старую офицерскую шинель, и Джойс носил ее с удовольствием.
Женни Серруйс предложила перевести «Изгнанников», и Джойс радостно согласился. Он мечтал увидеть эту пьесу на парижской сцене, собираясь предложить ее Люнье-По, который уже был известен своей работой с самыми экспериментальными драмами, а в случае его отказа – Жаку Купо из «Вье Коломбье». Джойс мобилизовал все свои знакомства, чтобы убедить кого-то из них; только затем он отправился на прием у Натали Клиффорд-Барни, где бывали Поль Валери и другие французские писатели. Ему было страшно неудобно, и как всегда в таких случаях, его тянуло говорить о себе, своей работе, словно бы утверждая себя в чужом мире, но он снова пересилил себя и беседовал о другом – о французской литературе, но и тут умудрился сказать, что не выносит Расина и Корнеля. Мисс Барни довольно резко спросила:
– Вы считаете, что такие замечания могут что-то о вас сказать?
Джойс промолчал, а потом весь вечер прятался за колонной, откуда вышел только затем, чтобы все же попросить ее помочь с постановкой. Вряд ли ему по вкусу была утонченность такого салона: он жил той же жизнью, что и большинство его персонажей, поэзия его прозы складывалась из тех самых мелочей – мебели, еды, топлива и чьего-то покровительства. Литературная жизнь вполне укладывалась в его неисчислимые заметки, исписанные страницы и разговор о них с очень немногими. Что творилось в его воображении – очевидно, об этом не всегда и получалось сказать.
Тем не менее в сутолоке первых парижских месяцев состоялось знакомство, имевшее значение для всей последующей жизни Джойса да и всей литературной жизни века.
Людмила Блох-Савицки написала своему другу, поэту Андре Спиру, что познакомилась с Джойсами и в любой день может предоставить ему любое их количество – два, три, четыре… Или ни одного. Спир согласился на двух, и на воскресенье 11 июля Людмила, ее муж, поэт Андре Фонтана с женой и двое Джойсов приехали в Нейи. Кроме Паунда, Спир пригласил Адриенн Монье, хозяйку литературного салона и владелицу книжного магазина, который в шутку называли «Храм Монье», а по-настоящему «Ла мезон дез ами де ливр» – «Дом друзей книги». Адрес его, улица ль’Одеон, 7, знал весь Париж и прежде всего писатели и читатели наисовременнейшей французской литературы. Она сама была довольно даровитой поэтессой и переводчицей, издавала литературный журнал «Серебряный корабль» и оказалась едва ли не первой владелицей книжного магазина в Европе.
Адриенн, невысокая, пухлая, в крестьянском платье работы модного кутюрье, двигалась, по словам Уильяма Карлоса Уильямса, «будто по колено в вязкой глине». С ней пришла ее подруга, американка Сильвия Бич. В Париже она была потому же, почему и многие американцы, – не хотелось оставаться в отведенной ей жизни. Ее отец, пресвитерианский священник Сильвестр Бич, был настоятелем пресвитерианской церкви в Принстоне, Нью-Джерси, но перед войной несколько лет жил с семьей в Париже, как директор Американского студенческого центра и проповедник американской церкви. Сильвия рано уехала из семьи, много ездила по Европе и незадолго до конца войны перебралась во Францию. Там она и познакомилась с Адриенн, став завсегдатаем ее библиотеки, а затем и любовницей. В ноябре 1919 года она открыла книжную лавку под озорным названием «Шекспир и компания», на улице Дюпюитрен, 8, а затем перебралась на Одеон, 12, через улицу от лавки Адриенн. Вечер прошел вполне спокойно; Джойс отказывался от всех предложенных вин и даже для пущей гарантии перевернул стакан вверх дном. А Эзра Паунд, чтобы подразнить трезвенника, выстроил перед ним все бутылки и соблазнительно ими позвякивал.
Гости слушали спор между Адриенн и Жюльеном Бенда, который нападал на Валери, Клоделя и Жида, а она пылко отстаивала их. Джойс потихоньку перебрался в другую комнату, к книжным полкам, и что-то уже читал, когда к нему подошла робеющая, но решительная Сильвия Бич.
– Это и есть великий Джеймс Джойс? – спросила она.
– Джеймс Джойс, – ответил он, протягивая руку.
Она рассказала ему, как восхищается его книгами, а он расспросил ее о Париже. Улыбнувшись названию ее лавки, записал адрес в книжечку, которую держал у самых глаз, и пообещал навестить. На следующий день он зашел туда и остался почти на полдня. Она вспоминала, что Джойс был одет в дешевый синий саржевый костюм, черную фетровую шляпу, едва державшуюся на макушке, и очень грязные теннисные туфли. При этом он поигрывал изящной тросточкой, совершенно не вязавшейся со всем остальным. Рассказав о том, каково его положение в Париже, он попросил ее помочь с жильем, и она с радостью согласилась и предложила найти ему учеников. Перед уходом он взял из ее библиотеки «Скачущих к морю».
Сильвия понравилась Джойсу: готовность помочь он всегда принимал благосклонно. Почти все, что узнал о французской литературе нового времени, он узнал от них с Адриенн – когда они рассказывали, Джойс молча слушал и записывал. Высокий, худой, нервный, обремененный множеством забот, он вызывал у них материнские чувства, хотя обе они были младше его. Они звали его между собой прозвищами, которые он сам себе дал, – «Иисус-меланхолик» или «Сутулый Иисус». О нем рассказывалось всем завсегдатаям «Шекспира и компании», он был главным сюжетом любого устного выпуска литературных новостей.
Деньги от Пинкера все не приходили, Куинн тоже не торопился с выплатами за рукопись, и неугомонный Паунд придумал занять герцогиней Мальборо опустевшее место миссис Маккормик. За неделю до этого ее отец, миллионер Вандербильдт, скончался неподалеку в клинике. Паунд, куда менее состоятельный, делился с Джойсом всеми свободными деньгами, и семье как-то удавалось продержаться и даже не голодать. Было нелегко, но Джойс не злился на Париж, как когда-то на Рим, – сюда он приехал уже вождем некоего, еще не вполне сложившегося направления, и это слегка кружило голову. Он шутливо сообщал Станислаусу, что здесь все «отдает Одиссеем»: Анатоль Франс пишет «Циклопа», Жиль Фавр – оперу «Пенелопа», Жан Жироду написал «Эльпенора», а Гийом Аполлинер – сюрреалистическую драму «Груди Тиресия»… «Мадам Цирцея царственно шествует к своему завершению, а я надеюсь вступить в теннисный клуб». На следующий день Паунд отвез его к критику и романисту, сотруднику «Ле пти паризьен» Фрицу Вандерпилю. Джойс, несмотря на умопомрачительные теннисные туфли, показался ему похожим на университетского профессора, но при этом умудрился занять у него сто франков, которых у Фрица тоже не было, но им удачно повстречался более денежный знакомый. Джорджо не остался без подарка на день рождения. Но к завтрашнему полудню от денег не осталось ни сантима, и мрачный Джойс с отвращением перебирал небогатые возможности нового займа, когда в дверь позвонили.
Джон Родкер был постоянным автором «Эгоиста» и увлекался изготовлением книг вручную, на маленьком прессе чуть сложнее гутенберговского. Миссис Родкер надела красный плащ, а женщины в красном были одним из главных суеверий Джойса: они приносили удачу. Вот и в этот вечер семья была приглашена на ужин, а во время ужина прозвучало искусительное предложение напечатать «Улисса» во Франции на деньги «Эгоиста», а затем воспроизвести этот набор в Англии. Джойс был рад и заинтересован, даже вел светский разговор. Верным признаком расположения была шутка, которую он обычно приберегал для друзей, – что его имя на английском значит то же, что и «Фрейд» по-немецки. Но Родкеры были поражены другим: он показался им человеком, на редкость убежденным в своей миссии в искусстве.
Наконец и Пинкер прислал 10 фунтов, но Джойс написал Паунду ироническое письмо с громкими заголовками для прессы: «Джойс Вытянул Улов! Проворный Пинкер Спасает Удрученного Дедала! Завал Зеленых для Поэтов-Пауперов!» Конечно, деньги приходили, но тратились так же быстро. Оставалась мисс Уивер, благодетельно облегчившая несколько лет его жизни и работы, но и она не могла взять на себя всё. Однако это признание его важности и значимости поднимало ему настроение. Станислаусу он об этом написал, но новый дождевик, одолженный у брата, не вернул – очевидно, по тем же резонам.
Париж затягивал Джойса. Связей и знакомств становилось все больше, кого-то хотелось видеть, кого-то он держал на расстоянии и бывал очень неприятен. Жена японского художника Йосуки Танака, американка Луиза Ганн, вспоминала, как, очарованная рассказами Паунда, пригласила Джойса на ужин и была поражена его неприкрытой враждебностью и злостью. Живопись его не интересовала, что потрясло бедного мистера Танаку. Стоило вспомнить Йетса, и Джойс жестоко вышутил его как расчетливого любовника на содержании леди Грегори. Гостья спросила его, кого он считает лучшими английскими писателями современности. Он ответил: «Не знаю никого, кроме себя». Супругов Танака Джойс все же пригласил составлять ему компанию в ресторанах и кафе, но это ничего не значило. Его не трогал даже откровенный интерес некоторых дам, норовивших нежно взять его под локоть. Нора была тут же и явно не слишком наслаждалась ситуацией. Когда Луиза Ганн сказала ей, что она «заложница гения», она одобрительно усмехнулась. Супруги не любили позднего времяпрепровождения, и скоро отношения прервались. Но паломничество к новой святыне продолжалось. Поэт-сюрреалист Иван Голль, знакомый Джойса по Цюриху, приехал в июле от цюрихского издательства «Райн-Ферлаг» договориться о тамошнем издании «Портрета…» на немецком. Появился и Филипп Супо, в то время упоенно переводивший Блейка и много споривший с Джойсом о «Иерусалиме». Клайв Белл, уже очень заметный критик, когда-то женатый на сестре Вирджинии Вулф, не принял Джойса. Джойс сам понимал, как часто он производит дурное впечатление, но, по его словам, был слишком занят, чтобы следовать завету «curvata resurgo» [121]121
Выпрямляю согнутое (лат.).
[Закрыть].
Пока самые лучшие отношения, кроме двух книжниц, Бич и Монье, у него были с Фрицем Вандерпилем. Но Вандерпиль был само дружелюбие и участие, хотя и его Джойс нередко угнетал: Фриц говорил, что тот держится епископом, оставаясь в душе семинаристом. Джойс всегда был не прочь побыть ментором. Как-то они обедали в ресторане с другом Вандерпиля, Эдмоном Жалу, и тот уже за «Фендан де Сьон» принялся расхваливать «Три повести» Флобера, утверждая, что стиль и язык безупречны. Любивший Флобера Джойс тем не менее ощетинился: «Ра si bien que çа!» – «Совсем не так прекрасно!» Вцепившись в первую фразу «Простого сердца» – «В течение пятидесяти лет жительницы Пон-ль’Эвека завидовали г-же Обен, хозяйке Фелисите» [122]122
Перевод Е. Любимовой.
[Закрыть], – стал доказывать, что здесь должно стоять «завидуют», а не «завидовали», потому что действие не кончилось, а продолжается. Затем он начал выискивать ошибки в «Иродиаде» и нашел – в самом последнем предложении.
В середине августа среди несгибаемых друзей Джойса появился еще один.
Томас Стернс Элиот, один из величайших поэтов XX века, написал из Лондона, что Эзра Паунд доверил ему посылку для Джойса и что Элиот 15 августа привезет ее ему в «Отель д’Элизе». Он также надеется пообедать с мистером Джойсом, и даже если у него не будет времени ответить, пусть просто приходит. Обычно Элиот путешествовал в компании Уиндема Льюиса, чей роман «Тарр» тоже был напечатан в «Эгоисте»; Джойс прочел его еще в Цюрихе. Проза Льюиса ему нравилась, в стихах Элиота он тогда еще сомневался, как это часто бывает, не замечая удивительного сходства со своей прозой: «Место рождения – Хайберн. Место растления/ – Ричмонд. Трамваи, пыльные парки. /В Ричмонде я задрала колени/ В узкой байдарке» [123]123
Здесь и далее перевод А. Сергеева.
[Закрыть].
Всю дорогу из Лондона Элиот провозился с тяжелой и плохо увязанной посылкой, таская ее с поезда на поезд. Как ни странно, Джойс пришел в гостиницу вместе с сыном, и встреча с Льюисом обрадовала его. Знаменитых теннисных туфель на нем уже не было, но и без этого он производил странное впечатление в замшевых ботинках и очках невероятной толщины над острой рыжеватой бородкой. С ухмыляющимся Джорджо он говорил то на английском, то на французском, то на беглом итальянском, но вообще, как обычно, разыгрывал из себя этакого ирландца – довольно мастерски, отмечает Льюис. Встреча двух гигантов состоялась.
Элиот подошел и, показывая на громоздкий пакет, объявил, что это и есть та самая посылка, о которой он известил мистера Джойса в телеграмме, вверенная его попечению и неукоснительно доставленная им по назначению.
Затем Элиот уселся, доброжелательно наблюдая, как Джойс, вряд ли толком различавший узел, пытается его развязать – Паунд постарался. Наконец Джойс раздосадованно потребовал у Джорджо перочинный ножик. Джорджо по-итальянски отвечал, что у него нет и не было ножика. Элиот встал и принялся искать нож и тоже не нашел, предложив взамен маникюрные ножницы. Наконец бечевки удалось перерезать. Джойс ощупью раздергивал грубую коричневую бумагу, в которую Паунд старательно завернул таинственное содержимое. Через пару минут сосредоточенной возни в центре вполне благопристойного отельного стола возвышалась пара старых, но тоже вполне приличных коричневых ботинок.
Все молча глядели на этот дар литератора литератору. Потом Льюис вдруг захохотал. Но Джойс не дотронулся до ботинок. Он сел в свое кресло, изящно уместив левую щиколотку на правом колене. Элиот, со своей знаменитой улыбкой – полу-Джоконда, полупрезидент США, – поинтересовался, не собирается ли Джойс отобедать с ними. Повернувшись к сыну, Джойс на том же стремительном итальянском велел ему идти домой и передать маме, что отец не будет с ними ужинать. То есть он дал понять, что принял приглашения сразу на две трапезы – утреннюю и вечернюю. Джорджо так же стремительно ответил, что не собирается отягощать себя миссией гонца и с удовольствием останется с ними. Джойс неумолимо вручил ему пресловутые ботинки и кивком указал на дверь. С багровым от ярости лицом, бормоча итальянские ругательства, Джойс-младший помчался к двери, но овладел собой настолько, что сумел вернуться, поклониться и даже пожать джентльменам руки. Они пошли в маленький ресторанчик неподалеку, рекомендованный Джойсом, и там он вел себя уже как гостеприимный хозяин. Он выбрал для них столик, заказал отличный обед и хорошее вино, потом расплатился за него, оставив царские чаевые. Льюис вспоминал, что из такси он выскочил раньше всех и заплатил шоферу, также вознаградив его несоразмерно щедро. В кафе Джойс расплатился за пиво и кофе. Так было отмечено прибытие пары старых башмаков.
С Элиотом он вел себя сдержанно. Того забавляло, как мало внимания на него обращает известный прозаик, но говорил Джойс завораживающе. Тем не менее Элиот поначалу нашел его тяжелым и высокомерным, с чем не согласился Уиндем Льюис. Элиот поправился: «Он может не казаться высокомерным, но – остается им». – «Горд, как Люцифер?» – «Ну, я не поминал Люцифера…» Льюис вздохнул: «Какие они все же провинциалы, благослови Господь их уродливые броганы!» [124]124
Броганы – грубые ботинки ирландских крестьян. Также презрительное прозвище ирландцев, наподобие русского «лапотники».
[Закрыть]– «Однако он был предельно вежлив», – напомнил Элиот. «Да, он вежлив». – «Ты видел, мне ни разу не удалось закрыть за ним дверь; он все время говорил: „После вас“. Он весь сплошное „После вас“». – «О да. Он вполне вежлив. Но он невероятно горделив. Скрытно. Потому он так вежлив. Мне было бы легче, не будь он так вежлив», – улыбаясь, заметил Элиот.
То же самое говорил Станислаус и добавлял упрек в неискренности. Один милый нелитературный англичанин говорил: «Я предельно вежлив, когда я крайне груб». Такой формой самообороны Джойс пользовался в Париже очень часто. И все же Льюис, Элиот и Джойс подружились. Сперва Джойс шутил на темы стихов Элиота, давая понять, что все же читал их: «Я сегодня был в зоопарке и поклонился вашему другу, бегемоту». Намек демонстрировал знакомство с уже известным стихотворением Элиота «Гиппопотам». Все же серьезно Джойс задумался о стихах Элиота, лишь прочитав «Бесплодную землю». Одна его приятельница сказала: «Как бы мне хотелось понять их!..» И Джойс ответил вопросом, который мог бы задать сам Элиот: «А вам надо их понимать?» Тем не менее он спародировал Элиота в «Поминках по Финнегану» и записал в одной из книжек, что Элиот довел до абсурда идею поэзии для утонченных леди.
Джойс шесть или семь раз переписывал «Цирцею» от начала до конца, пока наконец 20 декабря 1920 года не решил, что она закончена. Он даже решился сообщить Франчини Бруни: «Считаю, что это лучшее, что я пока написал». Но по-прежнему не было известно, кто и как будет печатать всего «Улисса». Последняя надежда Гарриет Уивер напечатать книгу в Англии рухнула после августа – ни один тамошний типограф не решился на это. Сначала вероятнее всего выглядела возможность американского издания: Хюбш, уже выпустивший «Портрет…» и «Дублинцев», заинтересовался «Улиссом». Но к тому времени Американское почтовое ведомство, отвечавшее за непересечение границ страны любой продукцией аморального свойства, задержало, конфисковало и сожгло те четыре выпуска «Литтл ревью», что содержали отрывки из «Улисса». Это создавало прецедент для возможного судебного преследования любого американского издателя за непристойность. Джон Куинн предложил частным образом отпечатать полторы тысячи экземпляров, половину которых можно продать в Европе по 12 с половиной долларов каждый, а гонорар Джойса будет около тысячи фунтов – по крайней мере так он писал Этторе Шмицу в январе 1921-го. Тем временем издательство «Бони и Ливрайт» прислало к нему своего парижского агента для переговоров о правах на «Улисса». Решение зависело от окончательного согласия Хюбша, а он заколебался: приходилось выбирать между тюремным заключением или штрафом и возможностью упустить «громкую» книгу. Джойса это страшно раздражало – он видел здесь лишь недостаток энергии, но тот, кто знает историю американской цензуры, поймет Хюбша. Возможно, понимал и Джойс; ведь это ему принадлежит запомнившаяся Паунду шутка: «Роман не напечатают за пределами Африки».
Работа над «Изгнанниками» тоже встала. Люнье-По вроде бы уже заверил автора, что они с Сюзан Деспре поставят пьесу в декабре или январе, и Джойс даже согласился на то, что Жак Натансон адаптирует ее к сцене, лишь бы увидеть многострадальное детище, и о деньгах он уже не думал, но тут Люнье-По с оглушительным успехом выпустил «Великодушного рогоносца» Кроммелинка, и работа снова была отложена, предположительно до весны. Именно удивительное сходство между легким фарсом бельгийского драматурга и его мрачноватым треугольником лишало Джойса всякой надежды на успех, даже при выходе на сцену, но Люнье-По официально сообщил ему, что не намерен тратить 15 тысяч франков на заведомо провальную постановку.
Известие это наложилось на два переезда Джойса, правда, уже внутри Парижа: все начало осени он искал квартиру, не нашел и был вынужден переехать обратно, на рю де Юниверсите, свой двадцатый адрес – адрес завершения «Улисса». Потом кто-то из знакомых сообщил ему о квартире на бульваре Рас-пай, 5. Пристанище бальзаковских куртизанок не стало дешевле – наоборот, это было много дороже, чем он мог себе позволить. 300 фунтов в год – Джойс не всякий год зарабатывал столько, но сейчас он собрал эти деньги, чему удивлялся сам: «Я пришел в этот город босиком (для уточнения: в чужих ботинках. – А. К.), а заканчиваю въездом в роскошную квартиру…»
Глаза, как водится, уравновесили это подобие удачи. Весь ноябрь и часть декабря его мучили жестокие боли, но радужка была еще цела. В письме мисс Уивер он шутил, что это Цирцея мстит ему за то, как он переписал ее легенду. Дьявол бы побрал этот год, добавлял он, и как можно быстрее…