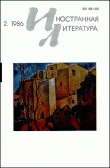Текст книги "Джойс"
Автор книги: Алан Кубатиев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 41 страниц)
Когда Джойс расплачивался с хозяйкой за триестинцев, он тайком попросил горничную показать комнату под крышей, где жила Нора: «Все мужчины скоты, дорогая, но во мне хотя бы порой просыпается что-то более высокое. Да, и я на секунду почувствовал огонь в душе, чистый и священный, который будет вечно гореть на алтаре сердца моей любви. Я мог бы преклонить колена перед этой маленькой кроватью и забыться в потоке слез. Слезы и подступали к глазам, когда я стоял, глядя на нее. Я мог бы преклонить колена и молиться там, как преклонились три царя с Востока перед яслями, где лежал Иисус. Они пересекали пустыни и моря и привезли свои дары и премудрость, чтобы встать на колени перед крохотным новорожденным ребенком, и я так же принес туда свои ошибки, причуды и грехи, жажду и вожделение, чтобы сложить их перед этой маленькой кроватью, в которой девочка мечтала обо мне».
На Рождество он присылает Норе тот самый пергаментный манускрипт – «в благодарность за твою верную любовь». В приложенном письме добавлено:
«…может быть, пальцы юноши или девушки (или детей наших детей) с уважением перевернут эти пергаментные листы тогда, когда двое любовников, чьи инициалы сплетены на обложке, уже давно исчезнут с земли. Ничто не останется, дорогая, от наших бедных, томимых человеческими страстями тел, и никто не скажет, куда делись взгляды, которыми их глаза смотрели друг на друга. Я бы взмолился, чтобы моя душа влилась в ветер, позволь мне только Бог мягко овевать один странный, одинокий, темно-синий, омытый дождями цветок у дикой изгороди в Огриме или Оранморе».
Письма Джойса порой удивительно банальны, особенно те, что к Норе. Можно допустить, что он лучше знал адресата и его эстетические запросы. За два с половиной месяца разлуки он написал больше сорока писем, хотя у него начались неприятные проблемы со здоровьем, жестокий радикулит, ирит – воспаление радужной оболочки и боли в желудке. Сестры говорили, что Дублин с ним несовместим. Лицензию на кинотеатр им наконец дали, и Джойс готов был вместе с Эйлин «вернуться к цивилизации». Купив сестре пальто и перчатки, он выехал с ней из Дублина 2 января 1910 года. Остальных сестер он оставил тянуть на себе «жуткий дом» Джойсов. Глаза в этот раз болели намного сильнее, и по возвращении Джойсу пришлось отлеживаться почти месяц, пока Станислаус занимался домом и делами.
До февраля Джеймс не вставал, боли были острые и внезапные, глаза отекали, свет вызывал ломоту. Потом стало легче, но не Станислаусу. Джеймс за время бизнес-приключения усвоил совершенно аристократические привычки. Вставал поздно, после десяти, когда брат уже наспех позавтракал и убежал в школу. Нора подавала ему кофе и рогалики в кровать, где он и оставался, «окутанный собственными мыслями», почти до полудня. Иногда приходил портной-поляк, усаживался на кровать и горячо рассказывал что-то по-польски, а Джойс кивал и даже слушал. Затем он вставал, брился и усаживался за еще невыкупленное фортепиано. Временами его музицирование прерывал явившийся получить по какому-нибудь счету, и Джойс искусно вовлекал его в спор о музыке или политике, да так, что пришелец забывал о цели визита. Потом вмешивалась Нора, напоминавшая об уроке или ругавшая его за снова надетую несвежую рубашку. Потом в час дня ланч – Нора стала прилично готовить.
После ланча с двух до семи-восьми-девяти были уроки, когда дома, когда в «Скуола муниципале», когда в домах учеников. Порой это были совсем не барственные поездки – капитану Дехану он давал уроки у него на судне. «Джойс выходил из дома, шел через пьяцца Джамбаттиста Вико, спускался в тоннель Монтуцца, садился на электрический трамвай до Вольного порта, затем конкой до Пунто Франко, сигналил на судно, шлюпкой добирался и поднимался на борт, посылал матроса за капитаном, находил тихое местечко для урока, давал его (капитан был невероятно туп), потом находил матроса, который доставлял его обратно к Пунто Франко, садился на конку до ворот Вольного порта, трамваем до входа в тоннель Монтуцца, проходил через него, потом через пьяцца Джамбаттиста Вико, и возвращался домой. За это дивное упражнение он получал что-то около тридцати пенсов» (из интервью Герберту Горману).
На уроках, как пишут въедливые биографы, Джойс курил длинные австрийские черутты, а в промежутках пил черный кофе. Иногда чай. По вечерам он снова давал уроки или играл, а пару раз в неделю ходил с Норой в оперу. Ева и Эйлин уводили детей в кино, иногда до одиннадцати вечера. Когда дети заканчивали ужинать, отец играл с Джорджо и укачивал Лючию, напевая итальянские колыбельные. По воскресеньям Ева и Эйлин исправно ходили в церковь – без Джойсов. Ева была потрясена, когда узнала, что Джеймс и Нора не венчаны. Девушка тут же принялась уговаривать их совершить церемонию, и если Нора не слишком противилась, то брат и слышать об этом не хотел. В Пасхальную неделю он вел себя еще более странно – доходил с ними до церкви, но оставался за углом, а когда они выходили, то не находили его. Все было очень просто: Джойс без памяти любил музыку литургии и мессы, стоял и слушал ее, а потом уходил, пока его не начали склонять войти внутрь. Эстетика одерживала верх над религией – по крайней мере так следовало думать.
Руководить «Вольтой» в Дублине из Триеста было проблематично, и Джойс запустил бизнес; но он запустил и «Дублинцев». Джордж Робертс до сих пор не прислал гранки. Быть может, он заподозрил – книга может принести куда больше хлопот, чем прибыли. Издатель с установившейся репутацией, а в будущем и муж родовитой и богатой женщины, он не хотел рисковать своим положением. Сплетни о книге уже гуляли по Дублину, и то самое давление, которое так ненавидел Джойс, нарастало. Ричардс уже тогда намекал на чрезмерность переписанного абзаца из «Дня плюща»:
«– Однако послушайте, Джон, – сказал мистер О’Коннор. – С какой стати мы будем приветствовать короля Англии? Ведь сам Парнелл…
– Парнелл умер, – сказал мистер Хенчи. – И вот вам моя точка зрения. Теперь этот малый взошел на престол, после того как старуха-мать держала его не у дел до седых волос. Он человек светский и вовсе не желает нам зла. Он хороший парень и очень порядочный, если хотите знать мое мнение, и без всяких глупостей. Вот он и говорит себе: „Старуха никогда не заглядывала к этим дикарям-ирландцам. Черт возьми, поеду сам, посмотрю, какие они!“ И что же нам – оскорблять его, когда он приедет навестить нас по-дружески? Ну? Разве я не прав, Крофтон?
Мистер Крофтон кивнул.
– Вообще-то, – сказал мистер Лайонс, не соглашаясь, – жизнь короля Эдуарда, знаете ли, не очень-то…
– Что прошло, то прошло, – сказал мистер Хенчи. – Лично я в восторге от этого человека. Он самый обыкновенный забулдыга, вроде нас с вами. Он и выпить не дурак, и бабник, и спортсмен хороший. Да что, в самом деле, неужели мы, ирландцы, не можем отнестись к нему по-человечески?
– Все это так, – сказал мистер Лайонс. – Но вспомните дело Парнелла…
– Ради бога, – сказал мистер Хенчи, – а в чем сходство?
– Я хочу сказать, – продолжал мистер Лайонс, – что у нас есть свои идеалы. Чего ради мы будем приветствовать такого человека?»
В марте Джойс неохотно смягчил эпизод, и Робертс пообещал выслать гранки в апреле, а в мае напечатать книгу. Но заменил Джойс только «чертову старую стерву-мамашу» на «старуху-мать», а Робертс потребовал переписать весь диалог. Джойс отказался – никаких претензий к отрывку не было, пока Эдуард VII был жив, с чего это они возникли, когда король скончался?
Робертс не ответил, и Джойс счел себя вправе разорвать соглашение, хотя официально предупредил об этом и его, и Хоуна. Вместе со сборником рухнула и «Вольта». Возможно, Джойс управлял бы ею лучше, найди он в себе силы оставаться в Дублине. Кроме того, репертуар был переполнен итальянскими фильмами, в английских Новак не разбирался, и публика помаленьку перешла на привычные развлечения. Через отца Джойс пытался продать «Вольту» английской фирме «Провиншиэл тиэтр компани», но Новак вышел на них раньше и вернул тысячу фунтов из тысячи шестисот. Джойс рассчитывал на свою долю, сорок фунтов, но партнеры решили, что он их не заработал.
Как раз перед продажей «Вольты» Станислаус и Джеймс поссорились особенно жестоко. Началось с пустяка. Джеймс попросил читательский билет брата, а тот огрызнулся, что никогда не получает обратно одолженного, и собрался уходить. Джеймс вставил ногу в дверь и не выпускал его, пока Станислаус не швырнул ему билет. Его выводило из себя и то, как быстро Ева и Эйлин усвоили образ жизни Джеймса и Норы. Сестры просили денег якобы для себя, а Джеймс оплачивал ими домашние расходы. Ему не удавалось даже толком поесть, хотя он вносил деньги на еду, – в ответ на упреки сестры заявляли, что они сюда приехали не готовить для него. Как-то, пунктуально явившись к столу в полдесятого, Станислаус обнаружил, что вся семья разошлась по кино и театрам. Любой распорядок нарушался. При всем этом ему нравилась Нора, и ее полное равнодушие к нему было тоже оскорбительно.
Дневник Станислауса полон педантичных замечаний и сетований на свою жизнь. Он перестал давать его брату на прочтение, хотя раньше это было их обыкновением. Возможно, Джеймс читал его без разрешения, ибо раньше делал то же. Станислаус страдал, а Джеймс – наоборот. Подтверждалась уверенность в том, что люди друг для друга – демоны, что ими правят враждебность, ревность, взаимное тяготение при полном недоверии и обоюдной зависимости.
Станислаусу не хватало воли и твердости, чтобы взять ситуацию в свои руки. Вечером 10 июля он поклялся, что больше и близко не подойдет к этому дому. Джеймс попытался удержать его под предлогом позднего времени, когда Нора сказала: «Оставь его, пусть идет куда хочет». Откровенно говоря, ей казалось, что сорок фунтов от продажи «Вольты» дадут им возможность не нуждаться в занудном свояке. Но денег не было, и через несколько дней Ева написала Стэнни жалобное письмо, что они практически голодают. Джорджо, встретив его на улице, жаловался по-итальянски, что сегодня не ужинал и что в этом виноват дядя.
Джеймсу тоже приходилось несладко. Как только платили за уроки, весь гонорар уходил на провизию, но вместо нее Джойс мог вернуться с шелковым шарфом ручной работы для Норы, а ей хотелось только есть. В один из таких случаев она пригрозила вернуться в Голуэй и гневно уселась писать матери; Джойс заглянул через ее плечо и сказал:
– Если уезжаешь, то хотя бы пиши «я» как полагается.
– Не имеет значения! – отрезала Нора. Но затем гнев понемногу ушел на борьбу с орфографией, и письмо было порвано, как и множество таких же. Через несколько голодных дней Нора решила сдаться, и Джеймс отправился к брату, на виа Нуова, 7, но примирения не произошло. Станислаус обносился, и это было тем унизительнее, что незадолго до того он заплатил за одежду для Норы. Денег, которые они зарабатывали вдвоем, хватило бы на всех, если бы Джеймс не тратил так безоглядно. Бережливый и аккуратный, Станислаус ничего не мог поделать с остальной частью семьи. Ему удалось уговорить их перебраться в квартиру подешевле, на Баррьере Веккиа, где они и прожили почти полтора года, а он сохранил за собой свою комнату.
Весь следующий год они были в разрыве. Наконец Джеймс написал брату холодную открытку о том, что собирается покинуть Триест. Произошел неприятный разговор об учениках, и Джойс ответил, что намерен сделать то же, что советовал в таких случаях Парнелл: «Отойти, если конфликт ниже моего достоинства, и оставить тебя и cattolicissime [68]68
Католичнейших (ит). Джойс имеет в виду сестер.
[Закрыть], сделать все, что можешь, с этим городом, открытым тебе семь лет назад моей (и Нориной) смелостью, куда ты и они покорно явились по моему зову из вашей предательской, голодной и невежественной страны. Мои срывы могут легко стать оправданием вашего поведения. Последняя попытка все упорядочить будет совершена мной с помощью продажи моего имущества, и половину вырученных денег я переведу на твой счет в банке Триеста, где их можно будет снять или оставить гнить, в зависимости от велений твоей совести. Надеюсь, что, когда я оставлю это поле, ты и твои сестры смогут, даже с вашими скромными средствами, поддержать традицию, заложенную мной, в славе моего имени и моей страны».
Теперь, когда с коммерцией не получилось, Джойс занялся «Дублинцами» с утроенной силой. В декабре 1910 года Робертс написал, что выслал гранки нового варианта «Дня плюща», что выход книги ожидается 20 января, но гранки так и не пришли, а вместо них прибыли две книги в подарок Джойсу и Джорджо. Выход «Дублинцев» снова отложили.
«Я слишком хорошо знаю традиции моей страны, чтобы удивляться, получив эти фи корявые строчки в обмен на пять лет непрерывного служения моему искусству и непрерывного ожидания, равнодушие и неверность в обмен на 150 тысяч франков континентальных денег, которые я направил в карманы голодных ирландцев и ирландок, с тех пор как шесть лет назад они меня выдворили из своих гостеприимных болот». Речь шла о сделках по экспорту твида. А Робертс опять потребовал переделок в злополучном «Дне плюща» – убрать все упоминания о короле. Дублинский адвокат сказал Джойсу, что следует уступить Робертсу, если он, Джойс, не собирается платить, как не проживающий постоянно в Соединенном Королевстве, сто фунтов за вчинение иска «Маунсел и К°». Контракт был нарушен, однако скорее всего дублинский суд оставил бы его иск без удовлетворения, если бы отрывок признали «любым образом оскорбляющим достоинство покойного короля».
Гнев Джойса, разумеется, отражался и на Норе. После одной особенно жестокой ссоры он схватил рукопись неоконченного «Портрета…» и швырнул в огонь. Эйлин, случайно вошедшая в комнату, бросилась к камину и выхватила затлевшие бумаги, опалив себе пальцы. На следующее утро брат вручил ей «три куска разноцветного мыла и новые митенки». Там, сказал он благодарно, были страницы, которые нельзя было написать второй раз… Все же, пока «Дублинцы» не вышли, он не мог заставить себя всерьез приняться за «Портрет…», обгорелые, запачканные страницы которого были завернуты в тряпку и отложены.
На этом фоне начался новый виток отношений Джеймса и Норы. Несмотря на уверенность в ее верности, а может, именно из-за нее, Джойс начал ощущать особое удовольствие в том, чтобы наблюдать, как она нравится другим мужчинам – и ему тоже. Нора очень похорошела, округлилась, несмотря на постоянное недоедание, и держалась с величавой небрежностью, что заводило Джойса еще больше. Эта же черта потом будет с такой детальностью выписана в Блуме.
В его рабочих записях 1913 года есть строка, помеченная «Н. Б.» и фиксирующая цепочку ассоциаций: «Подвязка: драгоценная, Прециозо [69]69
Обыгрывается значение фамилии – «драгоценный» (ит.).
[Закрыть], Бодкин, бледно-зеленый, браслет, сливочные тянучки, лилия долины, монастырский сад (Голуэй), море». Напомним: Бодкин – тот самый мальчик, что ухаживал за Норой и умер после ее отъезда в Дублин: он дарил ей коробки сливочных тянучек. Прециозо – странное упоминание: один из близких триестских друзей Джойса, вежливый и галантный венецианец. Он помогал Джойсу в вечных поисках работы, печатал его статьи и щедро платил за них. Правда, с конца 1910-го по осень 1912 года «Пикколо делла сера» ничего джойсовского не печатает; возможно, автор снова и с удовольствием чувствует себя преданным и встраивает Прециозо в этот ряд. Все равно понятно только отчасти: Прециозо был женат на богатой и приятной женщине, обожал двоих своих детей, был элегантен, отлично одевался и пользовался успехом у женщин – правда, скорее по слухам. Довольно долго он заходил по вечерам навестить Нору и даже оставался поужинать. Норе льстило его внимание, она даже стала вместо стрижки делать прическу и похорошела еще больше – Туллио Сильвестри, который чуть позже напишет ее портрет, скажет, что она была самой красивой из всех его моделей. Но восхищение Норой у Прециозо было тесно связано с восхищением Джойсом: как и Шмиц, он сознавал его литературный дар, признавал его музыкальное дарование, что для итальянцев почти обязательное дополнение таланта. Можно предположить, что Прециозо сделал попытку перейти в иное качество. Фраза, которую он несколько раз повторил Норе, «II sole s’e levato per Lei» [70]70
Солнце взошло для вас (ит.).
[Закрыть], есть популярная часть итальянского эротического кода, и когда Нора пересказала все мужу, он не на шутку встревожился, что не помешало ему после использовать речение и в «Изгнанниках», и в «Улиссе». Возможность адюльтера, что бы она ни значила для него в качестве материала, никак не забавляла его.
Он остановил Прециозо на улице и обрушился на него с обвинениями в осквернении дружбы и доверия. Сильвестри, оказавшийся рядом, рассказывал потом, как по лицу Прециозо бежали слезы стыда и гнева. Джойс не раз вспоминал потом об этих слезах. Бесчестный друг Ричарда в «Изгнанниках» был поименован Робертом (Роберто – первое имя Прециозо), и это еще милосердное воздаяние.
Но в случившемся был виноват и сам Джойс: ему еще случится очень болезненно путать слово и дело. Болезненно прежде всего для него самого.
Глава девятнадцатая ТРИДЦАТИЛЕТИЕ, НЕВОЗВРАЩЕНИЕ, СРАЖЕНИЕ
В феврале 1912 года Джеймсу Джойсу исполнилось тридцать. Это не принесло ему никаких радостных перемен. Скорее наоборот – прежние неприятности усугубились, а новые радостно выпрыгивали «из форточек ада». Кое-как он наскреб денег за три месяца и несколько оттянул угрозу выселения. В марте удалось заработать лекциями в Народном университете, на этот раз курсом по английской литературе. Попытка стать учителем в итальянской средней школе разбилась о сопротивление бюрократов. Друзья-ученики принялись выбивать ему место в Высшей коммерческой школе. Там английский преподавал человек, собиравшийся уйти на пенсию, а Джойс тем временем занимал у брата на жизнь и собирался с духом для новой атаки на Робертса – «Дублинцы» не могли оставаться в письменном столе.
Нора затеяла переписку с голуэйской родней, очень скучала по ним, и Джойс решил отправить их с Лючией в Ирландию. А чтобы путешествие не оказалось слишком простым, Нора должна была задержаться в Дублине и переговорить о книге с Робертсом. Потом поехать в Голуэй и там попробовать уговорить дядюшку Майкла Хили дать денег на приезд Джеймса. Нора понимала, сколько раз ее спросят об отсутствии кольца на пальце, и просила Джойса разрешить хотя бы поносить его – для родни. Он решительно воспротивился, хотя сам в прошлый приезд скрыл их «позор» от миссис Барнакл.
Проводив жену и дочь, Джойс отправился к Этторе Шмицу, чтобы рассказать им с женой, какое наслаждение оставаться в мужской компании. Однако, не получив от Норы письма о прибытии в Дублин, Джойс мгновенно разъярился. Уговорив Шмица заплатить за дюжину уроков вперед, он собрался в Дублин и Джорджо, разумеется, взял с собой, а вот маленького, ужасно толстого, беспородного песика по имени Фидо оставил Шмицам. Песик сбежал почти сразу. Слуга, отправленный на поиски, сказал, что «он» разрешился дюжиной щенят.
Перед отъездом Джойс написал Норе свирепое письмо:
«Моя дорогая Нора! Оставив меня на пять дней без единого слова, ты царапаешь свою подпись на открытке с дюжиной других слов. Среди них – ни слова о тех местах Дублина, где я встретил тебя, которые имеют значение для нас с тобой. После твоего отъезда я нахожусь в состоянии бессильного гнева. Считаю всю ситуацию неверной и несправедливой.
Я не могу ни спать, ни думать. У меня болит бок. Прошлой ночью я боялся прилечь. Мне было страшно умереть во сне. Я трижды будил Джорджо, потому что боялся оставаться один.
Чудовищно даже выговорить, что ты забыла обо мне на пять дней и снова забыла о прекрасных днях нашей любви.
Сегодня я отбываю из Триеста, потому что боюсь оставаться здесь – боюсь себя. В Дублин прибуду в понедельник. Если ты забыла, то я нет. Я поеду ОДИН, чтобы встретить и увидеть образ той, кого я помню.
Можешь послать в Дублин телеграмму на адрес моей сестры.
Что Дублин и Голуэй в сравнении с памятью о нас?
Джим».
Письмо Нору озадачило, но и польстило ей. Она-то без затей прибыла на Уэстленд-Роу-стэйшен, где ее сердечно встречали сам Джон Джойс, Чарльз, Ева, Флоренс, и патриарх семьи рыдал, глядя на маленькую Лючию. Второй триумф она пережила, вселяясь в «Финнз» – полноправной гостьей в тот номер, где она когда-то убирала и перестилала. Ее муж вошел туда паломником, а она – победительницей в битве жизни. Робертса она нашла, но, на свою беду, привела туда Джона и Чарльза, и их бурное трио привело к тому, что Робертс официально назначил им встречу с предварительным звонком, ибо он «крайне занят». А на следующий день просто уклонился, и Норе пришлось оставить дело на Чарльза. Из Голуэя она наконец написала: «Дорогой мой Джим, как я уехала из Триеста, я все думаю про тебя, как ты там справляешься без меня и как ты вообще скучаешь по мне или нет. Я ужасно скучаю по тебе. Я совсем устала от Ирландии». Но к тому времени он уже ехал следом.
Джойс и Джорджо были в Лондоне 14 июля. Джеймс позвонил Йетсу. Он был на удивление любезен. Дублинская родня встретила Джеймса, зная, что он собирался искать работу для Чарльза, но Джойс решил прежде всего найти Робертса и дожать его. Робертс сдался. Но все вымарки должны были быть сделаны, хотя и пояснялись в специальном предисловии, а книга выходила под именем автора. Станислаус не раз предлагал брату найти деньги и отпечатать сборник за свой счет, но Джойс держался – и победил. Писатель – это тот, кого печатают, а не тот, кто печатает.
Следующие три недели были голуэйскими каникулами. Довольная Нора писала Эйлин, что, несмотря на все их перебранки, Джеймс не может без нее и месяца. Он же с удовольствием отдыхал: греб, гулял, а как-то отмахал сорок миль на велосипеде. Боль в боку его не беспокоила. К слову, она предназначена была именно для Норы: всю оставшуюся жизнь он попрекал ею жену. Они побывали на Голуэйских скачках и вели себя, как Элиза Дулитл и профессор Хиггинс в еще неснятом мюзикле. А потом Джойс неожиданно поехал на велосипеде к Отерарду, где на маленьком деревенском кладбище был похоронен Майкл Бодкин, тот самый Норин возлюбленный. Рядом с его могилой обнаружилось надгробие с надписью «Дж. Джойс».
Так состоялось и завершилось путешествие на Запад, угаданное в «Мертвых». И на Аранские острова они с Норой тоже съездили; об этом в «Пикколо делла сера» вышли две статьи, не содержавшие никакой иронии и презрения к ирландской деревне. Разумеется, многое в его описании Арана идет от текстов Синга, он любуется местным диалектом, смакует обычаи и предания, и вообще это заметки внимательного и осведомленного, но туриста. Его умиляет, что священник ежегодно благословляет море и начало сельдевого промысла, что «Христофор Колумб открыл Америку последним», а первым ее открыл святой Брендан, который на несколько веков раньше отплыл с аранских берегов не на каравелле, а на лодке из кожи, вываренной в воске и натянутой на раму, связанную промасленными кожаными ремнями.
Пятнадцатого августа в голуэйский рай пришло неприятное письмо из Триеста: домохозяин извещал, что Джойсам придется съезжать через полторы недели. Станислаус, которому не выпало наслаждаться отпуском на исторической родине, был лишен иллюзий Джеймса по части закона. Поэтому он просто снял новую квартиру на виа Донато Браманте, 4, подешевле и почище, невдалеке от собора Сан-Джусто, и перевез туда вещи. Там Джойсы проживут все время, оставшееся им в Триесте.
Рукопись «Дублинцев» лежала в офисе издательства Робертса и никаких приключений не переживала. Хоун переадресовывал письма Джойса Робертсу, а тот уже научился отделываться от авторов. Теперь его волновала не аморальность – он-де не побоялся издать «Удальца с Запада» Синга, – а антиирландизм в стране, где иски за клевету есть национальный спорт. Ну, и есть глубоко личная причина: он пообещал своей невесте, что никогда в жизни не опубликует книгу, которая может нанести ущерб ее и его репутации… Впоследствии Хоун предполагал, что Комиссия по бдительности, их главный заказчик и одна из активных ее участниц, леди Абердин, жена лорда-губернатора, давили на Робертса, но скорее всего тот мстил Джойсу за письма в газеты – они испортили ему репутацию и вызвали самые ядовитые насмешки дублинцев. Точно так же, бесконечными поправками, он терзал Йетса, леди Грегори, Стивенса и многих других. Сам Робертс удивлялся: «Отчего О’Флаэрти не здоровается со мной? Я же его никогда не печатал!»
Поиски печатника Робертс тоже хотел переложить на Джойса. Оставив экономии ради Нору и детей в Голуэе, Джойс мчится в Дублин, чтобы посоветоваться с отцовским приятелем Джорджем Лидуэллом, хотя тот специализировался по уголовным делам. Затем состоялся очень бурный разговор с Робертсом, который в ярости дважды убегал из кабинета. Он требовал все большего – вынуть «Встречу», убрать весь фрагмент о короле из «Дня плюща», замены реальных названий баров, компаний и фирм на выдуманные. Падрайк Колум, помогавший Джойсу, тыкал пальцем в гранки и издевательски невинно спрашивал: «Так это что, вся книжка про питейные заведения?..»
Во время очередной встречи Джойс предложил Робертсу подписать соглашение о выплате автором всей стоимости первого тиража, если книга будет арестована. Сумма для него была огромная – шестьдесят фунтов стерлингов. Но Робертс потребовал еще более несусветную гарантию: два гарантийных обязательства по тысяче фунтов стерлингов. Возмущенный Джойс заявил, что это совершенно не равно никаким потерям. Тогда Робертс сухо ответил, что книгу печатать не будет.
Кое-как справившись с собой, Джойс ушел в другую комнату отдышаться и подумать. Норе он потом написал: «Сидя за столом и думая о книге, которую я написал, о ребенке, которого вынашивал годы и годы во чреве воображения, как ты вынашивала ребенка, которого любишь, и как я вскармливал ее день заднем в своем мозгу – я написал ему письмо».
В нем Джойс мучительно соглашался изъять «Встречу» из сборника, но на следующих условиях:
«1. Перед первым рассказом я помещаю следующее предупреждение:
Эта книга в данной форме является неполной. Состав книги… включает рассказ, озаглавленный „Встреча“, стоявший между первым и вторым рассказом этого издания.
2. Никаких изменений от меня больше не требовать.
3. Я оставляю за собой право опубликовать этот рассказ до или после издания книги в вашей фирме.
4. Вы напечатаете книгу не позже 6 октября 1912 года».
После долгих перебранок Робертс неохотно согласился передать это письмо своему лондонскому юристу. Джойс взыграл духом, но отец предупредил его, что Робертс будет искать другую отговорку. И оказался прав. Робертс получил от адвоката Чарльза Уикса, бывшего поэта школы Рассела, письмо, что предлагаемое согласие совершенно неудовлетворительно. Любой, кто назван в тексте своим именем, от бара до железной дороги, может вчинить иск. Джойс может уменьшить цифру гарантии до двух обязательств по 500 фунтов каждое, но это всё. Робертсу даже посоветовали объяснить Джойсу, что он может разорвать контракт по причине отказа в публикации, но сам подпадает под риск судебного разбирательства и что уже сейчас можно подавать на возмещение расходов Робертса.
Издатель коротко потребовал от Джойса «сделать существенное вложение для покрытия наших потерь».
В офисе Джойсу вручили письмо.
«Я прочитал его и вышел на улицу, чувствуя, как вся моя будущая жизнь ускользает из рук». Молодость, надежды, деньги – ничего этого больше не было. Больше часа он просидел на диване в офисе Лидуэлла, думая, где купить револьвер и «пропустить сквозь моего издателя немножко дневного света». Лидуэлл тоже встал на сторону Робертса. Джон Джойс, про себя считавший «Дублинцев» «мерзким изделием», подбивал сына искать другого издателя. Заложив часы и цепочку, чтобы хватило на жизнь, Джойс отправился к Робертсу – сделать последнюю попытку. Выслушав его объяснения, тот хмуро пообещал снестись со своими адвокатами снова. А Станислаус 25 августа вдруг прислал из Триеста телеграмму: «Приезжай немедленно». Но Джойс не обратил на нее внимание. Он нашел стряпчего по фамилии Диксон, который, выслушав его историю, сказал:
– Жаль, что вы не используете свои несомненные дарования для иных целей, чем писать книги вроде «Дублинцев». Почему бы вам не воспользоваться ими для улучшения вашей страны и народа?
Джойс ответил очень странно:
– Я, видимо, единственный ирландец, пишущий передовицы для итальянской прессы. И все мои статьи в «Пикколо делла сера» – об Ирландии и ирландском народе. И я был первым, кто открыл для Австрии ирландские твиды, хотя это совершенно не мое занятие…
Джойсу уже приходится отвечать на такие обвинения, косвенные и прямые. И он уже знает ответ. Унылые попреки Кеттла и Диксона только раззадоривают его – он твердо решает взять роман под уздцы и вести его дальше, до финала – «отковать в кузнице моего духа несозданное доныне сознание моего народа».
В письмах этого времени Джойс демонстрирует феноменальную стойкость и самоуверенность, которыми можно только любоваться. Ему не страшно то, что сборник рассказов, воплощающих Ирландию, может не выйти на родине; он уверен, что создаст новые оценки и критерии, которые рано или поздно покорят и ирландскую культуру.
С Джеймсом Стивенсом, которого даже Джойс считал «ровней мне, новейшим ирландским гением», он повстречался на Доусон-стрит во время своих скандалов с «Маунсел и К°». Их познакомили и тут же оставили одних. Потом Стивенс вспоминал:
«Тут Джойс пробудился: он сдержанно влился в разговор. Повернув ко мне свой подбородок и очки и отвернув их от меня, доверительно поведал мне, что читал мои книги и что я грамматически не знаю разницы между запятой и точкой с запятой, что мое знание ирландской жизни не католично и, следовательно, отсутствует и что мне следует бросить писать и выбрать более перспективную профессию, скажем, чистку обуви. Я доверился ему, в свою очередь, что не читал у него ни слова и что, если небо оставит мне хоть немного мудрости, никогда не прочту, разве что мне закажут сокрушительную критику.
Мы гордо покинули Пэта Кинселлу; вернее, покинул он, а я семенил следом. Джойс поднял свою шляпу на очень иностранный манер, и я заметил: „Вам следует написать на своем стяге и на своей тетрадке: ‘Наслаждайся и будь мерзок’“. – „Ага“, – сказал Джойс, и мы пошли каждый своей дорогой…»
30 августа Робертс потребовал, чтобы автор заменил целый фрагмент в «Милости божией», три абзаца в «Дне плюща», часть «Пансиона» и все имена собственные, а Джойс отказался менять что-либо, кроме имен. Артур Гриффит написал ему, что Робертс ведет себя так всегда и это может тянуться годами. 5 сентября Робертс написал, что Джойс может выкупить оттиски «Дублинцев» за тридцать фунтов, и Джойс согласился при условии, что заплатит из Триеста. Хитростью он выманил у Робертса комплект гранок, и очень вовремя – теперь заупрямился печатник, Джон Фолконер. Он заявил, что непатриотичные тексты печатать ни за какие деньги не станет.