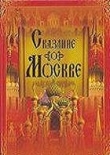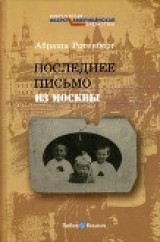
Текст книги "Последнее письмо из Москвы"
Автор книги: Абраша Ротенберг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
В тесной гостиной «Эль Паулара» я вспомнил наши годы взросления и возмужания, когда мы могли себе позволить жить уверенно и ровно, в отличие от наших близких друзей, разделявших с нами наши искания. Это была замечательная своим позитивом интерлюдия, которую я должен был прервать с тем, чтоб продолжить историю, – она вертелась на языке, но все никак мне не давалась.
Я постарался взять себя в руки и обратился к Марии Виктории, шутливо изображая угрозу:
– Ну, запасись терпением.
День стремительно катится к ночи
И я продолжил рассказ:
– Летом 1965-го мы с родителями поехали отдохнуть в Пинамар – пляжную местность на юге от Буэнос-Айреса. Днем все было отлично, погода была прекрасная, но к вечеру отцу стало плохо, у него сильно болел желудок, и через несколько часов нас начало это тревожить по-настоящему. Но на следующий день все прошло, и мы вскоре забыли об этом думать.
Мы с Диной по очереди упрашивали родителей поехать с нами и провести хоть немного свободного времени вместе. Вообще, представители среднего класса, к которому мы себя относили, обычно арендовали с приятелями домик на закрытом пляже, чтоб уберечься от толп отдыхающих. Жены и дети обычно выбирались за город на все лето, а мужья оставались работать в городе и навещали их по выходным. К февралю это кочевье прекращалось, и все собирались вместе. Такой стиль жизни позволял уединиться с близкими, познакомиться с новыми людьми и иногда провести время в закрытой компании, что в столице было чем-то недостижимым из-за наплыва иностранцев. Мы читали, спорили о политике и культуре, не забывая и об общественных вопросах.
Многие наши друзья использовали отпуск для того, чтоб освободиться от тирании родственников, но мы, нетипичные дети, не могли позволить себе, чтоб родители изнывали от жары в городе, пока мы прохлаждаемся на побережье. В нашем приглашении провести несколько летних недель вместе было больше чувства вины, чем щедрости. Тут речь шла не о каком-то спонтанном решении, а о продуманном поступке. Мы готовились к отпуску; выбирая домик для отпуска, мы выбрали тот, в котором было бы удобно и родителям также. К концу отпуска мы клялись и божились, что в следующем году поедем отдыхать исключительно одни, но как только приближалось лето, опять начинали приглашать их. Чувство вины сильнее любых клятв.
В целом, они благоразумно ограничивали свое участие в нашей жизни на отдыхе и соблюдали правила жизни на курорте – побольше загорать и купаться. Они знакомились с людьми, проводили с ними время и таким образом только увеличивали степень нашей свободы. Кроме того, они тоже участвовали в бытовых хлопотах: занимались детьми, давали нам возможность общаться и баловали нас деликатесами еврейской кухни.
Мать Дины, как и моя мать, была прекрасным кулинаром, хотя манера готовить у них была разная: обе наслаждались приготовлением блюд по забытым традиционным рецептам, которые будили воспоминания о детстве, и наши друзья с удовольствием пользовались их щедростью.
Иногда идиллию нарушали совместные вечера, когда отец слишком налегал на выпивку, еду и болтовню.
После одной из таких вечерних посиделок я, полусонный, услышал, как мать зовет меня. Родители Дины вернулись в город вот уже неделю как, и на смену им приехали мои родители. Тем вечером мать приготовила ужин, на который мы пригласили друзей. Мы отлично провели время, ели, пили, много смеялись. Отец был в своем репертуаре, и этому способствовала обстановка: он слишком много ел, а пил еще больше. Он все время лез с разговорами к нашим друзьям, пока те не ушли. Мне было неудобно за эту словесную жвачку, но он был так счастлив, что я сдержался: упреками его все равно было не перевоспитать.
На рассвете я сквозь сон услышал голос матери, которая звала меня, и рефлекторно побежал к ней. Войдя, я увидел отца лежащим на постели, он корчился, хватаясь за живот, и стонал:
– Пожалуйста, дайте мне что-то от этой боли, я больше не могу.
Я был в ужасе: никогда я не видел его в таком состоянии. Он все причитал, бледный и изможденный, как тот белый изношенный платок, которым он вытирал пот.
– Ему плохо. Когда он пытался встать с постели, чуть не упал в обморок. У него очень болит живот. Принесу таблетку бускапины[21]21
Бускапина – препарат, широко применяемый для снятия спазмов гладкой мускулатуры. Пользуется в Аргентине такой же популярностью, как но-шпа в Европе.
[Закрыть], и все пройдет. Все, как всегда: не сдерживался за столом.
Я никак не отреагировал на упрек матери.
Через полчаса после прихода врача и приема лекарств отцу стало лучше, и он наконец смог уснуть.
На следующий день история получила продолжение: на пляже отец не упустил возможности рассказать о случившемся друзьям и еще какой-то случайной собеседнице. Это происшествие так зацепило его, что он не заметил, как сквозь видимое сочувствие собеседников проглядывает нечто, чего они никак не могли утаить, когда отец расписывал, как он потерялся в догадках:
– Не понимаю, отчего мне было так плохо, – повторял он, совершенно забыв о своих вечерних возлияниях.
Через несколько дней мы забыли об этом инциденте, который до конца отпуска больше не повторялся. Несварение из-за переедания – обычное дело. Кто бы из-за такого переживал?
Хосе Мануэль и Мария Виктория слушали с истинно врачебным интересом. И я продолжил:
– Спустя несколько месяцев история повторилась. Думаю, вам, врачам, знаком тип людей, которые категорически отказываются от осмотра, когда им плохо. Таким был и отец. Но на этот раз мы его все-таки уболтали.
В ответ мои собеседники улыбнулись:
– Мы ведем себя точно так же: очень не любим, когда нас осматривают врачи.
Эта фраза Хосе Мануэля напомнила мне о том осеннем утре, когда мать позвонила сообщить, что отец всю ночь мучился болью, рвотой, обмороками и прочими эсхатологическими телесными проявлениями, но – и в этом было что-то необъяснимое – это нельзя было списать на переедание, так как накануне он ел умеренно. Тут надо сказать, что после отпуска отец и впрямь потерял аппетит и желание работать. Кузина Адасса, семейный врач, навещала его той тревожной ночью и сидела подле него, пока приступ не прошел и он не смог уснуть.
– На следующее утро отец собирался, несмотря ни на что, открыть магазин, расположенный на первом этаже здания. После стольких лет препирательств братья таки разорвали партнерские отношения, хотя – и это парадокс – обе семьи продолжали жить в одном доме.
Я решил позвонить кузине, чтоб та рассказала о причине ночного отцовского недомогания. Та говорила четко и ясно, но в словах ее слышалось сожаление, и я не мог (или не хотел) принять эту тяжкую новость.
– Дай бог, чтоб я ошибалась, но мне кажется, что это опять то новообразование.
Я не вполне понял значение слова «новообразование», и она перевела термин на человеческий язык, чтоб я все наверняка уяснил.
– Что будем делать?
– Обратимся к специалисту.
– Специалисту?
– Да. Нельзя терять времени.
Я не понял, отчего такая спешка, но смирился с решением.
Кузина настаивала на осмотре у специалиста на следующий же день. Я решил сходить с отцом, хотя был уверен, что он на такое не согласится.
– Зачем? Кому нужны эти врачи? Мне и так хорошо.
– Я понимаю, но лучше бы тебе им показаться. Завтра я приду и составлю тебе компанию.
– Не стоит тебе тратить на меня время. Я пойду один.
Я был уверен, что один он никуда не пойдет.
– Жди меня в четыре, я тебя подвезу, – настаивал я.
И он неохотно, но согласился. Возможно, он предчувствовал, что вот-вот перевернет страницу, и с нее начнется новая, самая непредсказуемая глава его жизни.
Мне было необходимо сделать паузу. Мария Виктория и Хосе Мануэль ждали продолжения.
– Я отвел отца на консультацию. Врачи оказались братьями, оба гастроэнтерологи. Когда мы зашли в кабинет, я почувствовал, что имею дело с типичным профессиональным спокойствием, с которым тебя тонкими манипуляциями завлекут на операционный стол (да хоть в морг), не придавая этому особенного значения, убедят, что все пройдет гладко, а ты сам убедишь себя в правильности диагноза и на пороге комы будешь безмятежно верить, что со здоровьем у тебя все тип-топ. В этом случае эффект достигался одновременными уговорами с обеих сторон.
В манипуляционную отец шел бледный и неуверенный – стоя на краю пропасти, он утратил непоколебимость. Я отвел его в кабинет, мы сидели перед этими двумя эскулапами (у которых был один необъятный письменный стол на двоих) и непринужденно болтали, к чему их непосредственность вполне располагала. Отец приуменьшал важность недомоганий, и врачи поддерживали его оптимистичный настрой, особенно когда он гордо заявлял, что практически здоров.
– Все выглядит вполне неплохо, – сказал один из них. Но я бы попросил вас, – обратился он ко мне, – оставить нас наедине, если это возможно, и тогда мы бы пообщались с вашим отцом и произвели все необходимые манипуляции.
Я провел бесконечные и невыносимые минуты в ожидании, пока меня вновь не пригласили в кабинет. Отец все еще сидел и старался держаться, но его правая рука, сжимавшая выписки и рецепты, явно дрожала. Я сел рядышком и понимающе улыбнулся ему – впервые мне хотелось его поддержать.
– Нам не хотелось бы забегать вперед, – заговорил тот, что произносил слова нараспев, – но, на первый взгляд, мы имеем дело с дивертикулитом. Надо, чтоб нашу догадку подтвердили или опровергли результаты анализов и обследований. Согласно устоявшейся практике, вашему отцу необходимо будет пройти ряд тестов, чтоб мы могли говорить о диагнозе наверняка. Приходите с результатами анализов.
– А что значит «дивертикулит»?
– Давайте я приведу пример. Человеческий кишечник похож на систему сливных труб в здании. Если в каком-то из колен случается затор, который не дает жидкости свободно течь, то из-за этого вся система перестает нормально работать. Тут я никого не хочу пугать, но в вашем случае весьма вероятно потребуется оперативное вмешательство. Скоро мы будем знать точно.
Тут я понял, что этот врач говорит лишь в общих чертах, потому что не хочет брать на себя ответственность, но настаивать я на чем-то не решился. К тому же отец слушал молча и ни с кем не спорил.
– Пока что вам не о чем беспокоиться, – успокоил нас специалист.
Моя деликатность привела к скудости информации – я боялся расспрашивать что-либо при отце. Выражение «пока что» само по себе тут же обеспокоило меня.
Следующие две недели отец подвергался разнообразным обследованиям, сдавал анализы, делал рентген и проходил процедуры (иногда очень болезненные), которые перечислять нет смысла, потому что вы о них и так все знаете.
Получив все результаты, мы записались еще на одну консультацию, как и было договорено. Я вновь сопровождал отца в клинику, мы вновь сидели напротив двух врачей и, сдерживая беспокойство, наблюдали, как скрупулезно они изучают каждую из выписок, озабоченно переглядываются, жестикулируют, обмениваются неразборчивыми комментариями – словом, ведут себя мрачно и загадочно, что не напоминало об атмосфере прошлой нашей встречи с ними. Затем они удалились в смежное помещение, пробыли там несколько минут и вернулись, оживленно болтая, будто хотели пробудить в нас оптимизм.
– Ну что ж, уважаемый, – начал свою речь тот, что держался более официально, – как мы и предполагали, вам необходимо пройти процедуру очистки трубопровода, а то он несколько засорен. Принимая во внимание обстоятельства, мы рекомендуем сделать это как можно скорее. Нельзя давать этому процессу развиваться. Ваше физическое состояние совершенно не препятствует тому, чтоб вы без зазрения совести отдались в руки хирургов.
Отец побледнел:
– Хирургов? В смысле, хирургов?
– В вашем случае проблему можно решить только хирургически.
– Хирургически? То есть меня должны оперировать?
– Да, причем желательно на этой неделе.
– Я не могу. Мне надо работать. Сейчас начало сезона, а я один, и у меня много дел. Никто не сможет подменить меня.
– Здоровье гораздо важнее дел.
– Что вы хотите сказать этим «важнее»?
– Что на этой или следующей неделе вам необходимо лечь на операцию.
– Я не могу.
– Поговорите с племянницей и сообщите, на какую дату и время вас записать.
Выходя из клиники, отец твердил мне, что в операционную его не затащат даже в наручниках, особенно в ближайшее время. Всю дорогу домой он подавленно молчал. Мне говорить тоже не хотелось. Я попрощался с отцом и решил поговорить с кузиной Адассой, которая жила и работала на втором этаже того же дома, но та была занята – вела прием.
Я позвонил ей после ужина. Адасса уже говорила с теми врачами и тоже склонялась к немедленной операции.
– Не понимаю, отчего такая спешка, – говорил я. – Если они считают, что он в хорошем состоянии, то зачем торопиться?
– Ты меня, кажется, не слушаешь. Все говорит о том, что у твоего отца неоплазия.
– Я не понимаю, что ты говоришь. Что такое неоплазия?
– Да как же не понимаешь? Я тебе объясняла свое беспокойство еще до того, как вы получили результаты обследования.
– Новообразование?
– Ты забыл, что пятнадцать лет назад у твоего отца был рак? Похоже – и лучше б я ошибалась, – что у него рецидив.
– Рецидив?
– Это значит, что болезнь вернулась.
– Ты хочешь сказать, что у отца… – я не смог договорить.
– Рак.
У меня был шок.
– И вы не ошибаетесь?
– Возможно, но все к тому идет, и потому мы должны действовать немедленно. В этом я убеждена. Пожалуйста, принеси мне его выписки и карточку.
Я молчал, вдребезги разбитый этой новостью, и не знал, что делать.
– Как они сообщили отцу? – спросила Мария Виктория.
– Сестра объяснила, что его состояние может ухудшиться, что закупорка может быть значительной и вызвать чуть ли не сепсис. И в таком случае необходимо особое хирургическое вмешательство, и чем скорее, тем лучше. Это была очень изменчивая болезнь, и потому оперировать его необходимо в специальном помещении, несмотря на то, что сама операция не сложнее удаления аппендикса, последствия несвоевременного вмешательства могут быть очень опасными.
Отец еще немного поговорил о своих торговых делах, но потом все же сдался. С этого дня и до входа в операционную он погрузился в почти полное молчание: ни с кем, кроме матери, не разговаривал, а я ее успокаивал рассказами о том, что отец ничем не рискует и об операции не переживает.
– Ты не чувствуешь себя виноватым из-за того, что врал ей? – это был вопрос от Марии Виктории.
– Нет. Мне кажется, я уберег ее от излишних страданий. У нее уже был опыт узнавания такой правды.
– Ты общался с отцом тогда?
– Да, но это отдельная история. Зато тогда я впервые почувствовал нечто, похожее на жалость, сочувствие, нежность и злобу одновременно. Я уже признался себе в том, что игнорировал раньше: отцовская болезнь нарушила эмоциональное равновесие в наших отношениях – нарушила нашу независимость друг от друга. Я понял, что где-то глубоко во мне сидит консерватор, который боится любых перемен. Мне было необходимо, чтоб все было, как раньше: без смертей, болезней, расставаний, потому что всякая перемена делала меня беззащитным и загоняла в тупик. В том случае страх взращивал во мне милосердие, потому что я осознал, что этот могучий мужчина стал хрупким и изможденным существом, которое пряталось за стеной молчания, чтоб скрыть свои страх и беспомощность.
Тем апрельским вечером 1965 года мы с матерью отвезли отца в клинику, чтоб подготовиться к операции, назначенной на утро. Отец держался спокойно, но когда медсестра сказала нам уходить, он просил позволить матери остаться. Через полчаса мать вышла из палаты с красными от слез глазами и ничего не сказала. Я так и не узнал, о чем они там говорили, но кое-что понял из того, что отец сказал утром, когда его везли в операционную:
– Пообещай заботиться о матери, – несколько драматично сказал он мне по-испански.
– Не переживай, – ответил я, – мы все будем заботиться о ней, и о тебе тоже.
Мать, Дина, мой брат Родольфо и его жена дежурили у операционной. Кузина была там, потому что ассистировала при операции. Когда его вкатывали в операционный блок, я взял его за руку и сильно ее сжал – позже я понял, что его этот мой жест удивил. Потом они закрыли дверь, и мы переместились в зал ожидания дожидаться результатов.
Нас предупреждали, что это может занять много времени, но, к моему удивлению, Адасса вышла оттуда меньше, чем через час.
– Все нормально, – сообщила она, не вдаваясь в подробности. Все сразу оживились, но я догадался, что кузина недоговаривает. Она отказалась давать какие-либо объяснения и пошла назад в операционную. Через полчаса отца перевезли в палату. Он еще был под наркозом, выглядел бледным и беспомощным.
Я решил ждать прямо у операционной, чтоб перехватить Адассу. Вскоре она вышла в компании тех двух врачей.
– Как все прошло? – спросил я взволнованно.
– Мы не оперировали. Открыли и зашили. Нам там нечего было делать, – сказал один из гастроэнтерологов.
– Не понимаю. Что произошло?
– Слишком поздно. У него метастазы во всех жизненно важных органах: в печени, почках, кишечнике. Мы ничем не можем помочь.
– Совсем ничем, – припечатала Адасса. Ему осталось жить не более полугода.
Я не реагировал. Не успел переварить услышанное и осознать его, но механически ответил:
– Умоляю вас пока не сообщать семье. Нам нужно время. Мы должны быть осторожны.
Тут я заметил, как медики нехорошо переглянулись.
– От семьи такие вещи утаивать неэтично, к тому же, тут ваша кузина, – ответил кто-то из них.
– Ответственность за это будет на мне, – настаивал я, – а пока что, во избежание неправды, давайте просто не делать никаких заявлений.
– Может, лишь несколько дней, но потом, – вступил врач, – состояние вашего отца не позволит вам скрывать правду.
– Хорошо. Мы сейчас хоть чем-то можем помочь ему?
– Почти ничем: можно только уменьшить его страдания.
– И не давать отчаиваться, верно? – добавил я, но все только промолчали в ответ.
Кроме меня и врачей никто не знал, что отец обречен. Подозреваю, что он предчувствовал и догадывался обо всем, но, чтобы не беспокоить нас или подыграть мне, постоянно говорил о том, что уж теперь-то после выздоровления точно начнет новую жизнь.
Чтоб не открывать всей правды родным и не приумножать страдания отца, мы с ним стали общаться, объединенные некими тайными знаниями. Эти ночные беседы, во время которых мы открывали дотоле неизвестные стороны друг друга, будили во мне неуверенность и заставляли под неожиданным углом пересматривать наше с ним общее прошлое.
Мария Виктория и Хосе Мануэль слушали меня с тем вниманием, которое характерно для медиков, когда речь идет о профессиональных вопросах: с интересом, но скрытым. Дина, которая знала это все, потому что была соучастницей этой истории, глядела на меня с нежностью, потому что боялась, что воспоминания ранят меня. На какое-то время я погрузился в собственные мысли, будто мне нужна была пауза, – и все вокруг видели, что это так. Все замолкли – устал не только я.
Уверенность и неопределенность
Мехико, февраль 2002 года
Мы все обречены на смерть, но неотвратимость смерти все равно имеет две неопределенных, расплывчатых характеристики: когда и как. И еще третью, возможно, наиболее всеобъемлющую: насколько осознаем мы эту резкую смену существования несуществованием.
Жажда жизни, неумолимое присутствие которой так же верно, как то, что дважды два четыре, течет в жилах любой культуры, пульсирует в ее традициях. Кто-то хочет быть, как Мафусаил[22]22
Мафусаил (ивр. Метушелах) – в Библии один из праотцов человечества (Быт.5:21–27), прославившийся своим долголетием: он прожил 969 лет. Старейший человек, чей возраст указан в Библии. Согласно книге Бытия, был сыном Еноха и отцом Ламеха, которого зачал в 187 лет. Его имя стало нарицательным для обозначения долгожителя («мафусаилов век»).
[Закрыть], кто-то хочет походить на обитателей Шангри-Ла[23]23
Шангри-Ла – вымышленная страна, описанная в 1933 году в новелле писателя-фантаста Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт». Шангри-Ла Хилтона является литературной аллегорией Шамбалы.
[Закрыть], в иудейской традиции считается, что возраст Моисея был наиболее подходящим для смерти – сто двадцать лет, а вот в Псалмах сказано, что простому человеку отпущено семьдесят лет, а герою Сто двадцать лет, а может быть семьдесят – все это лишь ожидания, а не жесткая определенность. Неопределенность момента смерти пробуждает во всяком человеке переживания и ожидания. Многие пытаются отгородиться от мыслей о конце и не уделяют им особого внимания, разве что размышляют о достойных похоронах.
Мы бережем себя, считая, что смерть придет за другими, но только не за нами – мы неприкасаемые, потому что в нашем сознании нет места смерти. И тут приходит момент истины.
Зачастую наши представления об отпущенном сроке ошибочны, и оттого мы проматываем жизнь, откладывая воплощение планов на какое-то воображаемое будущее. Но будущее – это всегда итог прошлого, оно складывает все с невероятной скоростью, и в какой-то момент мы обнаруживаем, что сосуд с нектаром жизни опустел, если не пили из него с должной осмотрительностью.
Если бы мы осознавали, насколько все быстротечно, то по-другому оценивали запас времени. Мы жили бы иначе? Если бы неизбежность смерти выражалась в точных цифрах: количестве лет, месяцев, дней, часов – изменило бы это нашу жизнь, обогатило бы ее чем-то более значимым? Не думаю. Мы по рукам и ногам связаны физиологией, мы рабы своей химии. Знай мы точную дату своей кончины, чтоб насладиться временем, которое нам отпущено, нас бы хватил паралич или паника из-за этой определенности. Привычка и рутина сильнее стремления к переменам.
Если бы мы знали точный час своей смерти, надежда превратила бы нашу жизнь в невыносимую пытку. Может, мы бы смирились, закрыли глаза и делали вид, что ничего не знаем, только бы сохранить спокойствие?
Сбежав от всего в мексиканскую столицу, закрывшись один в квартире, я записываю этот поток бессвязных мыслей, которые до меня успели переварить и передумать люди поумнее меня. Я даже не понимаю, зачем записываю свои свидетельские показания о жизни, которая одновременно является и чужой тоже, ведь никому это не нужно. Мне все известно о собственной косноязычности, о неспособности развить мысль, если та сто раз не было обдумана, вылизана и записана кем-то задолго до меня. Необходимость писать тут же будит во мне нерешительность по поводу формы, содержания, и, что самое главное, мной овладевает лень, которая коварно подсовывает мне бесчисленные отговорки, – лишь бы только я удержался от этого сумасбродства. Оттого я пишу лишь тогда, когда другого выбора у меня нет.
Я пишу не пером на бумаге, а при помощи ноутбука – он запылен, я редко им пользуюсь, но всякий раз вид его будит во мне чувство вины. В этой богом забытой дыре на улице Чолула на исходе зимы я заточил себя, чтоб воссоздать в памяти детали знакомства, которое произошло более двадцати лет тому назад и сподвигло меня тогда вспомнить о событиях, случившихся еще раньше. Какой смысл в этом рвении, кому предназначен его продукт?
Мне нет утешения. Я все спрашиваю себя: не разумнее ли было бы бросить эти бесплодные усилия и пойти прогуляться с внуком, хотя я уже в таком возрасте, что мне впору было б выгуливать правнуков.
Движим ли я желанием передать что-то, победить смерть, оставив что-то после себя? Не думаю: у меня мало ответов на какие-либо вопросы, а те, что есть, кажутся мне неудовлетворительными.
Я столько раз слышал, что ты существуешь, пока живет память о тебе, что вряд ли уже в это поверю. Все это ложь. Когда кто-то умирает, его больше нет и не будет. Память не предполагает воскресения ушедшего, лишь его образное присутствие в мозгу вспоминающего.
Мои воспоминания не воскресили ни отца, ни Марию Викторию, ни кого-либо из тех, о ком я вспоминаю с нежностью и кто ушел навсегда: тех, с кем я подружился во время скитаний, кто учил меня любви в жестоких боях и бесконечных спорах. С другими же бывало, что разговор оставался открытым, и тогда я многократно в одиночестве договаривал такие несуществующие диалоги, которые мы должны были бы завершить, но уже никогда этого не сделаем.
Пустившись в математические выкладки, я взялся рассчитывать вероятность своей собственной смерти. Не столько меня пугает «когда», сколько «как»: я боюсь, что придется проследовать на тот свет сквозь физическую боль. Остальное меня мало волнует, и дальше будет одна бесконечная тишина.
В месте, где родилась традиция праздновать смерть, а не ужасаться ей, как это принято в западной культуре, я запоздало, с покорностью подмастерья, осознал, что все крутые повороты в жизни существуют для того, чтоб показать, как легко с ней расстаться. Надо просто раскрыться, ощутить их каждой своей клеточкой, и тогда можно чему-то научиться. Все ответы тут же выйдут на поверхность, как бывает, когда долго на что-то смотришь, но никак не можешь увидеть. Я бродил по улочкам Мехико и вбирал в себя бесконечное разнообразие запахов, исходящих из окон и дверей домов, с прилавков лотков, расставленных по всему городу; запахи специй, что будоражили мои ноздри и играючи будили зверский аппетит, дарили наслаждение, вносили нотки чувственности в попытку решить магическую загадку моего собственного существования.
Я впитывал эти соки жизни, заполнявшие все мои полости, мои легкие счастьем, когда я блуждал по торговым рядам, созерцая, как писал Неруда, «помидоры до самого моря»[24]24
Из стихотворения Пабло Неруды «Объяснение» в переводе Ильи Эренбурга. Пабло Неруда (1904–1973) – чилийский поэт, дипломат и политический деятель, сенатор республики Чили, член Центрального комитета Коммунистической партии Чили. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1971).
[Закрыть] и «горы взволнованных хлебов»[25]25
Там же.
[Закрыть]. Эти ряды поражали самобытностью, и их ароматы предательски пьянили, будто молодое вино.
Разве можно не поддаться искушению кориандра и горячего чили, выставленных бок о бок с пикантными жареными ножками, восхитительной головни[26]26
Головня – грибок-паразит, поражающий кукурузные початки. В Мексике результаты деятельности грибка нашли свое место в кулинарии.
[Закрыть], выжаренной на импровизированных очагах умудренными опытом уличными кулинарами, бесконечных тако[27]27
Тако – кукурузная лепешка с начинкой, традиционное мексиканское блюдо.
[Закрыть], энчилад[28]28
Энчилада – кукурузный блинчик с начинкой и соусом чили.
[Закрыть], пикантных кукурузных пирожков с мясом и сыром, возносящих нас до невиданных высот; а этот заговор ароматов, затеянный мешаниной из гуайяв, манго, ананасов и папай? И разве можно допустить горькую несправедливость, не упомнив тонкого аромата текилы, мескаля[29]29
Мескаль – водка из листьев агавы.
[Закрыть], наконец, умиротворяющей сладости пульке[30]30
Пульке – слабый алкогольный напиток из сока молодой агавы.
[Закрыть] – щедрого дара агавы, который подчеркивает величие этого растения. Я стараюсь взять себя в руки и не утонуть в восторгах от этого праздника ощущений, которым обильно одаряет меня все вокруг и который я сладостно-невинно принимаю. Все эти мелкие подарки жизни, которыми мы пренебрегаем как простыми продуктами потребления, желая наесться, так и не поняв глубины их красоты, – как же безудержно и легко мы ими пользуемся. Жизнь заваливает нас символами, аналогиями, примерами, признаками, сигналами, жестами, чтоб мы хоть что-то поняли, как-то осознали ее, но мы, в нашей слепоте, отвергаем все это и оставляем без внимания.
Смысл жизни заключается в ней самой, во всех ее бесконечных проявлениях: я пишу эти путаные размышления, и тут из Буэнос-Айреса приходит прискорбная весть о смерти любимой подруги, и чуть ли не в этот самый момент нам сообщают о новой жизни – о скором рождении нашего внука Матео, который вместе с нашим старшим внуком Мартином только укрепляет нашу иллюзорную убежденность, что все эти совпадения имеют смысл.
Возможно, я делаю эти отступления о личных переживаниях, чтоб отсрочить продолжение рассказа. Прошу прощения, что отвлекся, но я делаю это всю жизнь, или же собираюсь сделать, или хотя бы желаю. Комната в Мехико, из которой я поведу свой плавный рассказ, погружает меня в ворох фактов, лишний раз укрепляющих мою веру в неожиданные подарки жизни.
Когда я рассматриваю пирамиды ацтеков, майя, тольтеков или их руины, меня одолевают доселе незнакомая тоска и надежда, которые кардинально отличаются от эмоций, вызываемых видом археологических памятников других культур и цивилизаций.
Стена Плача свидетельствует об истреблении народа (но не его культуры), его депортации в чужие края и о продолжительном изгнании – уж простите за тавтологию – на чужбине. Но мексиканские руины говорят о факте геноцида во имя Бога, который, помимо уничтожения, привел к внутреннему изгнанию, которое продолжается до сих пор. Аборигены стали изгнанниками на собственной земле – есть ли в мире нечто более страшное?
Отчего изгнание как таковое откликается во мне болью? Потому что мне знакомо страшное его значение: я сын изгнанников, я сам был таким, и дети мои тоже живут в изгнании. Мне б не хотелось стать дедом изгнанников, но чем я застрахован? Наш внук Мартин с самого рождения живет кочевой жизнью: за три неполных года он повидал больше стран, чем взрослый путешественник. Обречен ли он так никогда и не пустить корни? Станет ли он изгнанником? Или в будущем все мы будем вынуждены отречься от своих корней и станем гражданами целого мира сразу? В этом я сомневаюсь, хотя такая перспектива мне нравится.
Какая судьба будет у нашего внука, который еще только ждет рождения в утробе своей испанской матери? Останется ли он жить на земле ее предков, или его постигнет судьба отца? Я не знаю ответа, но вопрос этот меня все равно беспокоит.
Мы продолжаем себя в наших детях и внуках, но – «когда» и «как»? К смерти у меня пока что только этот вопрос.
Жизнь, смерть, изгнание: три этих неизвестных входили в уравнение жизни и моего отца также, который после того бессмысленного хирургического вмешательства возвратился домой с мечтами продолжить работу после выздоровления. Он не знал о том, что мне сообщили врачи: что есть точная дата истечения отпущенного ему срока и что он вряд ли вернется в свой магазин готовить новые модели к следующему сезону. Для него уже не будет существовать ни сезонов, ни небес, затянутых тучами, в которых таятся надежды на прибыль, ни сил на борьбу, ни противников.
Но он не знал обо всем этом и строил новые планы: теперь-то он точно отправится путешествовать, узнавать новое, съездит в родные места – короче, начнет новую жизнь, раз уж есть такая возможность.
И в этих обманчивых мечтах я его поддерживал.
Беседы у изголовья
Я как раз собирался начать рассказ, но Мария Виктория предвосхитила это мое намерение.
– Что же было потом? – одновременно просила и настаивала она.
– Потом, – ответил я, – началось воображаемое выздоровление. Отец выписался и вернулся домой поправляться. Все его тело было утыкано дренажами и покрыто незаживающими рубцами – от этого у него все время был жар. Я делал вид, что верю в его скорое выздоровление, зная, что он обречен и не имеет права на апелляцию.
Лицо его становилось все более бледным, кожа истончалась до прозрачности, а живот его рос и рос, пока не стал похож на верблюжий горб – в утробе его росло и развивалось чудовище.
Ранним вечером после окончания рабочего дня я сидел с ним, подменяя мать. Моя жена Дина тоже часто навещала его, поддерживала и без того заразный его оптимизм – ее присутствие для всех было праздником.
Ежедневные визиты превратились в рутину. Я сидел у отцовской постели, и мы оба молча смотрели телевизор. Иногда кто-то из нас комментировал увиденное, хотя отец едва понимал, что происходит на экране, да его это и не интересовало. Вообще, он часто проваливался в сон, и потому не успевал следить за интригой – когда он просыпался, уже шел новый фильм.
Отец считал себя здоровым человеком, который просто позволяет себе долгий отдых после операции. Все мы разделяли его мнение на этот счет, что позволяло ему фантазировать о скором выходе на работу. Кроме физического присутствия я едва ли мог что-то ему предложить: обнадеживающая ложь и возможность разделить с ним безвкусную, пресную тишину. Наши отношения достигли своего предела.