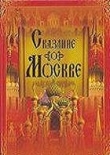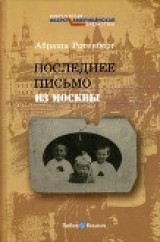
Текст книги "Последнее письмо из Москвы"
Автор книги: Абраша Ротенберг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Те итальянцы были фашистами, они кичились своим итальянским прошлым и гордились своим харизматичным дуче. Но и своим аргентинским настоящим они тоже гордились. И не они одни.
– Они знали, что вы евреи?
– Без сомнения, но у всякого антисемита должен быть хотя бы один приятель-еврей, чтоб обеспечивать алиби. На самом деле всех в округе иммигрантов они держали за грязь.
– В таком случае они были не антисемитами, а просто эмигрантами-ксенофобами. Парадокс… – поделился соображениями Хосе Мануэль.
– Точно, но тут речь не идет о каких-то взаимоисключающих проявлениях. В то время Муссолини и его правительство не декларировали антисемитизм на государственном уровне, как это было в гитлеровской Германии. Он только через несколько лет сдался, разделив со своим союзником подобные взгляды. Они были преданными последователями Муссолини, а в то время к антисемитизму отношение было очень снисходительное – они шли тем же путем, что и их «великий лидер». Зато у нас были другие соседи, которые открыто проявляли свою ненависть к евреям.
– В какой форме? – спросил Хосе Мануэль.
Прежде чем ответить, я сделал паузу. Эта тема была для меня довольно интимной, и я мог не сдержаться, пользуясь возможностью высказаться. Кто такие эти люди, с которыми я был едва знаком, чтоб делиться с ними историями, касавшимися лично меня, – я что, нанялся? Много они знают о страданиях ребенка, пытающегося влиться во враждебное окружение?
Они никогда не имели дела с евреями, и я открываю им такую панораму и под таким странным углом. Они росли при франкизме, хоть и считали себя оппозиционерами, они тоннами поглощали навязчивую пропаганду этого режима, талдычившую о всемирном иудо-масонском заговоре, – смогут они непредвзято воспринять то, что я им о себе рассказываю?
В моей жизни бывали случаи, когда я испытывал подобные сомнения, но я также помнил о своей слабости к подробным исповедям на личные темы при неподходящих обстоятельствах, когда я не мог держать себя в руках.
Из-за их настойчивости, невзирая на имеющееся у меня недоверие, я решил продолжать рассказ, не думая о последствиях.
– Как они проявляли враждебность? Я расскажу, хотя рискую повториться.
Наш приезд стал для соседей неожиданностью, и мое появление они восприняли как провокацию. С того самого дня они насмехались надо мной и развлекались на мой счет.
Я ограничивался тем, что осторожно наблюдал за ними на расстоянии, – я не считал их подходящими учителями испанского. Иногда в компании кузин, а я не решался один выходить из дому, я слышал какие-то выкрики, которых не понимал, и ответные реплики сестер, о значении которых мог только догадываться.
Через месяц после приезда мать отправила меня за сахаром в продуктовый магазин, или, как тут в Испании говорят, в бакалею, в ста метрах от дома. Только я попал в их поле зрения, как они уже стали кричать «еврей, иди в синагогу». Я ускорил шаг, но они пустились за мной и все смеялись надо мной.
Я шел, низко опустив голову, напуганный, и тут один из них обновил репертуар, и остальные стали повторять за ним: «Еврей, убийца Христа! Еврей-убийца! Убийца Христа!» Я не понимал значения этих слов, но не сомневался, что они означали враждебность, – я перешел на бег, а они пустились за мной. У дверей магазина стоял хозяин, галисиец по имени дон Пампин, который вступился за меня. Дословно понимать значение его поучений было необязательно: я глянул на его разгневанное лицо и на то, как он угрожающе жестикулирует. И мои преследователи разбежались. Дон Пампин сказал мне пару утешительных слов: «Не бойся. Они сильные, только когда их много. Однажды ты им покажешь что почем».
Слова дона Пампина (которых я почти не понял) не успокоили меня – несмотря на свое боксерское будущее, я дрожал от страха.
– Травматичный опыт, – заключила Мария Виктория.
– Очень травматичный, но для меня полезный.
– Полезный? Чем?
– Те их слова «еврей, убийца Христа» преследовали меня. Я несколько дней молчал и не рассказывал матери о случившемся. Я не решался выйти на улицу, боясь, что мне снова будут угрожать, хотя мое временное отсутствие и проклятия дона Пампина произвели определенный терапевтический эффект. Когда мать вновь попросила меня сходить в магазин, я отказался, и тогда у меня выспросили о том, что же произошло. Мать не придала этому значения и свела все к шуткам, но я не мог прекратить переживать.
Моей матери нравилось преодолевать трудности. Однажды утром она решила, что пришло время со мной поговорить. Она спросила меня по-русски:
– Ты понял, что тебе кричали?
Я ответил, что очень мало и что я не понял, отчего они так делали.
– Присядь, сынок, я тебе все объясню.
Она была прирожденным педагогом. Как и ее брат, дядя Лузер, она говорила четко и понятно:
– Хоть наша семья долгие столетия жила в России, наши предки были родом из далекой страны Израиль. Этот древний народ породил множество царей, воинов, поэтов, писателей и мудрецов, которые передали нам свой опыт и свою историю в книге под названием Библия.
– Эта книга еще существует?
– Да, и многие ее читают. Когда ты подрастешь, я тебе такую подарю.
– О чем она?
Мама кратко пересказала мне историю о Моисее, о том, как Давид победил Голиафа, несколько легенд про мудрого царя Соломона и затем рассказала, как евреев завоевали римляне и изгнали их прочь из их родных земель.
– Эти мальчики римляне и потому пристают ко мне?
– Есть другая причина. Две тысячи лет назад в Израиле жил человек по имени Иисус – добрый человек, который помогал людям. Римляне схватили его и убили, но обвинили в его смерти евреев, но это была неправда. С тех самых пор нас проклинают за преступление, которого мы не совершали.
Я смутился:
– Но мы же не евреи, мы же советские.
– Но при этом еще и евреи.
– Как так?
– Потому что так говорят.
– Не понимаю.
– Мы и украинцы, и русские, и евреи, а ты совсем скоро станешь еще и аргентинцем.
– Почему я еврей?
– Скоро поймешь.
– Когда?
– Когда подрастешь.
– А как научиться быть евреем?
– Надо учить историю, читать Библию.
– Как сложно! А много надо знать, чтоб быть евреем?
– Очень много! Надо долго учиться. Не знаю, стоит ли оно того. Это ничем тебе не поможет.
– Хочу учиться быть евреем! – воскликнул я.
Мать с недоверием посмотрела на меня.
– Зачем? Не теряй времени зря. Сначала выучи испанский и научись быть аргентинцем, а потом учись уже чему пожелаешь.
Но я не прекращал требовать. В результате меня отправили в еврейскую школу. Я выучил идиш, затем иврит, открыл для себя научные и художественные богатства иудаизма, я стал считать себя евреем, принял эту культуру, а вместе с ней и новое понимание жизни.
– Твоя мать оказалась права? Стоило столько учиться, чтоб стать евреем? – спросил Хосе Мануэль, иронично улыбаясь.
– Думаю, да. Я считаю это одним из наиболее разумных моих решений.
– А в чем прелесть иудаизма? Как бы ты ее определил?
Дина заговорщицки улыбнулась и вежливо обратилась к Хосе Мануэлю:
– Это слишком сложная тема для одного вечера.
Но я не был настроен распространяться о своих связях с иудаизмом. Замечание Дины совпадало с моим настроением, и я ответил Хосе Мануэлю коротко:
– Определить? Форм иудаизма столько же, сколько иудеев. Что объединяет нас, кроме общих предков? Во-первых, решение стать иудеем: иудей – это тот, кто хочет им быть. Затем или, точнее, одновременно – это принятие во внимание, что рядом с тобой есть близкие и ты должен заботиться о них. Для иудеев «другой» существует на одном уровне с «я». Это суть иудаизма и его принцип. А дальше уже идут всякие соображения на эту тему. Этого вечера на них не хватит, к тому же я хочу еще выпить. Закажем еще вина, чтоб скрасить жизнь?
Хосе Мануэль встал, готовый мне угождать:
– Не думаю, что нас обслужат, уже очень поздно. Может, бар еще работает. Думаю, можно попробовать.
– Я не тот, кто откажется от этой попытки, – воскликнул я, всячески демонстрируя одобрение. Мое настроение улучшилось.
В боли и забвении
Хосе Мануэль триумфально возвратился с двумя бутылками отличного риохского вина и, кроме того, принес немного закусок, «чтоб не напиться на пустой желудок». Мы решили, что съедим все сразу, а с вином будем поаккуратнее, поскольку вероятность пополнить запасы была ничтожной. Мое желание говорить иссякало, и я ограничился тем, что слушал беседу Дины с парой, пока не обленился настолько, что перестал вслушиваться. На самом деле рассказы о прошлом разбудили спящие воспоминания о детстве, и во мне непроизвольно открылись шлюзы, которые долго сдерживали поток переживаний, просившихся наружу. Я очень давно не касался этих зон своей памяти, чтоб как следует их поворочать, как это было во время моего недолгого психотерапевтического опыта. Мой психоаналитик запускал пальцы в хитросплетения моих детских травм всякий раз, когда я жаловался ему на неспособность решить свои взрослые проблемы. Иногда он заходил слишком глубоко. Он был упрямым последователем Кляйн[15]15
Мелани Кляйн (1882–1960) – британский психоаналитик австрийского происхождения, автор теории объектных отношений, последовательница Зигмунда Фрейда. Сделала большой вклад в развитие детской психологии – изучала детскую агрессию, страхи, происхождение эмоций, ненависти, жадности и зависти, базируясь на принципе борьбы двух базовых инстинктов – стремления к жизни и стремления к смерти, и рассматривала детское психо как дихотомию «хороших» и «плохих» аспектов личности.
[Закрыть], который, несмотря на ум и человеческие качества, работал со мной, как жестокий фанатик. Всякий раз, когда я безнадежно барахтался, пытаясь решить что-то в своей жизни, он прописывал мне панацею от всех бед: у меня все получится, как только я разрешу конфликт восприятия плохих и хороших сторон моей матери. И хотя я молил его помочь мне преодолеть тревогу, вызванную враждебностью окружающей реальности, он даже не пытался убедить меня поразмыслить о неотвратимости сроков выплаты ипотеки. Я должен был бодро браться за разрешение конфликта между качествами матери, как я их себе представлял, и решение пришло бы само. Его непреклонность выводила меня из себя: я был уверен, что он мог решить мои проблемы при помощи своих рычагов влияния на меня, но он отказывался делать это из профессиональных соображений.
Сейчас тот опыт психоанализа вызывает у меня лишь улыбку. С того времени минули десятки лет, и в памяти остались лишь забавные истории о моем к этому отношении – психотерапевтический эффект выветрился полностью. Я понимаю, что не могу судить о пользе того этапа для моей души, но должен признать, что мой терапевт действительно указал мне на ключевые моменты моего детства. Я больше не просил его помощи, потому что не верил в него или потому что боялся его интерпретаций.
Вопреки страху перед враждебно настроенными хулиганами, я действительно учил испанский на улице вместе с менее злобными соседями. Я столкнулся с задачей, которую нужно было решить: в марте надо было сдать экзамен во второй класс школы, чтобы мне засчитали. Сидеть за одной партой с шестилетками, когда тебе восемь, – это было для меня унизительно. Меня дважды переводили из школы в школу – из русской в украинскую и наоборот, и я тут же достигал уровня других учеников. Почему бы не сделать это еще раз? С экзаменом я справился. Мать верила в мой успех.
Через месяц после приезда, то есть в декабре, я освоил испанский на элементарном уровне, и к новому году уже мог свободно рассуждать о простых вещах. Сложности были с правописанием: я знал кириллицу, но никто меня не учил латинскому алфавиту, и у меня были серьезные трудности с чтением и еще большие с написанием слов, которые я уже знал.
Сестры были заняты и не могли мне помочь. Отец нанял учительницу за две недели до экзамена. Он пошел простым путем: нашел соседку-старшеклассницу, в жизненные планы которой явно не входила работа в сфере образования. С тех пор отец злился на меня еще больше, требуя, чтоб я сидел за учебой чуть ли не по двадцать четыре часа в сутки и выучил за две недели все, что требовало как минимум пары месяцев интенсивной работы. Принуждение с его стороны унижало меня и усиливало неуверенность в себе.
В день экзамена я был страшно напряжен. Отец с моей молодой учительницей (которая сделала для меня все, что было в ее силах) отвели меня в школу. Первое впечатление было угнетающим. Учителя носили белую форму, они казались мне то ли врачами, то ли медсестрами, а сама школа – больницей. Одна властно выглядевшая учительница отвела меня в класс; я оказался единственным экзаменуемым. Перед партами висела доска, и на ней мелом был написан текст.
– Садись, – сказала учительница, – и слушай, что я буду говорить.
Я сел за первую парту.
В те времена обращение на «ты» существовало только в литературе и в системе образования. Улица обращалась на «вы», но эта вежливость полностью нивелировалась интонацией. Разрыв между тем, что существовало на письме и в реальной жизни, вызывал у меня нечто сродни шизофрении, а в тот решающий момент – сильное замешательство. Пятьдесят лет спустя литература, наконец, заговорила настоящим языком. Но тогда, за экзаменационной партой, это «садись» и «слушай» звучало для меня, как тарабарщина на каком-то экзотическом языке.
Экзаменаторша выдала мне тетрадь, карандаш и резинку. Инструкции были просты:
– Ты должен написать ответы. У тебя целый час. А потом будет устная часть экзамена.
Учительница вышла из класса, и я остался один. Отец стоял за дверью и сторожил меня. Я пытался прочесть текст, написанный мелом, но не мог: в голове был туман, и я забыл все, что успел выучить. Я не мог разобрать ни слова. Я неподвижно сидел за партой, вперившись в меловые письмена в надежде, что это мне как-то поможет. Я был в панике.
Вскоре отец понял, что что-то пошло не так.
Увидев, как я, будто парализованный, отсутствующе уставился на доску, он попытался жестами привлечь мое внимание. Я не сразу заметил его полный ненависти и ярости взгляд и угрожающие жесты правой рукой, которыми он пытался показать, что меня ждет, если я не пройду, испытание как следует. От его поведения мне стало еще больше не по себе, но я ничего не мог с собой поделать.
Прошло полчаса, учительница вернулась. При виде пустой страницы она сильно удивилась.
– Что с тобой? Хочешь, чтоб я помогла? – спросила она дружелюбно. Но результат получился совсем неожиданный: я расплакался и не ответил ей.
– Если помощь тебе не нужна, то пиши. Ты должен все написать, чтоб мы могли тебя принять.
Но я не мог справиться с травмой. Я видел, как учительница говорила с отцом и девушкой, которая меня учила, видел, как та расплакалась и как белеющее отцовское лицо выделялось на фоне темного коридора, приобретая все более страшные черты. Экзаменатор вернулась и, увидев, что я так ничего и не написал, сказала, что экзамен окончен. Я разревелся и проплакал всю дорогу до дома, а отец шел радом со мной и орал:
– Идиот! Мой сын идиот!
Если бы мой психоаналитик знал об этом происшествии, уверен, что он посчитал бы это агрессией против отца в рамках садомазохистских отношений. Некоторым образом это было так: мы с отцом этого поражения не пережили. Думаю, в нем росла враждебность ко мне, и с тех пор наше сосуществование окончательно вошло в пике. Помимо поражения, мне надо было сносить другие унижения: я пошел в первый класс, я был самым старшим в классе, самым высоким, самым бестолковым, но через несколько месяцев я с этим справился. Я научился. В середине года меня перевели в следующий класс, где учились дети моего возраста. Тогда я начал ходить в еврейскую школу.
Пока я вспоминал об этом эпизоде, до меня доносились, будто фоновая музыка, голоса моих собеседников. Я различил несколько отрывочных фраз и понял, что Дина описывала свой опыт в музыкотерапии, – тема, бесспорно интересная обоим врачам. Мне показалось, что беседа затихала, теряя изначальную живость. Я не попытался проанализировать свои догадки, во мне будто распрямилась какая-то пружина, я вклинился в обсуждение и начал говорить, будто меня попросили продолжить рассказ. Заметив удивленное Динино лицо, я понял, что повел себя бестактно, но уже не мог остановиться.
– Весна пронеслась быстро, вскоре наступила осень, и вместе с ней начались занятия. Через несколько месяцев я заболел гриппом: подскочила температура, меня тошнило, и навалилась хроническая усталость. Я видел тревожное лицо матери, когда та сидела у моей постели. Я помню, как отец наклонялся надо мной, напряженный и озабоченный. Я потерял связь с реальностью. Я худел, пока не стал совсем прозрачный. Я что-то все время говорил, а затем бессильно проваливался в сон.
Во время болезни мне снилась наша украинская семья. Я был у бабушки с дедом, общался с дядьями и с кем-то из двоюродных братьев. Вспомнил, как я умыкнул у одноклассника книгу. Когда мы уезжали из СССР, я взял на память пластинку с юмористическими рассказами, которую получил в подарок, но, кроме того, взял, точнее украл, нашу общую с другим одноклассником книгу. Довольно долго я ощущал вину за это преступление. В Буэнос-Айресе я прятался, чтоб послушать пластинку и почитать книгу: упражнялся в ностальгии и сохранении языка. Во время болезни я забыл оба языка. Через неделю я начал приходить в себя, но мне по-прежнему было все равно, что происходит вокруг. Голос матери доносился издалека, но я не давал себе труда попытаться различить хоть слово: мне нужны были отдых и сон. Болезнь отступала – одним утром я проснулся здоровым. Увидев улыбку на моем лице, мать подошла и сказала мне по-русски что-то, чего я не понял. Я хотел ответить ей, но не знал, как это сделать: не мог вспомнить ни одного русского слова. Полная пустота, природу которой нельзя было объяснить логически. Жестами я дал матери понять, чтоб она принесла мне книгу и пластинку. Я не узнавал кириллических букв, не мог прочесть ни одного предложения, а когда слушал голоса на пластинке – ничего не мог разобрать: грипп вызвал осложнения, сопровождавшиеся амнезией, и уничтожил все мое языковое состояние. Одна-единственная неделя вырвала из моей жизни оба языка, русский и украинский, и я так их себе и не вернул. Этот феномен годами позже мой психоаналитик проинтерпретировал как отказ от прошлого и желание влиться в аргентинскую реальность. Если все было так, как он говорил, то это была высокая цена – расстаться с двумя языками в обмен на новые, которыми я так до конца и не овладел. Это был слишком жестокий грипп: он лишил меня моего настоящего голоса.
Когда я закончил рассказ, все молча замерли.
– Как вам история? – поинтересовался я.
– Очень занятно, – ответил Хосе Мануэль. – Не верится мне, что можно вот так все забыть. Подозреваю, ты сможешь кое-что вспомнить по-русски.
– Почти ничего. Когда я вернулся в Москву в 1969 году, я выучил пару слов, будто турист, но не более.
– Касательно этой поездки, – вмешалась Дина, – меня интересует твое здоровье. Что бы произошло, если бы те последствия гриппа повернулись в Москве вспять?
– Тебе пришлось бы выучить русский, чтоб со мной говорить, – ответил я.
– Больно надо. Разве оно бы того стоило? – сказала Дина смеясь.
– Долой кокетство. Думаю, ради меня ты бы хоть китайский выучила.
– Когда ты забыл язык, как ты общался с людьми? – допытывался Хосе Мануэль, которого очень заинтересовал мой феномен.
– Я перестал говорить по-русски и по-украински и начал изъясняться на своем ломаном испанском, даже с матерью, хотя мы оба фальшивили. Через несколько месяцев мы заговорили на идиш, и с тех пор – вплоть до ее смерти – он стал нашим общим языком. Я и с отцом говорил на идиш, и с дядей, а с сестрами – по-испански. Такое впечатление, что у каждого поколения был свой язык. Когда я утратил способность говорить на родных языках, идиш стал важным инструментом общения. Позже я смог насладиться литературой на этом языке и его особым духом – духом, полным юмора.
Бокал вина послужил бы прекрасным оправданием повисшей паузе. Я поднял бокал, чтоб произнести тост.
– За то, что мы теряем, – сказал я, чтоб не молчать.
– За то, что мы приобретаем, – сказала мне наперекор Дина, показывая мягкую оппозицию моей ностальгии.
– За жизнь, – сказала Мария Виктория.
Это меня удивило.
– Отчего ты улыбаешься, – спросила Мария Виктория заинтересованно.
– Не боишься заразиться?
– Не понимаю, заразиться – чем?
– «За жизнь» – это классический еврейский тост. Он происходит из иврита, но на идиш звучит так: «Лехаим». Тебя не заботит такое совпадение?
– Напротив, я рада ему. Этим вечером я выучила свое первое слово на идиш. Выпьем же… как ты сказал?
– Лехаим.
– Давайте все скажем «лехаим».
И мы подняли бокалы.
Письма
Хоть я и считал себя убежденным последователем Омара Хайяма, который считал вино богатством, а таверну – своим дворцом, мои возможности следовать его учению жестко ограничивались из-за склонности к беспокойству. Наши торжественные возлияния погрузили меня в спячку, отгородившую меня от окружающих, но благодаря недюжинному опыту я с честью справлялся с ней – молчал с полуприкрытыми глазами, изображая интерес к беседе, и одновременно наслаждался бесконечной пустотой в голове. Полная любезности улыбка, отпускаемая время от времени в ответ на вопросительный взгляд, молча подтверждала, что я тут и готов участвовать в разговоре. В то же время окружающие были благодарны за молчание, поскольку могли, наконец, высказаться. Помнится, сын рабана Гамлиэля, одного из величайших талмудических мудрецов, говорил, что всю жизнь прожил в окружении мудрых, всезнающих людей, которые считали, что для человека нет ничего лучше молчания. Через две тысячи лет и при совершенно других обстоятельствах молчание превратилось в признак такта. В моем случае это был единственный путь избавить мир от выкидышей моей вдохновленной винными спиртами болтливости.
Герметично упаковав язык за зубами, я слушал Динины описания того, как при помощи голоса проявляется сущность индивида, – это была излюбленная ее тема, лежащая на пересечении музыки и педагогики. Мария Виктория и Хосе Мануэль внимали ей с интересом – задавали наводящие вопросы, комментировали ее слова и анализировали примеры из ее богатой практики. Совершенно не желая того, я вдруг нащупал ком бессвязных по сути своей ассоциаций, которые вывели меня к воспоминаниям о детских годах в Аргентине.
Всего через несколько недель после нашего переезда я зажил полной жизнью – совершал ошибки, выносил издевательства, терпел фиаско, подружился с одними и участвовал в травле других, но так и не наладил отношений с отцом. Разочарование мое почти не выплескивалось наружу, но под слоем видимого спокойствия зарождался конфликт. Я проявлял чудеса невидимости: посещал две школы одновременно – начальную в первой половине дня, а еврейскую во второй, запоем читал, но только украдкой, поскольку отец подходил к вопросу учебы формально и требовал, чтобы я налегал на учебники, а не на литературу, к которой относился как к бульварному чтиву – то есть, как потере времени. «Не читай, учись» – таков был его девиз.
Инстинкт выживания выгонял меня на улицу, чтоб уберечься от встреч с отцом, – я не желал его видеть и не хотел, чтоб он видел меня.
Я разрывался между тоской, которую вызывал во мне его вид, и страхом перед ним, от которого страдала моя мать и который был вызван постоянными всплесками агрессии отца по любому поводу, особенно во время приема пищи: из-за моей жадности, моих высказываний, возмущавших его, моей халатности в отношении учебы или просто от одного моего вида. Мы с ним испытывали сходные чувства: взаимную антипатию, злость, нетерпимость друг к другу. Когда я не мог сдержаться, бежал к матери с жалобами. «Зачем ты привезла меня сюда?» – это был излюбленный мой упрек. Я не получал ответа, а тот, который она предлагала, меня не устраивал: «Он так ведет себя, чтоб ты тоже когда-нибудь смог стать отцом».
Когда родился мой брат Родольфо, семейное обожание, мое в том числе, стало полностью направлено на него – я делал все, чтоб защитить его. Я превратился в его телохранителя – он был на десять лет младше меня – и иногда я заменял ему родителей. Его присутствие немного утихомирило отцовскую враждебность ко мне, но не искоренило ее: он просто слишком был занят здоровьем брата, чтоб тратить время на меня. Позже градус напряжения снизился, но не исчез полностью, когда я стал участником молодежного сионистско-социалистического движения, пропагандирующего утопические представления о мире.
С самого первого дня в Буэнос-Айресе я с нетерпением ждал писем от родственников из Советского Союза. Я забыл родную речь и потому полностью зависел от матери, которая мне их зачитывала. На самом деле единственным нашим корреспондентом была бабушка. Мы получали ее послания раз в полгода. Сначала она писала на русском или украинском, а потом частично перешла на идиш. И я, в свою очередь, тоже отвечал ей на ломаном идиш. Напрягаться не приходилось: письма приходили все реже, а потом и вовсе перестали.
Внутренняя политика Советского Союза все более заметно поворачивалась к закрытости и тоталитаризму. Общество жило в страхе, оно практически задыхалось. Судебные процессы против товарищей-предателей, репрессии против троцкистов или тех, кого обвиняли в троцкизме, демонизация любых связей с заграницей, коммунизм как самоцель на уровне всей государственной структуры, которая подменяла истинный революционный дух извращенным популизмом, – вот неполный перечень инструментов, при помощи которых в корне менялся ход истории. В таких обстоятельствах молчание было единственным способом выжить. Последнее письмо от бабушки пришло в конце 1937 года. Я запомнил его содержание, потому что оно потрясло всю семью. Бабушка писала на идиш (и потому я смог это прочесть), что «все счастливы и довольны, как в девятый день ава»[16]16
Ав – одиннадцатый месяц по иудейскому календарю, выпадает приблизительно на июль – август по Григорианскому календарю.
[Закрыть]. Эта фраза, прочитанная без должного понимания, почти ни о чем не говорила Девятый день ава роковой для всех иудеев – в этот день много веков тому назад произошли события, закрепившие за ним титул «злосчастного дня»: царь Навуходоносор сровнял с землей Первый иерусалимский храм, построенный при царе Соломоне, а пять веков спустя римский император Тит уничтожил Второй иерусалимский храм, и, в довершение ко всему, эта дата совпадает с датой изгнания евреев из Испании по приказу Изабеллы Кастильской и Фернандо Арагонского[17]17
Изабелла Кастильская и Фернандо Арагонский – испанские король и королева (XV век), вошедшие в историю под общим именем Католические монархи; известны тем, что укрепляли позиции Святой католической церкви, изгоняли из Испании нехристиан.
[Закрыть]. Согласно традиции, девятый день ава – день скорби, поста и молений, и оттого бабушкина фраза своей абсурдностью донесла до нас глубину ее несчастья и скрытый намек. Было ясно, что не стоит верить официальным заверениям о счастливой жизни в этой стране, поскольку те не соответствовали действительности: строительство социализма в отдельно взятой стране вело не в рай на земле, а в совершенно противоположное место. Надо обладать большой смелостью, чтоб позволить себе говорить в таких выражениях, – они считались компроматом во времена цензуры, тотального контроля и подозрительности по отношению ко всему на свете.
Текст письма вызывал кучу вопросов. Это было одно скрытое послание, или в письме было еще что-то, что предстояло расшифровать? Она имела в виду ситуацию в стране в целом или положение дел в семье? Вскоре мы получили ответы и на эти вопросы.
Вместо того чтоб разделить с семьей тяжкие переживания, ясно обрисованные в бабушкином письме, дядя Срулек воспринял прочитанное как лишний аргумент в пользу его антикоммунистической позиции.
– Я знал, что большевизм обернется катастрофой, – орал он. – И это только цветочки. В наказание за коммунистов на мир был ниспослан нацизм, и они вместе уничтожат весь мир.
Моя мать, напротив, гораздо больше переживала о людях, а не о политике.
– Что станет с ними всеми, с нашими братьями и сестрами, с нашей семьей? Какое будущее их ждет?
Эти антикоммунистические выпады дяди Срулека в действительности адресовались мне и матери, поскольку он путал нашу ностальгию по советскому прошлому с одобрением режима, тогда как на самом деле в нашем случае речь шла об истории несчастной любви, которой он, одолеваемый предрассудками, никогда не понимал. Мать никак не реагировала на его провокации, чтоб избежать никому не нужной конфронтации, но дядя Срулек был настроен поспорить и не упускал возможности развить дискуссию, разбрасываясь аргументами о либерализме и своем независимом прошлом.
Всякое бабушкино письмо мы перечитывали по сто раз, чтоб не пропустить ни одного зашифрованного сообщения, но в этом последнем письме от 1937 года было о чем подумать, поскольку среди мелких и малоинтересных новостей из жизни родственников затесалась фраза, приведшая всех в замешательство: «Вот уже много времени прошло с отъезда Мойши, а мы так и не получили от него ни одного письма».
Дядя Мойша состоял в Коммунистической партии. Он был женат на партийной активистке, и детей у них не было. Как объяснить его долгий отъезд и – что еще более непостижимо – факт, что он не писал и не связывался с родителями? Несомненно, родственники не получили никаких объяснений и даже не решились выяснять причину его отсутствия во времена, когда власть изобличала скрытых заговорщиков и предателей: даже великие деятели революции, первые лица партии и правительства были преданы суду Они были вынуждены признаться в «истинных причинах своей партийной активности»: все они были врагами народа, врагами власти, партии и социализма и даже самих себя, так что в память о героическом прошлом и в знак раскаяния они сами же ходатайствовали о суде и приговоре. Коммунисты всего мира, восхвалявшие их еще недавно, теперь их тоже осуждали из солидарности. Через много лет, после доклада Хрущева на XX съезде, часть правды о сталинской политике и ее методах борьбы с инакомыслием получила официальную оценку. Внезапно те же самые коммунисты признали, что Сталин на самом деле был жестоким диктатором, и постфактум осудили его, прежде восхваляемого и превозносимого. А жертвы его политики уже умолкли навсегда. Среди них был и мой дядя Мойша, верный коммунист из затерянной украинской деревни. Чем он мог угрожать партии? Какие проступки он совершил, чтобы быть приговоренным к высшей мере? Если видные политики, обвиненные в измене, имели право на суд, то почему дядю Мойшу не судили хотя бы формально, чтоб у него была хоть какая-то возможность выступить в свою защиту?
– Того, кто хочет водить дружбу с волками, а по-волчьи выть не умеет, стая пожирает первым. Чего Мойша ожидал от коммунистов? Лучше б мне ошибаться, но ему бы и Бог не помог, – горько размышлял вслух дядя Срулек.
Мать не могла сдержать слез, вспоминая счастливые дни, когда стряпала для Мойши и своих братьев с сестрами. Отец плакал и все твердил: «Бедный Мойша, бедный Мойша, несчастный мой брат», – и затем, вытирая глаза платком, сказал с надеждой:
– Если он не совершал никакого преступления, за что его могли покарать?
Услышав эти слова, дядя будто с цепи сорвался, он разошелся так, будто отцовские слова оскорбляли лично его. Он заорал на идиш:
– Коммунистам и не нужно было, чтоб он совершал что-либо! Достаточно просто говорить, что он сделал! Хватит строить иллюзии! Они уже убили Мойшу.