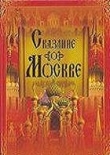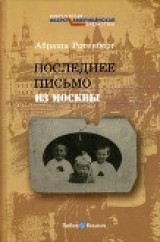
Текст книги "Последнее письмо из Москвы"
Автор книги: Абраша Ротенберг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
– Зачем ты говоришь такие страшные вещи, – попытался сдержанно ответить ему отец.
– Потому что я знаю, что говорю, а ты, как всегда, ни черта не понимаешь! Ни черта! – кричал тот в ответ. – Не хочу тратить время на твои дурости! Не хочу больше говорить!
Я видел, как отец побелел и как на лице его отразился ужас – в этот момент он напоминал меня. Крики дяди и то, как смиренно сносил их отец, – в основе этого лежал тот же механизм, который определял мои отношения с отцом. Но в той ситуации отец был на моем месте, а дядя – на его. Мне было жаль отца, а в отношении дяди я чувствовал обиду и с тех пор старался избегать его. За много лет конфликт между дядей, то есть старшим папиным братом, и отцом, то есть младшим, нарастал, пока не превратился в неразрешимую семейную проблему. Будучи взрослым человеком, отец уже мог освободиться от его опеки, но вместо этого он долгое время отказывался понимать, что его страхи имеют ту же природу, что и мои, и что именно он является их причиной. Но это другая история, ее я примешал сюда случайно, вспоминая о последнем бабушкином письме.
После того письма наступила долгая тревожная тишина, продлившаяся десять лет, за которые Европа успела пережить еще более жуткие преступления. Мы перестали получать вести от родителей отца и сестер матери, которые раньше тоже иногда ей писали. Молчание было предвестником страшных событий. Выкосив революционную партийную верхушку, Сталин окончательно укрепился как тиран, наводящий ужас на весь Союз, и к этому внутреннему страху добавилась еще и внешняя угроза: агрессивная политика нацистской Германии, ее антикоммунистический настрой, что, как ни парадоксально, не помешало Гитлеру и Сталину заключить сумасшедший пакт о ненападении. Он облегчил воплощение захватнических планов Гитлера и стал огнивом, от искры которого в 1939 году разгорелась Вторая мировая война. Спустя два года Гитлер нарушил условия соглашения, и его войска вторглись в СССР – политическая ошибка, которая привела его к катастрофе. Во время войны нацисты имели возможность воплотить свои антисемитские планы, организовать лагеря смерти и таким образом ускорить решение еврейского вопроса на глазах у безразличного мира, который даже некоторым образом стал их пособником.
Когда немцы захватили Польшу и поначалу теснили в боях Красную армию, в наш дом пришло горе. Мои бабушка и дедушка и другие родственники матери отца жили недалеко от польской границы. Стремительное продвижение вермахта не оставляло иного выбора, кроме бегства куда подальше. Несомненно, они бежали, опасаясь смерти, – они были евреи, да к тому же коммунисты. Судя по новостям, которые изредка доходили до нас, нацисты и некоторые украинцы, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, беспощадно уничтожали и тех и других. С тех пор как немцы вторглись, и особенно после того, как в нашей семье начались разногласия между отцом и матерью, мама часто повторяла одни и те же слова, пытаясь выразить свою боль:
– Бедная я, несчастная, никого у меня на свете больше нет, вся моя семья погибла.
Ее причитания были оправданны – несомненно, семья рисковала жизнью, спасаясь бегством, если еще не была уничтожена.
Русские не сдали Ленинград и вышли победителями из Сталинградской битвы, начав таким образом активное контрнаступление – нацисты не хотели сдаваться, из последних сил сопротивляясь армии, снегам и морозам. Но Красную армию им было не остановить, и отступление захватчиков пробило дорогу к окончательной победе.
Я повесил в своей комнате карту, на которой ежедневно цветными флажками отмечал отступление нацистов, терпевших одно за другим поражения.
– А если наша семья спаслась? А если они выжили? – мучили мы себя вопросами, находя облегчение в надежде.
В то время как миллионы людей умирали в боях, от бомбежек, в по-научному спроектированных концлагерях и лагерях смерти, нейтральная Аргентина, ведомая военной хунтой, симпатизировавшей нацистской Германии (пытаясь оправдаться и в последний момент объявив войну), пользовалась голодом в Европе, наживалась на войне и достигла невероятного уровня благополучия. В стране произошли фундаментальные перемены, даже не столько экономические, сколько социальные, особенно в столице и пригородах: крестьяне, которым не хватало работы в сельском хозяйстве, хлынули в индустриальный Буэнос-Айрес в поисках лучшей жизни. Люди из деревень составляли основную массу неквалифицированных рабочих в новых отраслях – производство и продажа товаров первой необходимости. До этого времени страна рассчитывала в основном на импорт. Некоторые иммигранты с опытом торговли в своих родных странах и крестьяне с коммерческой жилкой организовывали многочисленные предприятия, которые занимались в основном металлургией и текстилем, и в скором времени превратились в процветающих предпринимателей. Рабочие и крестьяне поднялись ступенькой выше, им стали доступны прелести достатка. Благодаря этим переменам уровень жизни вырос: все, что до войны было недоступно – путешествия, ежегодный отпуск, качественная одежда и еда в достаточном количестве, уверенность в завтрашнем дне, – все это стало составлять необходимый и обязательный минимум, гарантированный для всех. Перонизм оставил свой авторитарный отпечаток: недолговечное счастье и долговременная практика подхалимажа произвели своеобразный продукт долговременного пользования. Если коротко, то мои дядя и отец, предприимчивые коммивояжеры, продававшие текстильные товары от дома к дому и работавшие понедельно, превратились в «предпринимателей» и держали «производство» непромокаемой одежды: они выросли, поднялись на ступеньку выше и пожинали плоды своей предприимчивости – смогли даже купить автомобиль и отстроить самый шикарный в округе дом для обеих семей в пятидесяти метрах от своего старого дома, ниже по улице Морелос. Переезд в другой район был исключен из-за непонятной привязанности к месту. Смена места жительства воспринималась моими родственниками как измена, чудачество, и потому не была частью их менталитета и образа жизни.
Мы радовались жизни в новом доме, который был воплощением всех наших представлений о роскоши – облицованная мрамором лестница, цветные витражи, когда в осенний полдень 1947 года, в разгар холодной войны, получили письмо из Советского Союза.
Я помню, как все было. Мы как раз сидели на кухне, обедали – у нас было два стола, по одному для каждой из семей. Мать и тетка готовили, но каждая для своих – практические соображения неизбежно выливались в удвоение усилий. В полдень, когда отцы приходили с «производства», а дети из университетов и школ, все собирались в кухне на обед. Когда между отцами наступало перемирие, мы даже перекидывались репликами между столами, но когда они ссорились (а это случалось довольно часто), все напрягались и в помещении повисала тяжелая тишина – никто не решался хоть что-то сказать, поскольку одно слово могло спровоцировать лавину брани. Даже не помню, как нам удавалось жить в таком напряжении.
Это письмо как раз «пришлось к столу» – в семье было перемирие, мы ели все вместе, и тут почтальон принес дневную корреспонденцию. Письмо затесалось меж рекламных листовок и прочих малоинтересных бумаг: счетов, объявлений, банковских извещений. Мать редко разбирала почту и сестры тоже, в то время как я ожидал письма личного характера, которое следовало уберечь от чужих глаз.
Кузина Адасса просмотрела, что пришло, и тут же удивленно сообщила:
– Это письмо из России.
Мы повскакивали со стульев, желая поскорее узнать подробности. Сестра распечатала конверт, где получателем значилась семья Ротенберг и не уточнялось, кому именно он предназначен. Марки были советские, так что письмо пришло оттуда – но кто его написал?
Сестра выглядела расстроенной.
– Тут по-русски, – отрешенно произнесла она и передала письмо моей матери, которая тут же взялась читать его, точнее, переводить вслух на идиш.
Я помню текст почти дословно:
«Дорогие мои, вот уже два года, как закончилась война, и я наконец могу вам написать. Мы с женой живем в большом городе вместе с сыном и дочерью. У нас все хорошо, но мы единственные, кто пережил эту войну. Родители, братья, их семьи были убиты. Из семьи Дуни не выжил никто. Со слезами на глазах сообщаю вам эту страшную новость, но вы же должны знать правду. Желаем вам всего хорошего и надеемся на скорую встречу».
Письмо было без подписи, там не было обратного адреса и вообще ничего, что могло бы указать на отправителя, но мать догадалась (и даже вспомнила почерк), что это был Арон, отцовский брат-инженер.
Анонимность письма можно было объяснить тогдашней международной обстановкой и репрессивной политикой режима. В начале холодной войны советская власть строжайше запретила контакты с заграницей – любой из них мог расцениваться как измена родине и шпионаж в пользу врага, и потому нарушителю грозило суровое наказание вплоть до смертной казни – как это позже произошло со многими еврейскими деятелями культуры, ложно обвиненными в измене. Осмотрительность дяди Арона также свидетельствовала о слабости системы и ее желании удержаться у власти любой ценой.
Впервые за всю жизнь семьи в Аргентине мы обнялись и разрыдались. Это был момент, когда мы по-настоящему почувствовали себя одним целым, момент, когда мать впервые по-настоящему ощутила боль и одиночество, сильные, как никогда ранее, хоть такой исход она и предчувствовала.
Воспоминания об этих двух письмах, бабушкином и дяди Арона, ассоциативно вывели меня к третьему. На объяснение этой цепочки ушло бы много времени, но связь эта возникла в голове мгновенно.
Я все еще сидел, развалившись в удобном кресле, в отеле посреди предгорий Кастилии и, прикрыв глаза, делал вид, что участвую в беседе, за ходом которой едва ли следил. Иногда я выхватывал какие-то остроумные фразы, которые, будто молнии во время летней грозы, прошивали мой сон и так же быстро исчезали. На продуктивный разговор я был неспособен и потому легко отдался потоку ассоциаций, несущему к воспоминаниям о том третьем письме, полученном годы спустя.
Третье письмо я получил уже не в Буэнос-Айресе, а в Иерусалиме, где находился в 1951 году, – учился там, старался как-то залечить травмы, нанесенные отношениями с отцом, боролся с покорностью, сомнениями и неопределенностью. Мне было необходимо найти самого себя, повзрослеть и приобрести жизненный опыт – я участвовал в организации, волонтеры которой занимались защитой прав и интересов бедных и помощью им. Можно ли было придумать более подходящее место, чем новопровозглашенное государство Израиль с его чистыми сионистскими идеалами и социальной чувствительностью, чтоб попробовать начать жизнь заново? Израиль был ориентирован на то, чтоб восстановить свое библейское великолепие, вновь стать светочем социальной справедливости, мудрости и равенства, и я хотел быть частью этого процесса. За эти несбыточные мечты я ухватился, чтоб как-то взять себя в руки, – в то время я был одержим политическими миражами, и одержимость свою я осознал годы спустя, когда залечил свои раны и заработал новые, гораздо более тяжелые, требующие более серьезного и длительного лечения. А тогда я все силы вкладывал в строительство утопии.
Мало было в моей жизни моментов, когда я наслаждался бы такой свободой, как в Иерусалиме тех времен – добродушном, мозаически сложенном, провинциальном. Тогда я впервые почувствовал себя иудеем, то есть дискриминированным, не таким, как все, человеком, но при этом – человеком на своем месте.
Этот город тогда превратился в своеобразный лагерь по обмену опытом, там собрались евреи со всех концов земли и те, кто выжил в лагерях смерти. Все они были готовы совершить новый переход через пустыню – родиться заново, встать и идти. Это было не так просто: многие не знали языка, у кого-то не было документов, большинство же попросту вернулись из ада. И, тем не менее, они из последних сил начали борьбу, потому что еще одного поражения позволить себе уже не могли – это был последний шанс. Ни одна нация в мире их не приняла бы, надежда была только на самих себя.
Были и другие новые соотечественники, которые казались мне чужаками, – евреи с востока. У них были свои традиции, которые нам казались странными: несколько жен при одном муже, с множеством детей, и все совершенно нищие. Они были будто с другой планеты, но нам они были братьями. Необходимо было помочь им влиться, обучить их здешней жизни, и быстро – столетие за месяц – пройти путь от плуга до трактора. И хоть на это ушли годы, зато теперь они оживляют собой пейзаж, вносят в него яркие краски.
Я стал частью страны, поступил в университет, подружился с людьми из нового окружения и тратил себя всего без остатка. Иногда я спрашивал себя: как же можно было жить без этой свободы раньше?
За время, проведенное в Израиле, я почувствовал себя совсем другим человеком, мое понимание собственной жизни в корне поменялось, как и привычки, и ценности: я узнал, где заканчивается утопия, как она ограничивается рамками реальности, а значит – от самой себя отрекается. Я не сомневался, что будущее мое неразрывно связано с будущим Израиля, что я сросся с ним, и менять это в мои планы не входило: я занимался экстремальной журналистикой, учился в университете, у меня была куча друзей, и то, как я сливался с этой средой, было лучшим доказательством того, что это мое место, мой настоящий дом.
Дважды в неделю я ходил на почту за письмами, но, надо признаться, что раз в две недели получал там не только письма, но и средства к существованию. Во времена дефицита (150 граммов мяса в неделю) я был в привилегированном положении: мать регулярно присылала мне посылки с мясными продуктами, на которых держался не только я, но и мои приятели, с которыми я обязательно делился. Стал многим интересен.
Однажды в полдень я забирал корреспонденцию из ящика номер 808 в центральном почтовом отделении. Я был полон бодрости после долгой пешей прогулки от Терра Санта[18]18
Терра Санта – это здание ныне принадлежит ордену францисканцев, в 1949–1999 гг. в нем располагался Иерусалимский университет.
[Закрыть], где временно располагался факультет экономики, до здания почтамта. Ходить по Иерусалиму пешком – это всегда и прогулка, и экскурсия: всякий раз вы наслаждаетесь визуальным богатством города и видом людей на улицах – такой непроизвольный и очень приятный туризм. Я все пытался восстановить в памяти свой разговор с одной польской иммигранткой, чьи родители погибли в Аушвице, – она приехала в Израиль одна и, преодолев всевозможные препятствия, добилась стипендии на моем факультете в Иерусалимском университете. Она была так благодарна за возможность, которую ей предоставила судьба, несмотря на гибель родственников и одиночество, и так искренне выражала свое счастья, что создавалось впечатление, будто я обладал какими-то привилегиями по сравнению с ней, но не догадывался о своем счастье. Мне тоже есть за что благодарить судьбу, размышлял я, но не знал, как проявить эту благодарность, куда ее направить. А у той девушки не было сомнений, она была благодарна Господу и верила в то, что у каждого есть свой, предназначенный лишь для него одного путь.
Разговор раздергал меня, хотя в Иерусалиме это было обычное явление. Обстоятельства сталкивали меня с такими людьми в барах, в столовой, в университете, их истории поражали меня, особенно что касалось войны или концлагерей. Мало кто хотел вспоминать о подобном опыте, но иногда, даже в разговорах с малознакомыми людьми, они не могли сдержаться и начинали сыпать признаниями о пережитых мучениях. И когда так случалось, их боль и чувство вины всегда были чем-то большим, чем я мог выдержать, я сопереживал им и разделял с ними их трагедию.
Я вошел в здание почтамта с ключом от ящика в сжатом кулаке, хотя никто не попытался бы отобрать его у меня. Я взял ключ большим и указательным пальцами, чтоб вставить его в замок, но все мешкал, поскольку почувствовал (или это я сейчас додумываю): из ящика, будто змея, что собрала свое тело в кольца, меня ожидает какая-то страшная весть. Мгновение поразмыслив над своими ощущениями, я тут же упрятал их подальше. В ящике было лишь одно письмо, и оно было от моей кузины-врача Адассы. Прежде чем открыть конверт, я напрягся и подумал, о чем оно может быть. Моей выдержки надолго не хватило, и я решил узнать ответ на свой вопрос.
Письмо занимало аж два листа и было написано неразборчивым почерком, характерным для профессии Адассы: мне он казался нечитаемым загадочным шифром. Усилия, потраченные на расшифровку, немного притупили эффект, произведенный содержанием. Я несколько раз все перечитал, пока до меня не дошел каждый абзац. Я подозревал, что содержание этого письма отразится на жизни семьи и на моих личных планах в частности.
Письмо состояло из двух частей, каждая из которых была написана на своем языке – научном и человеческом. В научной части сообщалось, что у отца обнаружили «прогрессирующий неопластический процесс», затронувший левое легкое, и было принято решение о немедленном хирургическом вмешательстве. Кроме того, говорилось, что отец не признавал диагноза, поскольку сестра была молодым врачом, но после нескольких консультаций видных специалистов он осознал его и принял. Хирург – светило в своей сфере – удалил почти все легкое, и результат предполагал вполне оптимистичные прогнозы, поскольку операция была проведена очень аккуратно, но в будущем отцу стоило за собой следить и беречь себя.
Часть на человеческом языке относилась лично ко мне: сестра причитала, что я «бедняжечка, увлеченный своими делами» ни во что не ставлю жизнь семьи и отца, что мать одинока (брат уже был подросток) и нуждается во мне, но не решается о чем-либо просить; что отец протестует против того, чтоб требовать моего возвращения и «вмешиваться в мои планы, потому что не хочет брать на себя за это ответственность» – он наивно утверждает, что вскоре вернется к работе. Сама же кузина считала, что обязана проинформировать меня об изменениях в состоянии отца и наконец убедить меня вернуться в Буэнос-Айрес как можно скорее.
Сначала я не понял значения слова «неопластический», но упоминание о легком подтверждало, что отец болен настолько, насколько мы и боялись. Зачастую семейные перебранки начинались с того, что отец много курит – и днем и вечером.
Об этом свидетельствовала мешанина запахов – терпкий запах тяжелого табака в сочетании со слабым водочным душком и одеколоном. Его окружало облако дыма, пепел распространялся по всей посуде, а не только по пепельницам, в посуде постоянно находились расплющенные окурки и папиросы, которые так и не были прикурены, наверняка по настоянию матери. Отец вставал ночью, чтоб тайком покурить на крыше. Однажды я из интереса последовал за ним, и тот был очень удивлен моим вмешательством в идиллию из табака, тишины и неба. Чем была занята его голова в такие одинокие ночи? От каких страхов, сомнений и безнадеги он хотел спрятаться за дымовой завесой, что эти его ночные бдения вылились в опухоль, которая перепахала его легкие и его будущее? Я так и не решился поговорить с ним – особенно страшно было выспрашивать о подробностях его жизни – но когда я прочем это письмо от кузины-врача, я испытал страх и впервые спросил себя, каким бы был мир – мой мир без него.
Перед глазами у меня встала эта картина: я читаю письмо в здании почтамта, сызнова перечитываю его, меня одолевают сомнения и тревоги по поводу этой альтернативы: остаться ли, поскольку худшее уже случилось? Или прислушаться к доводам сестры и поехать?
Я поднимаю из глубин памяти эти эпизоды и переживаю их заново с той же силой, отрешенно, забыв обо всем на свете. Я продолжал сидеть с полуприкрытыми глазами и наблюдать – уже не ребенок, а взрослый мужчина – как я во второй раз в жизни прибываю в Буэнос-Айрес, стоя на палубе парохода. Решил угодить матери и вернулся. С палубы я мог вдалеке разглядеть лица родителей и брата, которые ожидали моего возвращения. Я замешкался, когда сходил на берег, и не сразу услышал крик матери – но то был не ее голос, а Динин.
– Абраша, что с тобой? Ты уснул? – спросила она, что было для меня неожиданностью. Я открыл глаза и встретился с ней взглядом. Улыбка озаряла ее лицо, а я в замешательстве не понимал, что происходит. Я ответил:
– Уснул? Ни в коем случае.
Хосе Мануэль и Мария Виктория заинтересованно рассматривали меня.
– Лучше присоединяйся к нам, – предложила она. Давно уже ни слова не произносил.
– Но я совершенно неприличным образом узурпировал ваше внимание до того.
– Ты расскажи лучше о том, о чем обещал, – сказала она, делая угрожающий жест рукой.
– Пожалуй, я готов справиться с этим заданием.
– После сиесты – понятное дело, – иронизировала Мария Виктория.
– Пожалуйста, не надо обвинять меня без причины. Я задумался.
– О чем?
– О письмах, которые когда-то читал.
– Письмах?
– Сейчас расскажу. Но я рискую.
– Это чем же?
– Остаться без вина.
– Это мы нарочно, чтоб ты не уснул.
– Я серьезно, есть еще немного вина для страждущего?
– Осталось достаточно – мы забывали пить без тебя.
– Так давайте же.
И тут же мы подняли бокалы.
Светлая интерлюдия
– Так что, продолжишь рассказ?
В душе я был рад настойчивости Марии Виктории – ее просьбы совпали с моим желанием просто поговорить, а не отвечать на вопросы. Все уже достаточно долго молчали, а в такой вечер это было непростительно.
Но я распереживался – с чего начать, чем продолжить? Состояние моей памяти походило на палимпсест[19]19
Палимпсест – рукопись на пергаменте или папирусе, в которой текст написан поверх смытого или соскобленного первоначального текста.
[Закрыть], на котором последняя версия текста перекрывала предыдущую, стертую не полностью. Если истина в фактах, а не в наших воспоминаниях о них, если факты искажены прожитыми годами, переработаны, извращены с тем, чтоб подогнать их под настоящее, то наши воспоминания – это зыбучие пески, они могут быть правдоподобны, но вряд ли истинны.
При других собеседниках или других обстоятельствах мой рассказ, вероятно, был бы другим, лишь относительно правдивым.
Видимый текст палимпсеста уносил меня в Буэнос-Айрес, в дом родителей, куда по прошествии года свободы я вернулся, чтоб погрузиться в пучину семейной жизни. Был ли я тем же самым человеком? Не думаю. В Израиле я научился обеспечивать себя сам, делиться в бедности, находить друзей, соизмерять усилия и удивляться богатству собственных скрытых ресурсов, когда бывало тяжело. Я научился быть один и не один. Я научился жить, я повзрослел.
Встреча с родителями тяготила меня: тот больной человек, мой отец, все еще хотел видеть меня другим. И хоть он так и не справился с последствиями операции, он старался работать, будто ничего не произошло, но в то же время он мечтал о резких переменах.
– Начну новую жизнь, буду брать все лучшее от нее, путешествовать, посмотрю мир, – твердил он матери, будто хотел сам себя убедить. Ему больше нравилось говорить в будущем времени, в терминологии надежды, чем взвешивать вероятность воплощения такого проекта в жизнь. Мать была уверена, что это все лишь истеричная болтовня, но делала вид, что одобряет эти его планы.
– Надо вернуться в Россию, проведать брата, найти могилу родителей, – расписывал он свое будущее и домашним и гостям – все это в разгар холодной войны, когда границы были намертво закупорены.
Через несколько недель после операции отец, обустроившись в подвале дома на углу проспекта Корьентес[20]20
Проспект Корьентес – одна из важнейших транспортных артерий Буэнос-Айреса.
[Закрыть] и улицы Урибуру (это помещение он использовал как убежище во время дождей и гроз), возобновил работу – разрабатывал новые модели дождевиков на ближайший сезон для клиентуры, не озабоченной эстетической стороной вопроса. Его партнер (и брат) отверг эти проекты, сказав только, что они не стоят даже потраченного на них времени. После долгих препирательств они пришли к компромиссу и изобрели что-то среднее, совместив два проекта, и таким образом получили вполне ожидаемый результат: плохо скроенные модели для покупателей из далеких провинций или даже приезжих из соседних стран. Отец считал, что брат нарочно препятствует его карьере модельера, и оттого все силы пускал на вымещение ярости, которая мучила его неустанно и обострялась, когда он вечером приходил с работы. Дома он только об этом и говорил: о своем дизайнерском чутье и о том, что брат напрасно обвиняет его в чудачестве.
– Пора завязывать с этой руганью, – твердил он почти двадцать лет, но так и не сделал этого. Его брат, несомненно, тоже облегчал душу подобным образом.
Уже спустя несколько месяцев после выхода из операционной он перестал упоминать о своей болезни и тем более о своих планах путешествовать. В их с братом спорах об эстетических, производственных и коммерческих сторонах дела преобладали конфликты. Все осталось, как прежде.
Возвратившись в Буэнос-Айрес, я понял, что изменился не только я, но и сам город. Я не мог заново приспособиться к месту, увязшему в депрессии, – я задыхался там после бешено-энергичного Израиля. Прожект перонистов захлебнулся на полдороге, ресурсы были истощены, включая и золотой запас, накопленный во время войны. Популистская демагогия, при помощи которой чиновники пытались маскировать коррупцию, халатность и расточительство, уже не могла скрыть всей глубины падения этого порочного режима.
Зимой 1951 года экономика до того зажиточной Аргентины вошла в пике, из которого так и не выбралась до сих пор. На фоне социально-экономического кризиса 1952 года режим Перона также терпел неудачи: не сумев воспользоваться прекрасными возможностями, которые в свое время ему предоставило общество, он обрек страну на череду падений и разочарований, которые к концу XX века обернулись катастрофой.
Я возвращался из Израиля как раз в начале спада и, несмотря на свою закалку, чувствовал себя потерянным и не мог свободно дышать в этой давящей атмосфере безнадежности.
Ценности, которые я усвоил в Израиле, не имели смысла в развращенной стране, где успех измерялся преимущественно при помощи политэкономических показателей. Все, к чему я питал любовь: культура, знания, наука, – существовало тут исключительно благодаря меньшинству, загнанному и затравленному безразличием большинства. Это положение вещей было типично аргентинским – тут такие явления имели циклический характер.
Лозунг «Лаптям – да, книгам – нет!» свидетельствовал об озлобленности класса, нуждающегося в справедливости, и в то же время отображал философию политической программы, применяемой к обществу, которое готово продать культуру и образование или даже нечто большее, за тридцать сребреников.
Такая битва требовала от солдата соответствующего вооружения, но им я похвастать не мог. К тому же я не мечтал о богатстве и даже не знал, как его достичь, в отличие от моих старинных приятелей, которые хвастали передо мной своими новыми «Шевроле» последней модели, чтоб показать, что «достигли вершины успеха». Я же был пешим.
Меня одолевала растерянность, и я не знал, с чего начинать. В первые дни по возвращении я старался поддерживать боевой дух и уверенность в себе на достаточном уровне – даже отец немного зауважал меня, но шли недели, я не предпринимал никаких попыток реабилитироваться, и его ожидания стали таять, пока вовсе не пропали и не сменились напряженным молчанием, которое иногда прерывали язвительные упреки. Что же мне было делать?
В пятнадцать лет я начал работать на полставки на лесопилке – у меня была административная должность, потом я перешел в банк, затем я несколько лет преподавал в иудейской школе, потом в посольстве Израиля и, наконец, уже в Израиле я стал журналистом отдела по иностранным связям, который я основал сам, которым руководил и который был ориентирован на читателей из стран Латинской Америки. Я не мог позволить себе предательства в те молодые годы, хотя позже я не раз и не два спотыкался о кочки, которые судьба расставляли на моем пути.
В те времена сомнений и дезориентации я взялся делать репортажи с культурных мероприятиях, которые проводила «Эвраика» – организация, занимавшаяся вопросами еврейской культуры. Я болтал с людьми, много шутил, ко мне подошла девушка и протянула руку в знак приветствия. И с тех пор мы не расставались.
Дина привнесла немного света в наши внутрисемейные отношения. И мать и отец полюбили ее с того самого момента, когда я привел ее в дом и представил. Одним из прекрасных ее качеств было то, что ее поведение каким-то непостижимым образом разбивало барьеры, которые мешали нам нормально проявлять эмоции. В нашей семье любовь считалась чем-то запретным и постыдным. Дина «узаконила» ее своей невозмутимой непосредственностью. Некоторым образом это вписывалось в схему отношений между матерью и родителями отца. Кроме прочего, Дина замечательно, хоть и не часто, готовила – ей редко доводилось продемонстрировать талант, поскольку мать почти никогда не отдавала монополию на домашние обязанности, в отличие от бабушки, которая предпочитала читать, а не готовить.
С появлением Дины в моей жизни произошли серьезные перемены. Оказалось, что в ней есть место счастью, которого я никогда раньше не знал. Ее благоразумие и уравновешенность, несмотря на молодость, помогали мне принимать реальность, расшифровывать ее проявления и распутывать причинно-следственные связи, но я так и не отрекся от своих утопических представлений о мире, которые пусть и вели к разочарованиям, но зато делали осмысленной жизнь даже во времена полного безверия.
На палимпсесте проступали и некогда стертые знаки, указывавшие на скрытое значение тогдашних событий: после женитьбы я окончил университет, мне присудили первый приз в литературном конкурсе (я писал на идиш), который в Нью-Йорке проводили видные еврейские писатели (они увидели во мне продолжателя своего дела), но я отрекся от этой миссии, поскольку никогда больше не писал на идиш (разве что письма, адресованные матери). Я занимался своей карьерой, а Дина своей карьерой в музыке, и мы оба, почти совсем ничего не делая для этого, оказались представителями так называемого аргентинского среднего класса: его социальные и культурные потребности совпадали с нашими. Тогда было другое время.
Отец скрывал агрессивное ко мне отношение перед Диной и ее авторитетными родственниками, принадлежавшими к кругу аргентинских сионистских лидеров, писателей, культурных и общественных деятелей, в особенности из-за ее деда, чье появление на чтениях в синагоге считалось большой честью. Его недовольство мной несколько уменьшалось, когда кто-то из приятелей, родственников или соседей упоминал о моих личных успехах, но отец почти никогда не показывал своего удовлетворения. Мы, наконец, примирились хотя бы формально: стычки прекратились, но состояния войны никто не отменял – наш мир больше походил на политику невмешательства и нейтралитета. И тут появилась Дина, которая изменила расстановку сил. Но это не значило, что изменилось мое отношение к отцу, он так и не стал для меня настоящим отцом или хотя бы собеседником. Вся его любовь доставалась нашим детям – его внукам, хотя мы и старались ограничивать его в безграничных потаканиях им. Наше понимание педагогики зиждилось на том, что линию нельзя менять в течение хотя бы нескольких лет – после того, как ребенка отнимают от груди, он должен соблюдать график и содержаться в спартанской строгости – твердые принципы зыбкой философии. Наши родители и наши дети были жертвами этой школы нетерпимости. Да и мы сами. Зато много лет спустя некоторые психоаналитики смогли на этом заработать: все мы рано или поздно оказываемся на кушетке – и дети и внуки.