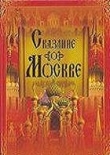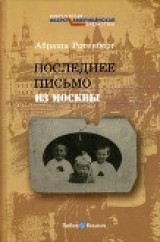
Текст книги "Последнее письмо из Москвы"
Автор книги: Абраша Ротенберг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
– Эта дрянь воняет, будто старый сифилитик. Вот же пакость!
Обращаясь к товарищам по ту сторону улицы, он крикнул:
– А ну, пацаны, бегом сюда. Скажите, чем пахнет.
Вся эта банда тут же обступила меня. Чумита протянул одному из корешей майку, и тот незамедлительно ответил:
– Она воняет дерьмом. Вот срам, а!
Они передавали майку из рук в руки, всякий раз подбирая характеристику позабористей:
– Пахнет падалью, дерьмом, русскими псами.
Вернуть майку я уже не рассчитывал, она не так дорого стоила, уж как-нибудь расплатился бы. И если б на этом потери ограничились, я пошел бы дальше с облегчением.
Но их намерения отличались от моих. Чумита отошел в сторонку, и его место занял другой шутник – позже я узнал, что звали его Качо[45]45
Качо – также говорящая кличка, в переводе с испанского cacho – «ломоть»
[Закрыть]. Выслушав его требования, я стал догадываться, к чему все идет.
– Эй, русо[46]46
Русо – исп. «русский».
[Закрыть], мне рубашка нужна. Покажи, что у тебя есть, только чтоб дерьмом не пахло, – приказал он властным тоном, как у их главного.
Я решил отказаться:
– Не продать тебе рюбашку.
– Покажи хоть одну. Хочу понюхать.
– Не давать.
– «Не давать»? Тогда я у тебя ее отобрать, – передразнил он меня, и слова у него с делом не расходились. Я попытался удержать его руку, но он оказался проворней.
– Отдать рюбашку, – взмолился я.
– Сначала понюхаю.
Он поднес ее к носу, принюхался и вскричал:
– Чумита, дело говоришь. Все воняет дерьмом. Во дрянь! – Он сделал пару шагов в сторону, будто сторонясь меня, и завел по новой:
– Вонючий русский, хочешь всех тут позаражать своей дрянью, хочешь, чтоб все сдохли от сифилиса?!
Я побледнел. Контроль над ситуацией совсем не давался мне. Если пойти за ним, то есть риск потерять вообще всю поклажу. Я закричал:
– Верни мне рюбашку! Верни, пожалуйста!
– Это дерьмо только помойки достойно, – ответил Качо. – Туда ему и дорога.
Я не сдержался и бросился к нему отнимать рубашку, стараясь при этом сохранить равновесие, тюк все еще был у меня на плечах. Тут сзади подошел третий и выдернул из тюка еще одну вещь. Я обернулся, но тут остальные набросились на меня, будто дикие псы. Каждый старался урвать по вещи, и это легко им давалось, я ведь был совершенно беззащитен. Через пару минут я чувствовал себя, словно луковица, которую обдирают слой за слоем, пока от нее ничего не останется, с каждой отобранной вещью они будто кусок кожи отдирали. Эти подонки явно решили ободрать меня как липку, лишить меня жизни, лишить будущего, иллюзий, работы, всего, что мне принадлежало, – полностью уничтожить меня. Все мое достояние, все мои долги были в этом тюке, который они распотрошили, будто подушку. Я попал в какой-то из кругов ада, окруженный бесами, которым было неведомо милосердие. За кем бежать и за что хвататься, когда все тщетно, когда их стратегия явно была лучше продумана и неумолимо вела к моей гибели? Только я пытался вернуть отобранное одним, как другой тут же отбирал у меня что-то еще. Чтоб сохранить оставшееся, я решил сменить тактику – попятился к стене, уперся в нее тюком, чтоб ко мне не могли приблизиться со спины. Бандиты выстроились передо мной полукругом, с издевкой тряся у меня перед носом крадеными вещами, осыпая меня проклятиями и оскорблениями.
Я был весь мокрый от пота, взбешенный, со сбитым дыханием – едва мог говорить.
Чего им надо? – спрашивал я себя. Отчего прицепились? Что я им сделал?
Хотел потребовать, чтоб вернули мои вещи, но слова уворачивались от меня. Я проговорил:
– Пожалуйста, вернуть все. Пожалуйста.
Они только ехидно поглядывали на меня, размахивая рубашками и майками, будто победными знаменами. Что мне было делать? Я был у них в руках, но все еще надеялся договориться:
– Пожалуйста, вернуть все. У миеня жена, сына.
Чумита вышел вперед и надменно ответил:
– Русачок, ты нас слушать не хотел. Говорили тебе не возвращаться сюда? Говорили. А ты послушал? Нет. Вот тебе и последствия.
– Пожалуйста, вернуть все. У меня семия. Надо работа.
– Раз «надо работа», то отчего дерьмом торговать? Кто его у тебя купит? Это приличный район, – вмешался один из них.
– А ну тихо, Качо. Я с этим русо сам разберусь, – властно перебил его Чумита. – Это мое дело, потому что этот типуша обидел меня. Ты понял, русачок? Ты меня обидел.
– Я не понимать обидел.
– А я тебе объясню, чтоб ты понял. Ты со мной не поздоровался в ответ, а я у тебя майку хотел прикупить. А ты мне дерьма кусок подсунул. И я никому не позволю вести себя неуважительно и дурить себя тоже не позволю, особенно русскому, как ты.
– Я не обижать, – пытался я убедить его.
– Я тебе зла не желаю, – добавил Чумита, – но предлагаю, чтоб ты сам нам все отдал без шума и пыли, а затем отправился домой и забыл сюда дорогу. Усек?
– Нет. Ничего не отдавать. Вернуть все мое.
Тут Чумита рассвирепел:
– Я даю тебе возможность уйти на своих двух отсюда, а ты еще смеешь мне перечить? Сраный русский, щас я тебе покажу хорошие манеры.
Он подмигнул своим, и те стали приближаться с целью отобрать у меня все, что осталось. Прижавшись к стене, я хотел хоть как-то защититься от грабежа, но им хватило пары секунд, чтоб отодрать меня от стены и отобрать почти все, что было. Чумита стоял прямо передо мной и наслаждался зрелищем. Я понял, что еще секунда, и я упаду в пропасть, но тут вспомнил о вас, о тебе и маме, о своей жалкой жизни, о безрадостном нашем будущем и сказал себе: надо сопротивляться, надо сопротивляться, и тогда случится чудо, и кто-то придет на помощь.
Из этого ада я мельком разглядел каких-то прохожих у входа в кафе, они молча и с интересом наблюдали, но не вмешивались. И ничто не указывало на то, что надеждам моим суждено сбыться.
Чуда все не случалось, зато последствия разбоя ощущались отлично: тюк на моих плечах почти совсем опустел. Я чувствовал, как мой мир сжимается, валится, будто карточный домик, и я погибал вместе с ним. Я уже был готов сдаться, но тут природа моя взяла свое, и я внезапно почувствовал себя, будто Самсон, и сказал себе: умру в бою с этими филистимлянами.
Я резко и неожиданно бросился на остолбеневшего от неожиданности Чумиту – у того даже улыбка с лица сойти не успела. Будто зверь, я вцепился левой рукой ему в горло, а правой стал остервенело бить в лицо. Оторопелый Чумита никак не успел среагировать: пальцы мои на его шее сжимались все сильнее и сильнее. От второго удара лицо его залило кровью: нос был расплющен, губы треснули, из уха текла кровь, а я все не останавливался. Я бил его до тех пор, пока не услышал, как он умоляюще бормочет:
– Пусти, русачок, пусти, пощади. Ты ж меня насмерть забьешь.
Но я никак не мог обуздать свою ярость и все бил его, пока не выбился из сил. Левая рука моя разжалась, я отпустил шею противника и увидел, как он повалился на тротуар, будто мешок картошки. Улыбка давно сошла с его лица, изуродованного побоями, а от его былой бравады не осталось и следа. Глядя, как безвольно он опускается на асфальт, я подумал, что только что сам подписал свой смертный приговор, потому что остальные точно из меня дух вышибут. Вся эта сцена длилась не более пары минут. Шпана молча наблюдала, как их главарь валится на землю, они были неподвижны, будто жена Лота, обращенная в соляной столб. Кто-то осторожно приблизился к Чумите, чтоб помочь ему подняться, – тот почти не мог стоять на ногах. Я глянул на его изуродованное лицо и пришел в ужас. Он поднял с тротуара одну из отобранных рубашек, вытер ею кровь и неуверенным шагом направился ко мне. В этот момент я смирился со своей участью и приготовился умереть: их было много, и я по-прежнему был в их власти. Чумита остановился передо мной, и я глядел ему прямо в глаза не отводя взгляда: терять мне было уже нечего. Но я ошибался насчет его намерений. Чумита неожиданно протянул мне руку и сказал:
– Русачок, да ты мужик, отвоевал себе территорию. Дай пять.
Я не очень-то понял сказанное, но инстинктивно пожал ему руку.
– Мир? – спросил Чумита.
– Мир, – ответил я.
Затем Чумита протянул мне рубашку, которой вытирал кровь. То ли шутя, то ли оправдываясь, он сказал:
– Прости, русачок, немножко запачкал.
Все его подельники по очереди подошли ко мне и вернули отобранное. Я собрал все и упаковал так же, как делал каждое утро. Затем я заметил, как Чумита поковылял прочь, опираясь на плечи приятелей. На той стороне улицы прохожие удивленно перешептывались. Я обошел угол, зашел в бар и наконец выпил воды – две больших кружки с лишком. Люди смотрели на меня с уважением и чуть ли не с обожанием. Я пошел прочь, будто ничего не случилось, но на самом деле руки мои дрожали, и коленки подгибались от нервов. Я зашел за угол, где никто не мог видеть меня, сел на корточки под деревом и разрыдался. Отчего? С перепугу, от напряжения или унижения, которые выпали мне сегодня, или, может, от страха, напряжения и унижений, которые преследовали меня всю мою жизнь?
С тех пор жители района стали звать меня Русачком, но в голосе их звучало уважение, а у некоторых даже приветливость.
Все это я рассказываю, чтоб ты, дорогой мой, понял, как нелегко было завоевать клиентов.
Я взволнованно внимал отцовскому рассказу, и у меня возникало много вопросов: хотелось выведать побольше подробностей. Я пересказываю эту историю по-испански, и оттого многие детали остаются за кадром: отец рассказывал на идиш, и я не могу передать его голос, интонации, удивительное остроумие некоторых высказываний и юмор, пробивавшийся в совершенно неожиданных местах, – мне не передать всех пауз, междометий, или как у него дыхание сбивалось в самые напряженные моменты, как он жестикулировал.
Я был страшно благодарен ему за то, что он оживлял свое далекое прошлое, рассказывал об очень личных вещах. Мне никогда не приходило в голову, что он столько всего пережил и может рассказать об этом так ясно. До того мне перепадали лишь какие-то огрызки фраз, односложные ответы или комментарии, но больше всего было молчания и испепеляющих взглядов. Тогда же я, хоть и слишком поздно, обрел, наконец, способность вывести его на диалог. Так что мне не терпелось задать ему кучу вопросов, хоть усталость его начинала бросаться в глаза все более явно.
– А после того они докучали тебе?
– Никогда. С тех пор мне ничто не мешало спокойно работать.
– А Чумита попадался тебе?
– Неоднократно, пока не помер.
– Помер?
– Он умер совсем молодым, года через четыре после той истории.
– Как это случилось?
– Разные ходили слухи, но все точно знали, что он умер в полицейском участке. Его арестовали за драку, в которой он был тяжело ранен. Еще говорят, что в участке его избивали, но в качестве официальной причины смерти написали перитонит. Там какая-то мутная история: его почему-то не отвезли в больницу, да и вскрытия не было.
– Бедняга.
– С ним все с самого начала было ясно. Бывает, я вспоминаю о нем.
– Никогда бы не подумал, что ты попадал в такие переделки.
– Что было, то было. Это было жесткое время, но я тогда впервые ощутил надежду. Сейчас у меня и ее нет.
– С ума сошел, такое говорить!
– Но это правда. Прости, но я очень устал. Пора отдохнуть.
Я стал поправлять отцу подушку, и он взял меня за руку.
– Спасибо тебе за вечер, сынок, – прошептал он.
– Тебе спасибо, папа, – ответил я.
Такая вот неожиданная была у нас ночь вместе.
Москва пишет
Буэнос-Айрес, ноябрь 1965 года, а также прочие места и даты
– Вскоре мы наконец-то получили ответ от доктора Астрова.
– И что же, он развеял сомнения твоего отца? – поинтересовалась Мария Виктория.
– Письмо было очень душевное. Там говорилось, что осень была очень тяжелая и что вдобавок к всеобщему нездоровью прошла еще и эпидемия гриппа, из-за чего нашему врачу было совсем некогда писать, – он почти не виделся с друзьями, а семью Арона навестил всего пару раз. За подарки он был страшно благодарен и, как положено всякому излишне чувствительному русскому, сообщал об этом в крайне приторной форме.
– Так отец успокоился немного?
– Наоборот: абсурд, казалось бы, но письмо только усилило его подозрительность.
– Почему так? – удивленная Мария Виктория была намерена до конца насладиться гротескностью ситуации с письмом и посылками.
– Мой отец частенько бывал несправедлив к людям. «Как мы поймем, что он не врет? А что если он нас обманывает?» – ворчал он. Меня его недоверие удивляло:
– С чего ты взял, что он нам врет?
– Он только о посылках говорит – будто ничего ему больше не интересно. Я не доверяю людям, которых беспокоят только их собственные интересы.
– Не понимаю, о чем ты, – устало отреагировал я.
– Этого врача, который представляется моим другом, совершенно не волнует мое здоровье. Знает, что мне нездоровится, но никак это не комментирует. Он моего уважения не заслуживает.
– Кажется, отец твой не дурак был вспылить на ровном месте, – прокомментировала Мария Виктория. Я замолк, и она решила на всякий случай оправдаться, чтоб я не воспринял ее реплику как что-то обидное:
– Похоже, это у меня отложенные эффекты от выпитого; но настолько неожиданная реакция твоего отца меня позабавила, – добавила она, пытаясь сделать что-то со своей несходящей улыбкой и не всхохатывать. – Надеюсь, ты не обиделся, – произнесла она, закрыв лицо ладонями.
– Прекрасно тебя понимаю: я тогда тоже не мог сдержать улыбки.
– Приятно слышать, – ответила Мария Виктория, продолжая смеяться.
Я спросил у отца:
– Откуда доктору Астрову знать, что ты болен? Твой друг медик, а не экстрасенс.
– А мать ему не написала? – он обращался ко мне, будто матери там не было.
– Не знаю, но, вероятно, она не писала ему об этом. Да и зачем? – ответил я, желая избежать ссоры.
Мать прочитала нам письмо, сначала по-русски, а затем перевела для меня на идиш. Я сдержанно выслушивал отцовские замечания, тот ожидал получить на них реакцию, но мать тоже молчала. Тогда он задал вопрос прямо:
– Так ты не сообщила Мише, что я болен?
– Нет.
– Отчего?
– Я писала про Арона и его семью. Не думала, что стоит говорить о твоем здоровье.
– Миша врач, он мог бы что-то подсказать.
– У тебя тут и так достаточно врачей, хватит с тебя.
Отцовское лицо вновь приобрело выражение ярости, которое внушало мне такой страх.
– Все не так. Ты не написала ему, потому что тебе плевать на мое здоровье. Я болен? Да и ладно. Завтра помру? А кому от этого хуже? Я в этом доме никто: раньше был скотиной рабочей и вас содержал всю жизнь, а теперь никому не нужен – на помойку меня! И зачем писать кому-то, что я нездоров.
– Не говори глупостей, – ответила мать.
– Глупости? Это ты называешь глупостями? Да вся моя жизнь – одна большая глупость. Всегда догадывался об этом, а сейчас утверждаю как факт.
Отец заводился все сильнее, он почти кричал:
– Ни черта больше не пошлем этому лицемеру! Никогда. Не позволю ему жить за мой счет! А как выздоровею и поеду в Москву – и руки ему не подам!
Затем он обратился к матери все с тем же вопросом:
– Да как так вышло, что ты не сказала ему о моей болезни? Столько лет мы вместе, и только сейчас я понял, кто ты такая на самом деле: ты эгоистка! И теперь я понимаю, кто я такой: идиот, который всю жизнь обманывался, только бы правды не признавать!
Я все пытался понять, отчего он так злится, а мать старалась успокоить его и не перечить. Но отец свирепел все больше и успокаиваться был не намерен – когда аргументы закончились, он стал повышать голос, считая, видимо, что таким образом звучит более убедительно. Ни с того ни с сего он, взбешенный и разочарованный, потребовал, чтоб мы пошли прочь:
– Оставьте меня одного! Хочу остаться один, как это всю жизнь было!
Я с грустью наблюдал за тем, как он плюется упреками, и понимал, что когда у человека истерика, сделать ничего нельзя.
– Отчего он так разошелся? – сдержанно спросил Хосе Мануэль.
– Точно не знаю, но могу подозревать о причинах.
Хосе Мануэль и Мария Виктория переглянулись, а Дина молча наблюдала за мной.
– И чем это закончилось?
– Через некоторое время я зашел к отцу, чтоб дать лекарство, использовал это как повод поговорить. Отец дремал. Я механически отдал ему таблетки; он был спокоен, лежал с полуприкрытыми глазами. Я тихонько присел у постели, и тут он открыл глаза.
– Не хочу быть несправедливым, не таков я, потому предлагаю такой вариант: мама пишет Мише Астрову и просит передать Арону письмо от тебя. Поскольку ты по-русски не говоришь, логично, что напишешь на идиш. Если это второе письмо напишет на идиш мама, то Миша заподозрит, что мы что-то от него скрываем и обидится. Потому необходимо, чтоб это было письмо от тебя. Не помню, понимает ли Арон идиш, но уверен, что Бетя отлично говорит и пишет на этом языке. Если они ответят на твое письмо и подтвердят, что получили наши посылки, то тогда будем слать дальше. Если не ответят, то значит, Миша нас обманул. Как тебе такой план?
– Отличный.
На следующий день я прочел отцу свое письмо, адресованное семье Арона; тот внес пару мелодраматических правок, от которых сам же прослезился. Мы отправили его вместе с материным письмом Астрову, и отец на пару дней успокоился.
К концу ноября он совсем ослаб – почти не разговаривал, постоянно спал и мало интересовался тем, что происходило вокруг. Мать забеспокоилась и однажды спросила:
– Врачи говорили, что он поправится, но он с каждым днем становится все слабее. Может, надо еще раз показаться им?
Я понял, что пришло время сказать ей правду, но мне не хватало смелости произнести эти страшные слова. Я часто представлял себе, как говорю это, но в тот момент все заготовки вылетели из головы, и пришлось импровизировать. Мне показалось, что она была расположена принять новость, и я решил воспользоваться возможностью сказать правду.
– Можно, но не думаю, что от этого будет толк, – произнес я с напускным спокойствием, стараясь собраться с духом. – Врачи считают, что ничего нельзя сделать, разве что не мучить его лишний раз.
Мать растерянно посмотрела на меня.
– Ты что этим хочешь сказать?
– Что это конец, мама.
– Ты что такое говоришь? – воскликнула она в бешенстве.
– Правду, мама. Это правда. Я все это время скрывал от тебя.
Мать разрыдалась.
– Господи… Зачем было врать мне? Все знали, все всё знали, кроме меня.
– Теперь знаешь. Знай ты раньше, никому бы от этого легче не было.
– Так что же, все решено? Сколько ему осталось?
– Совсем недолго. Может, несколько недель.
– Господи… Какая ж я была слепая! Никогда не думала, что будет так тяжело. Как же мне жить теперь, как простить себе такую наивность? Видела же, что он страдает, что ему хуже, но не хотела верить, что болезнь забирает его. Зачем, зачем ты меня обманывал?
С того дня она почти не отходила от отцовской постели, а со мной перестала разговаривать. Она погрузилась в молчание, пряталась в нем и почти ни с кем не общалась, глаза ее были красны от слез, и взгляд не выражал ничего.
Спустя неделю отец заинтересовался новостями от Арона. Я ответил, что придется еще подождать.
– Скоро придет от него ответ, – сказал я, – давай потерпим.
– Я себе этого позволить не могу.
Арон все-таки написал, но отец уже никогда не узнал об этом.
Прощание
Буэнос-Айрес, декабрь 1965
Сидя у отцовской постели, я наблюдал за его беспокойным сном, слушал его тяжелое дыхание, вытирал испарину с его лба, чувствовал, как по его напряженному телу пробегает дрожь. Тот день, 17 декабря 1965 года, был жарким, но его бил озноб, и пришлось укрыть его одеялом. Он то дрожал, то потом обливался. Его вздутый живот, скрытый под одеялом, походил на гору и выглядел пугающе. Тело отца будто стонало само по себе – откуда-то из его глубин вырывались протяжные звуки, смешиваясь с бредовым, неразборчивым бормотанием. Все это будило во мне тревогу и страх; не сама смерть пугала меня, но то, как она забирает человека, как непредсказуем момент ее прихода. Есть ли способ совершить этот неизбежный переход без физических мучений и эстетического отвращения? Как отдаться до конца и без сопротивления?
Было уже за полночь, дом затих, и только с улицы доносились звуки жизни – шум и сигналы автомобилей, крики молодых людей, готовящихся к новогодним праздникам. Я не знал их, но мне были отвратительны их веселье, их способность беспечно радоваться всему подряд, которые так контрастировали с нашей скорбью.
Отца мучил холодный пот, и я только и делал, что обтирал его полотенцем. Он вроде дремал, но при этом постоянно бормотал что-то неразборчивое – выделялись лишь какие-то обрывки фраз. Я никак не мог ухватить и расшифровать эти отрывочные послания из мира его сновидений, и тут вдруг заметил, что лицо его было мокрым вовсе не от испарины, а от слез. Я продолжал вытирать их, но он внезапно вскрикнул:
– Мама, мама, спаси!
Я обнял его, пытаясь таким образом успокоить, возможно, слишком резко схватил его. Отец медленно, с видимым усилием открыл глаза и едва слышно, надтреснутым голосом произнес:
– Я был с матерью. Ты не поверишь мне, я был рядом с ней.
Мне не хотелось перечить и разубеждать, но и поддерживать его в бреду я тоже не мог:
– Она приснилась тебе, разве нет?
Он немного успокоился, проснулся окончательно и едва слышно сказал:
– Может, и приснилась, но я был с ней там. Она была в том своем домашнем платье, в темном платке, глядела на меня близоруко. Она была так близко, что, казалось, я могу дотронуться до нее. И хоть она была зла на меня, я был счастлив.
– За что зла?
Лицо его разглаживалось, напряжение уходило, и он, указав на мой стул, произнес:
– Там, где сейчас сидишь ты, стояла она, глядела на меня. «Шмилек, – сказала она мне, – что с тобой? Отчего не работаешь, а разлеживаешься?» И я ответил: «Мама, я болен, очень болен, я скоро умру». «Умрешь? – переспросила она. – Рано тебе умирать, у тебя работы много». И я ответил: «Нет у меня больше сил, только помирать и осталось». Но она говорила: «Ты должен жить, это твоя обязанность». А потом она, такая хрупкая, стала причитать: «Шмилек, Шмилек, что ты сделал со своей жизнью? На что растратил ее, на что?» И вдруг расплакалась, рассердилась и повернулась уходить, и я, чтоб удержать ее, стал просить: «Мама, мама, не бросай меня!» – но она меня не слушала. В дверях она обернулась и опять спросила: «Во что ты превратил свою жизнь, Шмилек?» И исчезла.
Отец не мог никак успокоиться, все плакал, пересказывая сон, а когда закончил рассказ, то и вовсе разрыдался, будто маленький ребенок, потерявшийся на улице. Спокойно на его страдания я смотреть не мог, но и чем помочь, тоже не знал.
– Пап, успокойся, не надо так переживать из-за сна.
– Сна? Это не сон, это была явь.
– Ты же не веришь, что бабушка и впрямь приходила к тебе?
– Нет, она не приходила, но слова ее – святая правда.
– О чем это ты?
– О том, что она права, что я спустил свою жизнь.
– Ничего ты не спустил, к тому же жизнь у тебя еще впереди.
Отец одарил меня гневным взглядом и тихо, с искаженным ненавистью лицом зачастил:
– Довольно врать уже, комедию ломать. Мы оба понимаем, что я умираю, что мне недолго осталось. Так о каком будущем ты мне поешь?! Издеваешься, что ли?!
– Но врачи говорят…
– Врачи?! К черту врачей! Мать моя знает правду: я спустил свою жизнь, а теперь нет времени передумать и все исправить. Осталось только ждать и попытаться простить себе все.
– Не суди так. Ты не растратил жизнь даром. Наоборот. Ты был нищим иммигрантом, который даже говорить не мог, без образования, без профессии, а теперь гляди, чего ты добился: у тебя есть дом, дело, ты дал детям образование, ты уважаемый человек. Где ты оступился? Да тебе гордиться надо.
Пока я говорил все это, отец продолжал плакать. Потом мы оба на какое-то время замолкли, и наконец он сказал:
– Давай ты меня выслушаешь, не перебивая. Я давно хотел сказать тебе, но никак не мог, слов недоставало.
– Не утомляй себя без нужды, пожалуйста…
– Я тебя попросил выслушать. Дай я скажу.
– Прости.
– Мы оба понимаем, что я был не лучшим отцом.
– Пожалуйста, не говори…
– Мы ничего не обсуждаем: ты слушаешь, я говорю. Это единственное, о чем я прошу. Когда ты приехал, в моей жизни появилась куча проблем. Из-за тебя я страшно ссорился с женой. У меня до сих пор звучат в голове ее оскорбления и упреки, что я злой отчим, а не отец. Возможно, она была права. Сейчас, будучи уже взрослым мужчиной, ты сможешь понять меня. Я был одинок, одинок на протяжении семи лет. Я откладывал каждую копейку, работал, как ломовая лошадь, отказывал себе даже в мелочах, но все это сносил, это было терпимо. И по ночам я не мог спать, мечты и страхи не отпускали меня. Я задавался вопросами, отчего месяцами не получаю ответов на свои письма, а те, что получал, отчего они приходили все время из разных мест – из Магнитогорска, Москвы, Украины. Отчего столько переездов? С кем живет мой сын, кто его воспитывает? Я хотел восстановить семью, и в то же время меня одолевала ярость из-за постоянных проволочек – когда власть бывала виновата, а когда и твоя мать не делала ничего, чтоб ускорить встречу. И когда вы, наконец, приехали, я встретил двоих незнакомцев. С твоей матерью было полегче, но ты отталкивал меня с первого дня. Ты не знал, как это, когда есть отец, но ведь и у меня никогда не было сына. Возможно, я был слишком строг, но и ты был капризным маменькиным сынком. Я часто бывал несправедлив к тебе, но ты должен понять, что мое недовольство было направлено не столько на тебя, сколько на другие источники неприятностей. Ты был мишенью, но все, что доставалось тебе, предназначалось другим.
– Давай оставим эту тему. Мы оба понимаем, что ошибались, признаем это. Так давай забудем.
– Забыть не получится никогда. Я должен тебе кое-что сказать и сделаю это прямо сейчас.
Я не знал, что и думать, но запретить ему говорить тоже не мог. Присев на стул у его постели, я почувствовал, что лицо мое покрылось испариной, как у него.
– Говори, что хотел сказать, – произнес я отрешенно.
– Если тебе станет легче, я хочу попросить прощения. Знаю, что по моей вине ты часто страдал, но поверь: никогда я не хотел причинить тебе боль, я хотел как лучше.
Я пересел к нему на постель, взял его руки в свои. Слезы текли по моим щекам, и я не мог ничего с этим поделать. Без страха глядя в его осунувшееся бледное лицо, я сказал:
– Это я должен просить прощения. Столько лет я боялся и недооценивал человека, достойного уважения. И теперь, когда я знаю тебя…
Отец перебил меня:
– Я раскаиваюсь за то, как жил, но еще и за то, что сделал с тобой. Так печально не знать о том, что у меня есть такой сын.
– И такой отец. Мне тоже жаль, что я ничего не сделал для того, чтоб узнать тебя получше. Прости меня.
Говорить дальше я не мог. Голос мой дрожал, из глаз текли слезы, они застили собой все. Не в состоянии подобрать слова, я обнял отца, и мы оба замолчали.
Это был последний наш разговор.
22 декабря 1965 года он впал в кому и через несколько часов скончался. На бдения пришло множество людей, его и наших друзей, желавших отдать дань уважения, но он об этом никогда не узнает. А жаль: он бы гордился такими гостями.
После кончины
– Как ты перенес смерть отца? – спросила Мария Виктория.
– Спокойно, потому что смог, наконец, сложить в голове картину и начать говорить. Но это было кажущееся спокойствие: конфликт с отцом напоминает о себе по сей день. Иногда он мне снится, мы спорим, ссоримся, он упрекает меня и поучает, его тень постоянно висит надо мной. Он ушел на тот свет, так и не обретя покоя, и со мной будет точно так же.
– А мать?
– Как и все вдовы, обнаружила лучшие его стороны, о которых никто не подозревал, и забыла о тех его качествах, которые при жизни терпеть не могла. Обожествление отца достигло такого уровня, что иногда мне казалось: не будь мы евреями, пришлось бы его канонизировать. Она так ценила его, потому что его больше не было рядом, считала, что с его уходом одиночество только усилилось. Жалобы только придавали ей сил.
– Я осталась одна-одинешенька, – все повторяла она. – Братья и сестры мои погибли, братья Шмилека погибли, а теперь и он меня оставил. Чего теперь ждать от жизни?
– У тебя двое детей, невестки, внуки. Арон и Бетя еще живы, – отвечал я ей на это. – Хватит себя хоронить.
– Арон? Да он все равно что мертвый. Никогда мне его не увидеть: мне и из Москвы едва позволили выехать, а вернуться и подавно не позволят. Москва – это тюрьма. Забудь об Ароне. Как же несправедливо: папа так нам нужен сейчас, а его больше нет.
– Смерть имеет удивительное влияние на людей, склонных к чувству вины, – отметил Хосе Мануэль.
– Несомненно. В Талмуде об этом тоже сказано. Приблизительно так: «Неделю будешь тужить о нем, месяц – восхвалять его, а плакать – год. Но тот, кто плачет об усопшем дольше года, плачет не о нём, а только о самом себе». Но эта мудрая мысль была чужда моей матери. Она оплакивала отца долгие годы, но так и не поняла, что оплакивает саму себя.
– Очень удачная формулировка, – заметил Хосе Мануэль, – ведь она описывает саму суть человека: погрузиться в забвение, чтоб превозмочь себя, и в память – чтобы выжить.
– В поисках морали ты становишься морализатором, – сыронизировала Мария Виктория.
– Со смертью я, можно сказать, на короткой ноге, и, тем не менее, она интригует и волнует меня. Думаешь, я не вправе о ней рассуждать? – спросил он скорее озадаченно, чем расстроенно.
Тут я вмешался, чтоб беседа не скатилась в пространные размышления:
– Смерть? Мы уже упоминали несколько раз этим вечером. Меня не пугает, как я умру и что со мной при этом произойдет. Воспоминания? Слезы? Я буду ничем, а для остальных пройду путь скорого забвения. Если и повезет стать прототипом для какой-то дружеской байки, то до тех пор, пока им не надоест рассказывать ее и выслушивать, тогда-то меня и похоронят окончательно.
– По истечении года или до того? – съязвила Мария Виктория.
– До, конечно. А ты что, веришь в чудеса? Через год уже нет времени думать об умерших. Талмуд создавался в давние времена, когда все на повозках ездили, а сейчас в нашем распоряжении сверхзвуковые самолеты. Те древние измерения времени нам уже не годятся. Вы, врачи, журите нас за то, что мы едим впопыхах, и вы правы. Мы все делаем впопыхах, хлещем жизнь залпом, и времени на то, чтоб посмаковать забвение ушедших, у нас нет.
– Ладно, пока мы совсем не забылись, хотелось бы узнать, ответил ли дядя Арон на твое письмо, – перебила меня Мария Виктория.
– Письмо пришло через неделю после смерти отца; жаль, что так поздно: оно бы развеяло отцовские сомнения относительно честности доктора Астрова. Письмо было длинное, занимало несколько листов, и было написано на идиш тетей Бетей, которая благодарила за подарки, называя их при этом «необязательными, потому что у них и так все-все есть». Полагаю, эта фраза нужна была для того, чтоб обмануть цензуру. Потом она упоминала о Мише как об «их старшем брате», который «множество раз защищал их и опекал в тяжелые времена». «Миша нам, как отец, брат и мать одновременно, настоящий член нашей семьи». Она также говорила обо мне, писала какие-то любезности матери и несбыточные предсказания, адресованные отцу: «Мы очень обеспокоены твоим здоровьем, но уверены, что в скором времени ты выздоровеешь и – кто знает? – приедешь нас навестить. Это похоже на сон, но ведь иногда и сны сбываются». Затем она с гордостью описывала достижения своего сына Жени, который на «отлично» защитил диплом и скоро станет кандидатом физикохимических наук в области альтернативных источников энергии. Она также упомянула о своей больной дочери и не преминула пожелать всем нам избавления от всех болезней. О своем муже Ароне она не сказала ни слова, вероятно, чтоб не искушать судьбу. Не стоит забывать, что на дворе был пик холодной войны, которая таила в себе определенные угрозы.