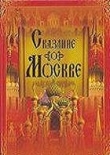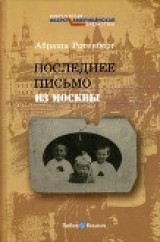
Текст книги "Последнее письмо из Москвы"
Автор книги: Абраша Ротенберг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
– А как это письмо восприняла твоя мать?
– Рыдала над строками об отце и о себе, оплакивала свое одиночество, но в целом письмо немного взбодрило ее и вернуло надежду. Мать любила Бетю, познакомилась с ней в детстве, когда та вышла за Арона. Они не стали подругами из-за разницы в возрасте, но относились друг к другу со взаимной приязнью. «В последний раз я виделась с Бетей в 1932 году. Тридцать три года минуло с того времени, а помню все так, будто это было вчера. Это письмо – просто бальзам на душу», – говорила мать.
Это письмо было важно не столько своим содержанием, сколько тем эффектом, который оно спровоцировало: в сознании матери стали потихоньку оформляться и крепнуть определенные намерения. Кроме того, завязалась настоящая переписка с Бети, которая даже решилась предоставить обратный адрес. Бывало, я тоже ей писал. Благодаря ее письмам я открыл для себя неизвестную, очень умную и чувствительную женщину – и невероятно красивую: ее улыбка буквально освещала присланное нам фото, где она была изображена вместе с Ароном. Последний настолько напоминал отца, что при взгляде на снимок у меня мороз по коже пошел.
– Ты встречался с ним лично?
– Да, много лет спустя, когда мы поехали в Москву. Это был великий опыт, но сейчас не об этом речь.
– Но почему не об этом?
– Потому что это другая история, а скоро будет светать, и мне надо дорассказать начатую.
– Продолжай, пожалуйста.
Несколько минут я молчал, размышляя о том, стоит ли говорить о семейных делах, или все же надо быть более сдержанным. Я склонялся к тому, чтоб просто недоговаривать, но при этом правдиво передать оттенки наших не самых простых взаимоотношений, в которых диктатура иррационального подавляла всякую логику. Мы мыслили, как картезианцы, но действовали, будто животные, ведомые инстинктом. Отец со своим братом Срулеком были партнерами в течение двадцати лет, но при этом математически подсчитано, что девятнадцать из них они между собой не разговаривали. По отдельности они были образцами логичности и сдержанности, но как только сходились – превращались в волков, дерущихся за добычу. Довольно часто бывало так, что разные мелочи (не к месту сказанная или недослышанная фраза, неявка по приглашению или нежелательное приглашение) рушили прочные внутрисемейные отношения, крепкую дружбу и глубокую привязанность или провоцировали бесконечные конфликты, запутанные и изнурительные, которые могли длиться годами, множиться, передаваться из поколения в поколение и сохраняться, когда о причинах этих конфликтов уже и думать забыли. И тогда эмоциональные потребности сводились к навязчивой потребности ненавидеть, уже никого не интересовали причины этой ненависти, никто не удосуживался вспоминать о них (в таких случая конфликты не разрешались и превращались в порочный круг, из которого уже не было выхода). Помню много семей, с которыми мы водили дружбу во времена моего детства, которые ходили в гости к нам или к которым ходили мы, – с большинством этих людей подружился и я, у нас возникали стабильные отношения. Некоторые из таких родительских друзей внезапно пропадали с горизонта без какого-либо объяснения – имена кого-то из них дома даже было не принято упоминать. Думаю, тут виной был отцовский характер – мать всегда была общительной, она старалась сохранять отношения и уживаться с людьми. Хотя, конечно, нельзя считать отца зачинщиком всех этих ссор. Бывало так, что кому-то из друзей требовалась помощь, и он предоставлял им банковские или финансовые гарантии, за которые потом ему же приходилось отвечать, и в таких случаях он оказывался в двойном убытке: терял и друга, и деньги. Отец неоднократно и с упорством наступал на одни и те же грабли, наивно проявляя заботу о друзьях, отчего у него нередко случались конфликты с матерью, которая, будучи практичным и здравомыслящим человеком, отговаривала его от спонтанной щедрости в предоставлении кредитов, в которой он сам потом незамедлительно раскаивался. Ведь однажды дав слово, он уже не мог его не сдержать.
Чтоб избежать досадных споров с матерью, отец стал заключать такие договоренности втайне от нее; это экономило ему нервы, но от роковых ошибок не уберегало. Подобный опыт только усиливал его скепсис по отношению к жизни, дружбе, чести и благодарности; многие, за очень редкими исключениями, пользовались тем, что он какое-то время (до момента, пока не убеждался в обратном) приписывал им все эти качества: для него-то они были неотъемлемой составляющей этики партнерства и отношений вообще. Могу с уверенностью сказать, что разочарование стало для отца чуть ли не профессией. Разочаровываясь в ком-то, он всякий раз чеканил одну и ту же фразу, характеризуя предателя или обманщика: «Он еще хуже моего брата», и это высказывание мало того, что не всегда можно было назвать справедливым, так оно еще и совершенно не вписывалось в тот формат отношений, который предполагало партнерство в делах: отцовское разочарование в дяде коренилось вовсе не в деловых отношениях и интересах, а в странных представлениях обоих об этике и в их детской вражде, которую не распутал бы ни один психоаналитик в мире. Справедливости ради стоит заметить, что и дядя Срулек накопил к отцу достаточно претензий. Я бы не решился утверждать (хотя и хочется, потому что мне кажется правдоподобным), что оба брата ценили друг друга – никто бы мне все равно не поверил.
Я собирался с воспоминаниями, прикидывая, что этих моих слушателей я никогда больше не увижу, а значит, могу посвятить их в некоторые особенности наших внутрисемейных отношений. Так что из прожитого мне еще обнажить перед ними?
– Письмо от дяди Арона пробудило во мне воспоминания об украинской семье – о любви, взаимном внимании, нежности и прочих вещах, которых в моей жизни больше уже никогда не будет.
– Проявлять любовь непросто, – вставила Мария Виктория.
– Я нуждался в этих проявлениях привязанности, потому что они сильно контрастировали с тем разочарованием и враждебностью, которые окружали меня.
– Что именно ты имеешь в виду?
– Отец с дядей в Буэнос-Айресе жили в одной квартире, а потом в одном доме, то есть сожительствовали практически всю свою взрослую жизнь. К тому моменту, когда отец заболел во второй раз, они успели отстроить дом на пять квартир – для себя и детей. На первом этаже жила семья отца, а на втором – семья Срулека. Их разделяли не более трех метров высоты, но когда отец слег, братья избегали друг друга по неизвестным причинам, и таким образом те три метра превратились в тысячи километров дистанции. Дядя ни разу не спустился проведать отца. Я знаю, что он плакал, когда тот скончался, но все равно не пришел ни на бдения, ни на похороны. Всего несколько месяцев спустя у дяди обнаружили рак, и вскоре он скончался.
– И они так и не поговорили?! – Мария Виктория была ошеломлена.
– Так и не поговорили.
– А что тебя удивляет? – обратился к ней Хосе Мануэль. – Разве и в семьях наших родственников такого не случалось?
– Меня поразила схожесть. Думала, это только наша особенность, но, как выяснилось, ошибалась, – призналась она.
– Природа человеческая одна на всех. Помнишь, как Шейлок у Шекспира говорил: «Когда нас колют, разве из нас не течет кровь?»[47]47
Шейлок – главный герой пьесы У.Шекспира «Венецианский купец» (англ. The merchant of Venice), цитата в пер. И.Б.Мандельштама.
[Закрыть] (Пер. И.Б. Мандельштама.) – это я решил блеснуть эрудицией, но Хосе Мануэль перебил меня: – Поведение дяди оскорбило тебя?
– Нет, это было вполне предсказуемо. Но мать очень задело. Образ дяди Срулека был замещен, расширен и превзойден дядей Ароном, который стал для меня харизматичной фигурой, доказательством, что мои детские воспоминания не были сном, а если и были, то сном фрустрирующим, и в таком случае ущерб он них был непоправимым.
– Почему?
– Тогда я этого не знал.
Без вести погибшие
После описания отцовской кончины мне захотелось ускорить ритм повествования.
– На протяжении всего 1966 года мать поддерживала переписку с Бетей, но в пределах, допустимых Советами. Письма были посвящены в основном обыденным вопросам, вроде здоровья, семейных дел и погоды. Бетя избегала любых упоминаний о муже, а мать жаловалась на одиночество не переставая. Иногда она отвлекалась на воспевание своих самоотверженных детей и внуков-вундеркиндов. Позволить себе писать о более интимных вещах они просто не могли. Но с течением временем Бетя, старавшаяся действовать в установленных рамках, стала потихоньку заходить в зону риска.
– То есть? – спросил Хосе Мануэль.
– Я приведу пример. Чтоб избежать недомолвок, она прокомментировала научную карьеру своего сына таким образом: «Груз ответственности в привилегированном положении».
– Не понимаю, в чем тут рисковость, – отреагировал Хосе Мануэль.
Поскольку предпринимательство было запрещено, мы прочли между строк, что мой двоюродный брат занимался какими-то научными разработками, связанными с обороной или госбезопасностью. На самом деле его работа была связана и с тем и с другим, хотя позже мы поняли, что кузен был прирожденным ученым, который не пошел по партийной линии, пожертвовав таким образом университетской карьерой, где он бы смог достичь больших высот, и сделав ставку на собственную свободу. Возможно, мы преувеличивали, но то ее высказывание показалось нам небезопасным: одна неудачная фраза могла разрушить карьеру, а вместе с ней и жизнь.
– Чем тогда объяснить Бетино безрассудство?
– Этого мы не знаем. Возможно, она сделала это из тщеславия, или политическая ситуация была помягче. Было и еще одно письмо, потрясшее нас: Бетя писала в нем об Ароне, называла его по имени и рассказала о том, чем он занимался (об этом еще доктор Астров туманно намекал). Арон был специалистом по озеленению и к тому же заслуженным преподавателем в Московском университете. Разглашение подобной информации, безобидное в любой другой стране, могло вызвать кучу проблем, поскольку расценивалась как разглашение государственной тайны.
– Еще один бессмысленный рискованный поступок.
– Бессмысленный и не стоящий внимания, но если проанализировать эволюцию советского государства с нынешних позиций, он вполне объясним: Бетти дошла до предела, но не вышла за него. Это мы больше страдали от террора благоразумия.
– А были еще письма?
– Да. После двух незначительных по содержанию писем мы получили одно, еще более изобличающее. Открыв его – я, как обычно, приехал к матери и прочитал пару абзацев, – мы осознали его важность. Письмо было на идиш. Мать прочла его первой, и по ее бледности и слезам, что стояли у нее в глазах, я понял, что речь идет о чем-то очень скорбном. Я долго не мог понять, о чем именно. Мать обняла меня, прижала к себе и все повторяла, как заведенная, одну и ту же загадочную фразу:
– Я всегда знала, всегда знала, но все обманывала себя напрасными надеждами.
– Что случилось, мам, что такое, скажи мне?
Но она зациклилась на этих словах, и мне пришлось отобрать у нее письмо, чтоб узнать, что же произошло.
– И что там было?
– То, что мы уже и так знали: подтверждение тому, что родственники матери и отца были убиты, а также описание того, как умер каждый из них.
– Тогда отчего она так отреагировала?
– В том письме без подписи, которое пришло после войны, Арон очень мало об этом написал. А письмо Бети было куда более подробным.
Спустя двадцать с небольшим лет после войны Арону разрешили вернуться в Теофиполь, наш родной поселок, чтоб принять участие в церемонии памяти жертв нацизма. Там он случайно встретился с соседом, очевидцем тех событий, который и рассказал ему, что произошло с нашими родственниками. Бетя пересказала нам эти сведения в письме, но в рамках, дозволенных режимом.
Содержание письма ранило меня, но все же меньше, чем мать, поскольку я с этими смертями уже смирился. Кроме того, сухость изложения неприятно поразила меня. В свое время я был одержим желанием узнать, как погибли мои близкие. Спустя три года, в 1969 году, я смог поговорить с дядей Ароном, и он поделился со мной всем, что знал.
Мы увиделись в Москве, в его крошечной квартирке. На чуть более чем тридцати квадратных метрах уживались дядя, тетя, их дочь и огромная научно-художественная библиотека. То был первый наш день в столице, и оттого мы всё смотрели друг на друга, обнимались, плакали и, конечно же, разговаривали. Около полуночи, после долгой беседы с нами кузен Женя (интеллигентнейший, образованнейший человек, типичный фанат науки) и его жена Алла (приятная, тактичная женщина, полиглот, работник Ленинской библиотеки) отправились домой. Мать задушевно общалась с Бети, а я завел беседу с дядей Ароном, человеком необычайного ума, обладателем фотографической памяти, который выражался со свойственной нашей семье темпераментностью, подкрепляя речь буйной жестикуляцией.
В ту ночь я узнал правду и кратко перескажу ее.
Арон узнал, что в Теофиполе будут отмечать день памяти «советских жертв нацизма» – название, глубина и расплывчатость которого таили в себе подвох: на самом деле имелись в виду евреи, но почему-то этот факт требовал маскировки, по мнению властей. Арон получил разрешение съездить в Теофиполь, чтоб поучаствовать в мероприятии. Он был возмущен и оскорблен таким положением вещей, но все же решил поехать туда, потому что это была возможность узнать, как погибли родные и где они похоронены.
Поселок показался Арону чужим – он не узнавал улицы, не нашел свой дом, не встречал знакомых лиц, потому что все застраивалось, и в новые дома уже вселялись новые жильцы. Окраина превратилась в спальный район, а главная улица – в транспортную артерию.
Мероприятие привлекло множество людей. Риторики было более чем достаточно, был открыт памятник ополчению, все отдали дань жертвам и героям, но слово «еврей» не прозвучало ни разу, как будто его просто не существовало. Арона ошеломило количество людей, лицемерие речей, и тут он заметил человека, чье лицо показалось ему знакомым. Это был крепкий лысеющий мужчина, у него дергалось веко, а во рту было несколько золотых зубов, и он тоже наблюдал за Ароном. Затем он решительно направился к дяде, чтоб выспросить, не доводится ли он родственником Зисе Ротенбергу.
– Я его сын Арон.
Мужчина оказался соседом, одним из немногих евреев, если не единственным, кто пережил эту резню. Он был шокирован ответом Арона, потому что был уверен, что тот погиб, как и остальные его родственники. Гриша Фарберман, так его звали, рассказал, что сбежал из поселка в начале оккупации и до конца войны прятался по лесам с другими товарищами. Арон вспомнил, что Гриша стал (и, вероятно, остался) членом партии, отчего небезосновательно забеспокоился, но и правду о смерти близких ему тоже хотелось узнать.
Появление Арона вызвало интерес среди тех, кто помнил нашу семью. Неожиданно образовался небольшой кружок: земляки – бывшие жители Теофиполя, съехавшиеся со всех концов страны в этот день памяти, собрались вместе и рассказывали кто что знает о судьбе остальных. Они хотели побольше узнать о том, как Арон живет, но и о себе рассказать тоже хотели. Среди присутствующих Арон смог выделить, даже спустя годы, мужчину, который когда-то, будучи мальчиком, был ему знаком. Арон напряг память, всмотрелся и сообразил, кто перед ним.
– Тебя я помню, – произнес он, указывая пальцем. – Твоя семья жила напротив нас, так? Как тебя зовут?
– Володя.
– Володя. Помню тебя еще ребенком, Володя. Узнаешь меня?
Тот ушел от ответа. Он вел себя странно, будто сильно нервничал.
Арон спросил:
– Как твои родители? Я хорошо их помню.
– Они умерли, – ответил Володя.
– Мне очень жаль, – сказал Арон, – они были хорошими людьми и прекрасными соседями.
На это Володя ничего не сказал.
– А твоя маленькая сестра? Светловолосая, худенькая. Не припомню имени…
– Наташа.
– Да, Наташа. Как она?
– Наташа тоже умерла.
Услышав это, Арон подошел к Володе, чтоб обнять, но тот почти тут же отстранился, с силой освободился от рук дяди, развернулся и ушел, затерявшись в толпе. Его бегство сильно расстроило Арона, но он списал такое поведение на эмоциональную травму, нанесенную войной, вероятно, Володя был из тех, кто имел подобный опыт. Гриша убедил его не беспокоиться и не обращать внимания:
– Пусть идет. Все равно не лучшая компания.
– Почему?
– Он только что из тюрьмы вышел.
– За что ж он сидел?
– За ошибки молодости.
– Немцы убили и его семью тоже?
– Немцы? Не думаю. Ходили слухи о мести, но я бы вообще в это не лез.
Я прервал пересказ, чтоб кое-что уточнить:
– Наташа была моей подружкой в детстве, мы вместе играли. А Володя, ее старший брат, вечно к нам лез. Он всегда был неприятным типом. А в Наташу я был немного влюблен – она была не просто добрая, а еще и очень красивая. Новость о ее смерти была для меня ударом – будто мы только вчера с ней виделись.
В ту ночь меня поджидали и другие неожиданности.
Встреча Арона и Гриши была буквально судьбоносной. Прожив много лет в деревне под Киевом, Гриша, тем не менее, хорошо помнил Теофиполь во время оккупации. Арон внимательно слушал его рассказ на протяжении долгих часов, он задавал вопросы, и Гриша отвечал с открытостью, неожиданной для партийного активиста. Между ними состоялся диалог, который был пересказан мне Ароном, а я перескажу его вам.
Во время нацистской оккупации большинство евреев погибло, но некоторым, как Грише, удалось спастись бегством в лесах, где они формировали партизанские отряды. Немцы не преследовали их, потому что поход в лес означал большие человеческие жертвы; они не могли себе этого позволить, потому что кто-то должен был руководить новобранцами, командовать на линии фронта и договариваться с местным населением. И если во время таких зачисток утраты среди партизан были небольшими, то от операций отказывались; если же во время зачистки немецкие отряды попадали в засаду, то немцы отыгрывались на гражданском населении. Если задерживали партизана, его жестоко пытали. В последнем немцы были экспертами. Ополченцы знали слабые места врага, но не были достаточно вооружены для открытого боя. Зато они постоянно ходили в шпионские рейды и знали, что происходит в деревнях и в радиусе ста километров вокруг. При этом они никак не могли тягаться с немецкой военной мощью. Гриша провел в лесах почти всю войну и знал, что происходило с нашей семьей, хотя говорил об этом неохотно.
– Что стало с моим братом Мойшей? – спрашивал Арон.
– Вы помните? – обратился я к своим слушателям. – Бабушка писала, что Мойша исчез.
– Да, – ответила Мария Виктория.
Гриша замялся, прежде чем ответить, потом подробно все рассказал:
– Это сложный вопрос. Ты не хуже меня знаешь, Арон, что не немцы виновны в исчезновении Мойши, потому что это случилось в середине тридцатых, еще до войны. Это было тяжелое время: постоянные конфликты идеологий, борьба за революционное лидерство, которое определяло судьбу страны. Некоторые предатели сговорились против руководства партии. Они даже сами признались в этом перед трибуналом. Я всегда был и остаюсь убежденным коммунистом, типичным активистом, но я не слепой: признаю, что в то время мы все совершали промахи. Но, когда дело касается поворота истории, кто не ошибается? То были бурные годы, все было хлипко, запутанно: врагами могли оказаться даже домочадцы. Нельзя было никому доверять, необходимо было следить, чтоб лицемеры, мечтатели, наивные, заблудшие не пытались вести нас, потому что они привели бы нас к катастрофе. Думаешь, без сильного руководства мы бы выиграли войну? Чтобы укрепиться на руководящей позиции, надо было выжить в битве, в которой использовалось любое оружие и любые средства; сейчас некоторые из них выглядят сомнительно, но тогда, в то время, их использование можно было оправдать. Одно заявление могло спасти много жизней, а могло – и это часто случалось – приговорить невиновных. Твой брат Мойша пал невинной жертвой того времени.
Ошарашенный, Арон умолял рассказать, как все было.
– Меня не интересует философия, – добавил он, – только факты.
– Ты имеешь право знать, что произошло, и я обязан рассказать тебе об этом, – ответил Гриша. – Твой брат Мойша стал жертвой политического заговора, в котором были замешаны чувства. Заговорщики использовали самый доступный инструмент – ложь. Твой брат был ответственным руководителем и великим тружеником. За несколько лет он достиг больших высот – стал местным секретарем партии, а это большой груз, особенно для такого молодого человека, но и открытая дверь в многообещающее будущее. У Мойши было слабое место: он был женат на очень интеллигентной и привлекательной женщине, но, как говорят некоторые, беспринципной.
Вероятно, политические успехи и молодая красивая жена стали объектами зависти со стороны тех, кто мог бы потянуть за кое-какие ниточки и занять не только место Мойши в партийной структуре, но и на супружеском ложе. В то время доносы, обвинения, ложь, поклепы, правда – все это варилось в одном котле, невозможно было отделить одно от другого. Власть предпочла решать такие вопросы методом, который сейчас не применяется: обвинить, а потом посмотреть, сможет ли подсудимый доказать невиновность.
– В чем обвиняли моего брата?
– Да какая разница? С их точки зрения, он был виноват во многом. Думаю, он был приговорен еще в тот момент, когда на него пришла первая анонимка. Суд был скорым. Мойша хотел доказать, что ни в чем не виновен, но когда обвинение в преступлении – предательстве, антинародной деятельности, антигосударственной деятельности, пособничестве и участии в заговоре – прозвучало из уст одного высокопоставленного партийного чиновника и собственной жены Мойши, попытка защиты провалилась. Ты все правильно услышал: от его собственной жены.
– Ты что? Они были прекрасной парой, – возмутился Арон.
– Казались такими – да, но на самом деле она спуталась с кем-то из его же товарищей.
– Поверить не могу, – повторил Арон.
– Но это правда. За должность и жену Мойша заплатил слишком дорого: однажды ночью за ним пришли, и с тех пор никто не знает, что с ним стало. Спрашивать тоже никто не решался.
– Зачем ты приплетаешь сюда его жену? Не боишься наговаривать почем зря? – не успокаивался Арон.
– Нет. У меня есть доказательства. Всего через несколько месяцев притворного траура она стала появляться в обществе вместе с новым местным секретарем партии – товарищем, который сменил Мойшу на этой должности, и своих отношений они не скрывали. Они даже, не краснея, жили в том же доме, и плевать им было на сплетни. Перед войной секретаря вместе с женой вызвали на другую, более высокую должность, и никто их больше не видел. Это все, что мне известно.
– А были какие-то новости о судьбе Мойши?
– Во время войны кто-то говорил мне, что ему говорили (оттого это ненадежная информация), что ГПУ обвинило его в троцкизме и что через два года он умер в тюрьме. Когда-нибудь справедливость будет восстановлена.
– Его реабилитируют, а доносчиков осудят? – съязвил Арон.
– Не надо сарказма. Я уверен, что когда-нибудь ему вернут его доброе имя. Это единственное, что можно для него сделать. Твой брат стал ценой, которую надо было уплатить за возможность жить в социалистическом обществе.
– Надеюсь, он не зря собой пожертвовал. А ты что думаешь?
Гриша на этот вопрос не ответил. Он прикрыл дергающийся глаз, будто сосредотачиваясь, и спросил:
– Хочешь знать, как нацисты убили твою сестру Иту и ее семью?
– Я обязан узнать.
– Это история, от которой одновременно выть хочется и от ярости закипаешь.
– Так что произошло?
– Немцы наступили неожиданно, мы к этому готовы не были. Мы терпели поражение за поражением. За несколько дней они захватили Волынь[48]48
Волынь – историческое название местности, к которой относятся северо-западные области современной Украины.
[Закрыть] и заняли Теофиполь вместе с окружавшими его деревнями. Мы никак не могли защитить себя и выступить против них. Кто-то из молодежи смог сбежать, но старики и больные остались – они либо не пытались, либо не смогли уйти; к тому же у нас не было ни запасов, ни лекарств, ни транспорта, чтобы эвакуироваться массово. Население в страхе смотрело на захватчиков, но были и такие, кто с радостью пошел на контакт с ними и стал им служить. Двадцать четыре года социализма повыветрились из памяти за сутки: за несколько дней бывшие сыны революции превратились в нацистских лакеев, потому что чувствовали с ними родство. Немногие решились сопротивляться, а большинство надеялось на милосердие со стороны оккупантов. Были украинцы, которые радовались их приходу, и даже нашелся один еврей – Лейзер, твой шурин, муж Иты.
– Сумасшествие какое-то!
– Именно так.
– И что делал Лейзер?
– Лейзер был маленьким ребенком, живущим в собственном выдуманном мире. Что еще добавить к тому, что тебе и так о нем известно? У него было большое сердце, да только фанатизм ему на пользу не пошел. Мы оба знаем, что он продолжал запрещенные законом религиозные практики, да еще и власть клял на чем свет стоит. Никто не думал заявлять на него, так как за глаза его считали парнем со странностями, политически безобидным, даже когда до нас доходили слухи, будто он делал провокационные заявления, вроде «с немцами мы сойдемся, потому что они в Бога верят, не то что богохульники – атеисты-большевики».
В начале немецкой оккупации Лейзер был очень воодушевлен: он был уверен, что немцы спасут его и всех остальных от коммунистического позора. Твоя сестра Ита переживала, поскольку такие слова могли подвести его под суд и таким образом погубить всех родственников. Я узнал о случившемся несколько месяцев спустя, когда твой брат Биньямин сообщил мне об этом. Все сбежали, пока была возможность, а Лейзер решил остаться в Теофиполе вместе с семьей, чтоб принять «освободителей», как он их называл в своих бредовых фантазиях. Ита и Дудек, твой племянник, который был гораздо благоразумнее своего отца, упрашивали его покинуть поселок, потому что хорошо понимали нацистскую политику относительно евреев, но Лейзер не сдавался: одурманенный верой, он решил остаться в Теофиполе, чтоб служить Господу под покровительством нацистов. Но в тот момент у его Господа были другие заботы – он был в отлучке, когда твой дядя и его родные умоляли о спасении. Немцы вошли в Теофиполь, и Лейзер принял их так же радушно, как некоторые украинские националисты. Они избавили их от необходимости искать себя. Через несколько дней Лейзер, Ита и Дудек погибли от рук нацистов – те исполнили все с немецкой дотошностью, опрятностью и эффективностью. Лейзер хотел служить Богу, а сам сунулся в волчью пасть – и свершилось неизбежное. Представляешь, в какой растерянности он глядел на расстрельный взвод?
Арон побледнел, сердце его колотилось с дикой скоростью. Он только и смог, что пробормотать:
– Думаешь, они б выжили, если б вовремя сбежали?
– Не знаю. Я не фаталист и считаю, что человек способен влиять на свою судьбу. Лейзер пошел по ошибочному пути, считая, что будет служить Богу, и сделал это ценой своей жизни и жизни родных. Это можно воспринять как блажь одержимого. Но вот Бог его мне не понятен. Если он и есть, то кажется мне жестоким и несправедливым. Надо ли понимать, что и Бог ошибся? Я атеист, и потому обе эти ошибки бесят меня.
Арон и Гриша надолго замолкли. Дядя решил сменить тему:
– Расскажи, что стало с Биньямином?
– Биньямин учился в Киеве, но война застала его в родном поселке. Когда немцы пришли, он сбежал в леса, как и я. Там мы познакомились и стали приятелями. Биньямин был младше двадцати, а я старше сорока, но все же мы отлично друг друга понимали. Бывало, мы говорили о литературе и поэзии, и его эрудиция поражала меня. У него не было военного опыта, но благодаря своей заинтересованности он возглавил отряд, где все без исключения были старше него. Он схватывал все на лету, почти не болтал и действовал с умом. Надо признать, что все его решения были добротно взвешены.
Но его главное достоинство, отвага, нивелировалось склонностью идти на ненужный риск: Биньямин был известен как партизан, а значит, стал приоритетной мишенью для немцев. Я пару раз ходил с ним в рейды и должен сказать тебе, что поддержание одного уровня с ним требовало стальных нервов. С приобретением опыта его операции становились все более эффективными. И немцы установила награду за его поимку – награду достойную и слишком соблазнительную.
Мы так и не узнали, кто его предал, но это точно был кто-то из наших: нас поджидали в засаде в слишком удачное время. Большинство наших были убиты, а Биньямина взяли в плен. Они неделю пытали его – в лучших своих традициях, – но он так и не заговорил.
– Вы не пытались спасти его?
– Это было невозможно. Мы были разобщены, деморализованы, не доверяли друг другу и понимали, что немцы только и ждут нашего нападения, чтоб добить оставшихся. Мы неделю спорили, но в итоге пришли к выводу, что ничего не сможем и не будем предпринимать.
– А потом?
– Они поступили вполне ожидаемо. Чтоб запугать жителей поселка, всех собрали на площади наблюдать за казнью: Биньямина повесили и выставили тело для всеобщего обозрения на несколько дней, чтоб все поняли, с кем имеют дело.
– Где его похоронили?
– Никто не знает. Немцы уничтожили все доказательства, все улики, все следы, чтоб предотвратить мифотворчество.
– Не знаешь, у него была невеста или любимая?
– Не знаю, но, судя по тому, как он иногда по памяти декламировал стихи, кто-то у него был.
Гришин рассказ поразил Арона. С тоской и нежностью он вспоминал мальчишеское лицо младшего брата. Чувства свои он словами описать не мог – не было таких слов. Заметив, что глаза дяди полны слез, Гриша из уважения к его чувствам замолчал. Чуть позже Арон спросил его:
– Скажи, как умерли мои отец и мать. Не смотри, что я в таком состоянии. Сегодня страшный день для меня, но это необходимо пережить: лучше знать правду, чем жить в неуверенности и неведении.
– Как умерли твои родители? О таком не просто рассказывать, но я постараюсь. Вернемся к моменту, когда немцы заняли Теофиполь. Они немедленно стали претворять в жизнь свою антиеврейскую политику: выводили людей группами за пределы поселка, заставляли каждого рыть яму, которая впоследствии становилась ему могилой, а затем всех расстреливали.
Для определения и изобличения евреев немцы использовали полицаев-украинцев из местных. Это не была обязаловка – поперву количество желающих сотрудничать превышало потребности захватчиков. Вскоре доносчики ощутили на себе внимание партизан, и энтузиазма у них поубавилось, хотя нацисты покровительствовали им, всячески привечали, покупая таким образом жизни ни в чем не повинных людей. Что меня сильнее всего мучило в той ситуации, так это членство некоторых коллаборационистов в компартии.
Когда началось истребление евреев, Зися, твой отец, был болен и не мог выйти из дома, хотя, несомненно, он знал, что происходит на улице. Думаю, он просто решил принять свою судьбу. Твоя мать оставалась с ним, они остались одни, и им ничего не оставалось делать, кроме как ждать страшной кончины. Одним утром в дом пришли двое немецких солдат и с ними украинец – сосед, который пошел на сотрудничество с врагом. Когда они вошли в спальню, твой отец дремал, а мать лежала у его постели. Им бесцеремонно приказали следовать за конвоем: