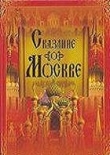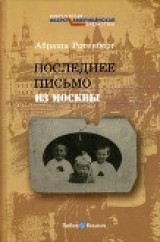
Текст книги "Последнее письмо из Москвы"
Автор книги: Абраша Ротенберг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Смысловые неточности
Мария Виктория устроилась в кресле рядом со своим спутником, а мы с Диной сидели напротив них с бокалами в руках.
Мы отпускали саркастические замечания в адрес телепередачи, когда молодой человек, уже немного навеселе (как и остальные), но прекрасно держащий равновесие, сказал:
– Вот уже два часа мы провели вместе, а до сих пор не представились. Как говорят в полиции, назовите свое имя.
– Отличная идея, – неожиданное одобрение Марии Виктории вполне отражало наши желания. Она обратилась к моей жене:
– Как я поняла, тебя зовут Диной.
– Да, Диной.
– Но я так и не поняла, как зовут твоего супруга.
– Абрахас, – ответила она.
– Звучит экзотично.
– Меня зовут Хосе Мануэль, – вклинился молодой человек, – а ее, как вы все уже поняли, Мария Виктория. Хоть и экзотично, но мне кажется знакомым. Мне это имя встречалось в одном романе, который я читал много лет назад. Если не ошибаюсь, это божье имя.
Я не удержался:
– Божье, но и почти человеческое, поскольку в нем одновременно присутствует и божественное и дьявольское. Оно стало известным после выхода романа Германа Гесса «Демиан». Моя мать была уверена, что я должен носить как минимум божье имя.
– Это распространенное в Аргентине имя?
– Нет, вовсе нет. Я бы сказал, очень редкое. Мы с Диной нетипичные аргентинцы. Я родился в Советском Союзе, но вырос и учился в Аргентине, а Дина родилась в Аргентине, но выросла в Чили. Кроме того, должен признаться, что меня зовут не Абрахас, а Абраша. У меня не очень-то божье имя, оно является плодом еврейско-русской традиции.
– Ты еврей? Никогда в жизни не встречал ни одного еврея, – удивленно воскликнул Хосе Мануэль.
– Ты вспомни о том, что нас не особо привечали в течение пяти столетий. Что до моего имени, то меня зовут Абрамом, и в русском языке окончание «-ша» уменьшительно-ласкательное. В моем случае Абрам с добавлением пары капель ласки превращается в Абрашу.
– Как Алеша или Наташа у Достоевского, – уточнил Хосе Мануэль.
– Именно.
– Сколько тебе было лет, когда ты приехал в Аргентину?
– Почти восемь.
– Ты был не так уж и мал. Ты помнишь, как вы жили в России?
– Да, довольно хорошо. У меня было счастливое детство, хоть я тогда этого не понимал.
– Коммунисты тогда уже были при власти? – с сомнением спросила Мария Виктория.
– Революция началась в 1917-м. Посчитай, только не накидывай слишком много лет, а то я помню, сколько мне. Я сын революции – родился и вырос при коммунизме. Из-за революции семье пришлось отречься от титулов. Ты сейчас с графом говоришь.
Мария Виктория выглядела растерянно, но почти сразу поняла, что я дурачусь. Она рассмеялась, а Хосе Мануэль решил развить эту тему:
– Я читал, что это было ужасное время. Расскажи нам, что ты запомнил.
– Не стоит ворошить прошлое. Я бы лучше о вас послушал.
Вот уже много лет я, по собственному решению, старался не распространяться о семье. В Аргентине я часто использовал эту тему, чтоб в припадке нарциссизма хоть какое-то время побыть в центре внимания. В последние три года, в изгнании, мы были обречены на анонимность и все меньше помнили о ценности того, что составляло нашу идентичность; кроме того, наше прошлое совершенно никого не интересовало.
Одним из важнейших аспектов изгнания является замещение привычной рутины незнакомым опытом и неведомыми действиями. Если же эти неведомые действия еще и не отображены в знакомом тебе языке, в таком случае их усвоение требует многих лет, если не всей жизни. Кроме этого, есть еще грусть от разлуки с родными местами и исчезновение правил, которые принимались бы сами собой, принимались бы как должное. В изгнании стираются связи с недавним прошлым, истекает срок действия привязанностей к своим корням, ты перестаешь принадлежать к какой-либо культуре, ты больше не можешь свободно дышать. Ты плаваешь в пустоте, и нет места, к которому можно было бы пристать, которое ты принял бы и которое приняло бы тебя за своего; и когда ты пытаешься ухватиться за какие-то ничтожные остатки того, чем был когда-то, будто утопающий за соломинку, тебя это не спасает – ты не ощущаешь себя полноценным человеком, тебе больше не интересны окружающие, да и ты сам тоже.
Когда мы приехали в Мадрид и пытались влиться в определенный круг людей, кичившихся пониманием политической ситуации и принадлежностью к интеллектуалам, я пытался овладеть словарем, который позволил бы мне донести наиболее ценные, по моему мнению, истории, с тайным намерением быть принятым на равных. Я был убежден, что возможность узнать нас поближе будет воспринята с энтузиазмом, но, как это часто со мной случалось, я ошибся. Наши новые друзья не были способны поддержать этот монолог, в особенности монолог, исходящий от чужака, который даже представить себе не мог, что его рассказы не представляют никакого интереса.
Иногда я встревал в диалоги, исключавшие какую-либо большую смысловую нагрузку. Они ограничивались анекдотическими ситуациями или обменом забавными, изобретательно построенными провокационными фразами: это был ключ к принятию на равных.
Я предпочел отказаться от своих диалектических амбиций, взращенных в аргентинских кафе (где я просиживал часами), и подчинился местным правилам, исключавшим личностные диалоги.
Я стал практиковаться в притонной культуре, где посетители болтали одновременно и где никто не слушал ни себя, ни других, набивая рот строганиной и пивом, или вином, и хамски разбрасывая на пол салфетки и объедки.
Обмен идеями, элементарный диалог, не говоря уж о рефлексии, игнорировался или просто не поощрялся ввиду общего акустического фона.
В этом сумасшедшем доме собеседник превращался в сосуд, в который можно было слить слова, что вертелись на языке и просились наружу. «Другой» не представлял интереса: он существовал лишь как ответ на твою потребность говорить. И отсутствие интереса никого не беспокоило, схватись за первого попавшегося под руку, и он изобразит все, что тебе надо. Удивительная привычка, к которой тут относились снисходительно и терпимо, – обоюдный словесный онанизм.
В момент, когда я отказался говорить о прошлом, у меня появилось предчувствие, что судьба преподносит мне подарок: вокруг горы, и есть мужчина и женщина, двое незнакомцев, которым не все равно, кто мы такие и откуда пришли. Как же мне удержаться от соблазнов, которые пробудил во мне их интерес?
Хосе Мануэль задал мне вопрос, не подумав о последствиях. Я мучился желанием ответить ему, но в то же время меня сдерживало присутствие Дины, которая столько лет стоически терпела то, как я оттачивал свои монологи.
Мы оба хотели отдохнуть на этих выходных, а перспектива выслушивать мой репертуар была бы несправедливой по отношению к ее потребности расслабиться. Из соображений такта я решил не вдаваться в пространные рассуждения о себе и своей жизни и поддержать общую беседу. И наши собеседники не возражали.
– Рассказать о себе?
– Очень вас прошу, – настаивал я.
Хосе Мануэль одарил меня скептической ухмылкой и сказал:
– Оно того не стоит. Обычная история – учеба и практика. Жизнь врачей – это закрытый мир. Ни на что не хватает времени. Мы можем говорить лишь о болезнях, лекарствах и смертях, а развлечения сводятся к критике в адрес коллег. Другое дело вы…
Мы начинали беседу, обращаясь к друг другу на «вы», и, совершенно не сговариваясь, перешли на «ты». Символизировала ли эта грамматическая перемена сокращение дистанции от формальной до интимной? Ни в коем случае.
Я вырос в стране, где, в мое время, отношения начинались с «вы» и на «вы» заканчивались. В Аргентине редко кто-то кому-то тыкал. Давние приятели осмеливались тыкать только после долгих лет плотного общения, а то и вовсе никогда. В семьях супруги традиционно общались между собой на «вы», даже оставаясь наедине. Никто не осмеливался тыкать родителям.
Когда я впервые попал в Мадрид, меня пригласили на прием в один аристократический дом, где ретроградные формальности в общении были признаком уважения. Я был молодым (по сравнению с хозяйкой) и спокойно воспринимал обращение на «ты». Со своей стороны, помимо «очень приятно» и «сеньора», я использовал «вы» в общении с ней, что было встречено резким неприятием.
– Почему ты мне выкаешь? – спросила она, явно обидевшись.
– Из уважения, – ответил я.
– Из уважения надо тыкать. Запомни раз и навсегда: в Мадриде на «вы» обращаются только к прислуге.
За эти три года я так и не привык к тыканью, и то, что я совершенно безропотно стал так обращаться к незнакомым людям, вызвало у меня чувство родства и иллюзорные надежды на то, что между нами может возникнуть что-то вроде дружбы.
– Другое дело мы, – повторил я за ним, сменив местоимение. – А что мы? Думаю, ты в нас ошибаешься. Жизнь врача почти так же или настолько же увлекательна, как жизнь первопроходца, если можно так сказать. То, что вы делаете ежедневно, интересно даже в мелочах: зависит от того, как с этим живешь и как об этом рассказываешь. В твоем случае несомненно то, что ты всегда зришь в корень, докапываешься до сути.
Тут вмешалась Мария Виктория:
– Я хотела бы сказать, как человек откровенный… Хоть мы встретили вас только этим утром, нам кажется, что вы другие. Почему? Назовем это чутьем, хотя это гораздо более тонкое чувство. У нас не так много возможностей пообщаться с иностранцами, а поскольку мы любопытны, нам нравится задавать вопросы.
– Дальше.
Мария Виктория продолжила:
– Дина, расскажи, чем ты занимаешься?
– Я музыкант, много лет посвятила пению, положила на музыку кучу стихотворений латиноамериканских поэтов и давала концерты. С тех пор как мы в Мадриде, я занимаюсь тем, что ставлю голоса.
Я не смог удержаться и гордо заметил:
– Дина чересчур скромничает. Она прекрасная певица, очень чувственная и яркая, к тому же прекрасный композитор. Надеюсь, ее преподавание – это временная мера, пока мы не встанем на ноги.
– Не будь так оптимистичен, – возразила Дина, – думаю, мне уже поздно возвращаться к пению.
– Расскажите, отчего вы уехали из Аргентины, – попросил Хосе Мануэль.
Дина дополнила сказанное в начале нашего знакомства: что ее внесли в черный список за то, что она пела песни на стихи запрещенных поэтов, что у меня были проблемы из-за газеты, что нам угрожали, пока мы не сдались, а в это время людей нашего круга и их детей похищали или убивали. Поскольку мы были уверены, что скоро разделим их участь, то решили на время укрыться в Мадриде.
Мария Виктория и Хосе Мануэль внимательно слушали Динин рассказ и все задавали вопросы о различных сторонах нашей жизни. Они впечатлились, услышав о том, как происходили узаконенные репрессии, о мстительности властей, о страхе, о неопределенности и о насилии.
В ответ мы слышали слова поддержки и сочувствия.
Чтоб как-то разбавить мрачную атмосферу, вызванную нашими рассказами, Мария Виктория без перехода обратилась ко мне тоном, который не предполагал отказа:
– А теперь расскажи о том, как ты жил в Советском Союзе. Нас эта тема очень интересует, особенно если можно послушать очевидца.
– Это было больше сорока лет назад. Что же я могу рассказать?
– То, что с тобой происходило.
– Со мной ничего такого не происходило…
– Не упирайся.
– Если я начну говорить, то уже не остановлюсь.
– Мы готовы рискнуть. Если ты будешь говорить слишком долго, мы просто оставим тебя и пойдем спать.
Я с улыбкой посмотрел на Дину в поисках одобрения и поддержки, но кроме иронии ничего на ее лице не разглядел. Эта ее реакция должна была удержать меня от рассказа, но я никак не мог совладать со своими слабостями.
– Не знаю, с чего начать, – произнес я, пытаясь понять, достаточно ли в последней бутылке вина для того, чтоб мы продержались до конца вечера. Я протянул Хосе Мануэлю бокал, чтоб долил мне, хотя я уже давно вышел за рамки алкогольного благоразумия. Поднося бокал к губам, я заметил озабоченный взгляд Дины, но привычка была сильнее воли. Я сказал, ссылаясь на какого-то римлянина, чьего имени я не мог вспомнить, что «жребий брошен», и затем начал свой рассказ.
Вперед назад
– Я родился в маленьком украинском поселке спустя девять лет после Октябрьской революции; тогда стояла теплая весна, но вот политический климат вовсе не совпадал с природным. Великие дни революции сменились монотонной серостью, такой же, какой были и сами коммунисты, захватившие власть в стране.
В то время разочарованные поэты и писатели, интеллектуальный авангард революции, предпочитали сводить счеты с жизнью, чтоб всего этого не видеть. Поэты всегда были необходимы революциям, чтоб разродиться, но когда все устаканивалось, права голоса те больше не имели. Поэты и писатели, или, если общо, деятели искусства, в какой-то момент начинают представлять угрозу для революций – они несут в себе противоречие, ибо страстно желают недостижимой правды.
Некоторые из них открещивались от своих принципов и стали законченными бюрократами: прикрываясь непреложностью революционных истин, они рьяно изображали верность движению. Те же мечтатели, что продолжали верить в утопию, гибли под подошвами тяжелых сапог верных движению – у официально признанных поэтов с сапогами все было отлично. Когда революция институционализируется, у художника остается только два варианта: смириться с тем фактом, что реальность явно противоречит идеалам, либо покорно принять смерть.
Я родился во времена писательских самоубийств и триумфа бюрократии – они были страшными предшественниками моего появления на свет. Три бесконечных дня и три ночи я прорывался в этот мир – место, где политики изображали поэтов, в то время как настоящие художники слова навеки умолкали в могилах. Я говорю о Маяковском, Есенине, Бабеле, Михоэльсе, Эйзенштейне и других, очень многих, которые принесли себя или были насильно принесены в жертву вскоре после моего рождения.
Я рос в такое время и в такой стране, где умирали идеалы, но этого никто не замечал, поскольку работала политика симуляции – все делали вид, что флаги все еще реют, что они все еще символизируют мечту.
Когда я родился, мы с матерью оказались на краю смерти – если у смерти вообще есть край – но смогли выжить. Когда мне исполнилась неделя, надо мной провели обряд обрезания с нарушением всех правил гигиены. И я тут же вновь оказался на краю смерти и вновь выжил. Я с самого рождения был упрямым выживальщиком. И остаюсь им до сих пор.
– У тебя была религиозная семья? – спросил Хосе Мануэль.
– Религиозная ли? Иногда я спрашивал, зачем меня обрезали. Я был дитя двух светских семей, которые перешли к агностицизму, когда власть начала клеймить веру. Так что первое мое знакомство с иудаизмом было противозаконным: практиковать иудаизм, как и любую другую религиозную традицию, было запрещено. Религию называли опиумом для народа – так о ней говорил пророк Карл Маркс, и его последователи приняли это утверждение как непреложный догмат.
Иногда власть закрывала глаза на отступничество от атеизма, но в целом религиозные практики были связаны с риском, на который никто не хотел идти. Пожалуй, я родился в годы толерантности, но до сих пор не понимаю, отчего моя семья решилась на обрезание. Я не припоминаю никаких связей с иудейской традицией, об этом не принято было говорить. Как и в любой другой семье, у нас были свои исключения – дядя, который взывал к Господу, хоть сам не понимал, к какому богу он обращается и никак не связывал это слово – Господь – с иудаизмом. На самом деле, во что он верил, неизвестно.
– А ты сейчас веришь?
– Верю ли? Я кое-что знаю об иудаизме, – ответил я, – поскольку по некой случайности он вмешивался в мою жизнь. От Бога у меня вестей нет. Пока.
– Ты стал иудеем, хоть и вырос в семье атеистов? – допытывался Хосе Мануэль.
Я не мог – хоть и хотел – ответить ему: иудаизм и Бог входили в перечень моих страстных интересов, но я решил отклониться от этой темы, так как был убежден, что она еще всплывет в разговоре, когда придет время.
– В Советском Союзе я не осознавал нашей связи с иудаизмом, но по некоторым признакам я мог определить нашу «инакость» – не русские, не украинцы, а просто иные. «Инакость» всегда подразумевает страдание, в любой части света.
Ситуация была парадоксальна тем, что все вокруг – приятели и соседи – все они, кроме меня, знали, что мы евреи. Для них то, о чем я только подозревал, было ясно как день, ведь оно было частью их фобий, антисемитских предрассудков, укорененных в традиции, – этот изъян ни одна политическая система не в силах была исправить. Они боялись проявлять свое отношение публично, чтоб не нарушать закона, установленного режимом: любые проявления антисемитизма были запрещены. И они ждали момента, когда можно будет дать волю чувствам. И им не пришлось долго ждать – всего три пятилетки. Когда немцы вторглись на советскую территорию в 1941-м, некоторые украинцы содействовали нацистам в истреблении своих еврейских соотечественников.
– Чем это объяснить? – поинтересовался Хосе Мануэль.
– Очень просто: физиология и наследственность могут гораздо больше, чем идеология. Вековые традиции антисемитизма нельзя отменить декретами или забросать листовками. В моем советском детстве слово «еврей» было исключено из лексикона и русских и украинцев словно ругательство – они не решались его произносить, поскольку по закону это считалось оскорблением и расценивалось как преступление – вплоть до момента, когда Сталин придумал политику коренизации. Слово «еврей» начали писать в паспортах в графе «национальность», чтоб можно было безошибочно определить по паспорту, кто перед тобой, – не важно, где он родился. Если перефразировать Оруэлла, «все граждане СССР равны, но некоторые равнее». Евреи были окончательно и бесповоротно идентифицированы – они угодили в ловушку, из которой уже не было выхода. Они перестали быть русскими или украинскими евреями – чтоб не было ошибки, они были просто евреями. Идеальная база для воплощения планов Гитлера, а затем и сталинской антисемитской кампании.
Меня заносило: я хотел рассказать о том, что воспитывался в двух еврейских семьях и сам не знал, что они еврейские, что я жил в такие времена и в таком месте, где все предчувствовали наступление общественного строя, при котором все будут равны, где правит справедливость и нет искусственных границ. Обворожительная чушь, мечта, в которую все так хотели верить или делали вид, что верят, невзирая на жестокую действительность. Это то странное противоречие, в котором безвозвратно утонуло мое детство, – улыбка возможного светлого будущего, уродовавшая лицо реальности.
– Как ты понял, что ты еврей? – все спрашивал и спрашивал Хосе Мануэль.
– Это был очень травматичный опыт.
– Я спрашиваю потому, что это, вероятно, некоторым образом связано с историей переезда в Испанию.
– Да, точно, я потом объясню, как именно. Один вопрос: вы хорошо понимаете мою речь? Мне кажется, что я говорю на смеси двух диалектов, одним из которых недостаточно хорошо владею, – я отказался от аргентинских выражений, но кастильскими толком их заменять не научился.
– Я хорошо понимаю все, что ты говоришь. И, кроме того, нам очень нравится аргентинский акцент, – со смехом в голосе ответила Мария Виктория. – Он очень мелодичный, не то что такой сухой наш.
Я наградил себя еще глотком вина, совмещая таким образом приятное с полезным, сделал паузу и огляделся, изучая реакцию собеседников. В итоге решил продолжать, пока Дине не надоест.
– Не знаю, зачем начал свой рассказ с еврейской темы. Наверняка меня на это натолкнуло признание Хосе Мануэля о том, что тот в жизни не встречал ни одного еврея. Теперь мне кажется, что надо было начинать с совсем другого. Я уже говорил, скажем, что предки обеих семей, отцовской и материной, веками жили на территории Украины. Подозреваю, что корнями они связаны с Западной Европой, но до истоков мне так и не удалось докопаться. Кроме прочего, мои предки, с их еврейским счастьем, могли быть родом и из здешних краев – задолго до Римской империи, даже задолго до Земли обетованной. Изучение происхождения каждой отдельно взятой еврейской семьи всегда полно сюрпризов.
На протяжении столетий наша семья жила на Украине, на спорных территориях, которые постоянно делили между собой Польша и Российская империя. Когда я родился, Украина была частью того, что сейчас известно под названием СССР – первой страны в мире, построенной на принципах научного коммунизма и учении Карла Маркса, философа еврейского происхождения и убежденного антисемита – само собой, из социальных соображений. Как революция повлияла на жизнь моей семьи? Мой дед, который при царе долгие годы торговал скотом, был вынужден искать новые способы заработка. Не помню, чтоб он когда-либо страдал от финансовых трудностей. Что ж до его сыновей, то тут революция внесла серьезный раскол в семейные устои.
– В каком смысле?
– Двое старших братьев – мой отец был одним из них – не могли получить образование в царские времена. Они зарабатывали на жизнь как торговые посредники – и это при режиме, который поощрял лишь рабочих, крестьян и инженеров. Они так и не смогли влиться в новое общество, и им пришлось бежать из страны.
– А остальные братья?
– Я как раз собирался сказать. У младших братьев была возможность выучиться, даже в университет поступить.
– А со стороны матери?
– Материных родителей я живыми не застал. А вот семьи ее братьев и сестер долгие годы были моим пристанищем. Замечательные люди, настоящие воинствующие коммунисты.
– Прости, что перебиваю, – вклинилась Мария Виктория, – но я одного не поняла: ты говоришь, что тебя вырастили дядья и тетки, а где в таком случае были твои родители?
– В год моего рождения отец сбежал из страны и направился в Буэнос-Айрес, где уже обустроился его старший брат. Матери и мне пришлось какое-то время ждать разрешения на выезд из страны.
– Долго?
– Семь лет. И это было чудо, что нас выпустили.
– Семь лет! За столько лет ты, наверное, совсем забыл отца.
– Я не мог его забыть, потому что никогда и не знал. Я был слишком мал, когда мы расстались, но он постоянно присутствовал в моей жизни – письма, фотографии, рассказы матери. Из этих клочков информации я слепил свой собственный образ, портрет идеального отца.
– Что произошло, когда вы встретились?
– То, что вполне предсказуемо, – я был страшно разочарован.
– А мать?
– Она много работала и переезжала с места на место. Когда было возможно, она брала меня с собой, а когда нет – оставляла у родственников. Я был семейным любимчиком, пока мы не приехали в Буэнос-Айрес. Там начались все мои проблемы. Признаться, мне б не хотелось говорить об этом. Надо еще выпить.
Я плеснул себе немного вина и отхлебнул. На самом деле пить мне не хотелось – как, впрочем, и продолжать эту тему, но я чувствовал, что наши новые знакомцы ждут подробностей, а это тешило мое самолюбие. И я выбрал худшее из зол.
Об утратах и приобретениях
– Я проникся ненавистью к отцу с первого дня знакомства с ним.
Мои собеседники впали в ступор от такого заявления: оно стало для них полной неожиданностью, и, тем не менее, я не жалел о сказанном ни капли. Долгие годы я не мог отделаться от разочарования, которое у меня вызывал отец, и страха перед ним. С момента, когда я узнал его, меня не покидало чувство, что этот человек не станет мне отцом – отцом, который был мне необходим. Думаю, я тоже не отвечал его представлениям об идеальном сыне. Я вел себя как избалованный ребенок матери, которая чрезмерно потакала мне, снедаемая чувством вины.
– Мы все конфликтовали с родителями, но ненависть… Ты не преувеличиваешь?
Он не мог сдержать реакции, спровоцированной моей улыбкой и тем, что она могла значить.
– Я просто рассказываю историю и не пытаюсь как-то интерпретировать прошлое. Это просто факты. Вы вскоре поймете, что именно к этому привело. Сложно словами описать, что я чувствую. Мои чувства работают гораздо лучше моего рацио. Даже несмотря на то, что мой психоаналитик пытался объяснить мне, как второе вытекает из первого, но я так и не понял.
На этот раз улыбнулся Хосе Мануэль.
– Так ты даже к психоаналитику ходил?
– Как и все аргентинцы.
– Судя по результатам, переживать было не о чем?
Инстинктивно я удержался от ответа. Хоть все это и были шуточки, но незаметно мы могли увязнуть в споре, отчего быть аргентинцем всегда значит жить на краю пропасти, как в политическом, так и в социально-экономическом плане. Я также решил избавить их от скептических выкладок относительно психоанализа и его апологетов – не хотел расстроить их или разочаровать. Я предпочел ответить на вопрос вопросом, который напрашивался сам собой и который был больше похож на утверждение:
– Похоже, твой вопрос подразумевает и признание. Кто-то из вас – или вы оба – уже побывал на кушетке, или я ошибаюсь?
Тут на меня как-то сложно посмотрели – молча и со странной улыбкой, выражающей то ли сомнение, то ли что-то еще, а затем последовал уклончивый ответ.
– Да мы тут все такие, – сказала Мария Виктория, улыбаясь. Кого мне так напомнила эта улыбка?
– Вернемся к фактам, – повторил я.
– За знакомство! – воскликнула Мария Виктория, поднимая бокал, то ли предлагая выпить, то ли прося добавки. Хосе Мануэль щедро долил ей. Я беспокойно глянул на почти пустую бутылку, но на пополнении запасов вина не настаивал.
– В день, когда мы прибыли в Буэнос-Айрес, я пережил много разочарований. Во-первых, отец. С того самого дня мне так и не удалось наладить с ним контакт. Единственным моим собеседником долго оставалась мать.
– Как она себя вела в той ситуации?
– Выслушивала жалобы и от меня, и от отца. Она страдала из-за нас, как в одной песне пели: «Сдалась без боя».
– Сдалась?
– В Буэнос-Айресе она все пыталась получить разрешение на работу. Но она ошиблась страной – так его и не получила.
Мария Виктория подняла брови с таким выражением лица, которое объединяло в себе и грусть, и удивление, и я вспомнил тетку Анюту, младшую сестру матери. Некоторые карикатуристы одним росчерком могут уподобить персонаж прототипу, да так, что сходство будет сразу заметно. То выражение Марии Виктории тут же воскресило в моей памяти расстроенное Анютино лицо. Я будто перенесся в родной материн поселок в тот момент, когда мы прощались навсегда. Тетка крепко обнимала меня и, всхлипывая, все повторяла, как заведенная: «не забывай нас, не забывай нас», а я был замогильно спокоен и даже слезинки не проронил – все хотел, чтоб она поскорее избавила меня от своих причитаний. Когда же это произошло, я увидел ее прекрасное заплаканное лицо, удивленно, печально поднятые брови. Я любил ее и хотел обнять, но так и не сделал этого из эмоциональной скупости: я был мелочен, мне все было позволено, даже неблагодарность. Меня потом годами мучила совесть за то, что я так расстроил ее. Она хотела разделить со мной свою любовь, а я был неспособен ее принять.
Так же, как выгнутые брови Марии Виктории вывели меня к образу Анюты – хоть они и мало походили друг на друга, – незаметные для окружающих мелочи будили во мне ассоциации, которые затем выуживали из меня события, похороненные в закоулках памяти. Запах сухих сосновых иголок переносил меня в 1950-е, на холмы в окрестностях Иерусалима, где я бродил с приятелями, и мы обсуждали пути разрешения конфликта с арабами. Жалобные лица с картин Эль Греко напоминали мне о запретных молениях дяди Лейзера. Запах холода – а снежные зимы моего детства всегда имели запах – уносил меня на занесенный снегом холм, на котором располагался наш поселок и с которого я ребенком скатывался на импровизированных салазках, и те уносили меня с головокружительной скоростью. У меня бесконечный каталог ассоциаций, но выражение лица Марии Виктории не только напомнило мне об Анюте, но и пробудило во мне теплое чувство к ней – запретное чувство, которое я предпочел похоронить под завалами слов.
– Да, – продолжил я, – мать была в ступоре. Она хотела совершенствоваться, двигаться дальше, но в то время в Буэнос-Айресе это было невозможно, общество противилось таким вещам. Это было печально.
Воцарилась пауза, и, чтоб заполнить ее, я продолжил:
– Мы приехали в Буэнос-Айрес в разгар весны, в ноябре. Занятия в школе уже закончились, и каникулы длились до марта. Дети начинали учиться в шесть лет, а мне было почти восемь. Я не говорил по-испански, и из-за языкового барьера в школу меня взять не могли. Отец нашел самое бюджетное решение – испанскому меня учила улица.
– Мы все так учились говорить, – отметил Хосе Мнуэль.
– Понятное дело, но в моем случае это не работало.
– Почему?
– На нашей улице жили люди с очень скромным достатком, они были разных национальностей. В основном итальянцы или иберы с пещерным мышлением. Мы все были иммигрантами, но они приехали туда на несколько лет раньше и уже считали себя настоящими аргентинцами, и потому нас, таких же иммигрантов, как они, считали иностранцами. Дома они говорили на своем родном языке, а на улице – на простонародном испанском, который мне пришлось спешно осваивать.
– Сколько это заняло времени?
– Первые мои контакты, понятно, были с соседями. В соседнем доме с нами жила семья галисийцев, напротив – итальянцев, у них был сын моего возраста. С ним я овладел базовым набором фраз, а его отец научил меня выражать свои чувства в случаях, когда мне задавали неподходящие вопросы.
– Где тебе нравилось больше, в России или в Аргентине?
Я не сомневался в ответе, но инстинкты мне подсказывали – не помню, на каком языке они со мной говорили, – что мне стоит вспомнить о преимуществах лицемерия, и я дал ответ, которого все ждали: «В Аргентине».
Когда я начинал говорить по-испански, мне часто приходилось лгать, а затем это переросло в привычку.
Мои итальянские соседи были очень дружелюбные, даже в гости меня приглашали. Я жестами и междометиями общался с их сыном, а тот отвечал мне на элементарном испанском, который я почти всегда мог понять и усвоить. Когда я впервые вошел к ним в гостиную, меня впечатлили фотографии, которыми были увешаны стены, – изображения Муссолини в самых разных ситуациях, но всегда в торжественных, почти театральных позах. Я не знал, кто это, и отец семейства тут же меня просветил: «Это Муссолини, наш Дуче, великий лидер», – сказал он с гордостью. И, поскольку я совершенно не понял смысла его слов, он повторил это несколько раз, как будто повторение могло заменить мне словарь. Вскоре я понял, о чем шла речь: слово «лидер» было мне неплохо знакомо, поскольку я уже не раз слышал его в Германии. Но то было слово «Lieder» – певец. И я понял так, что отец моего приятеля собирал фото известного исполнителя, чья драматичная виртуозность приводила его в восторг. Спустя некоторое время я узнал, что за «музыку» исполнял сеньор Муссолини.