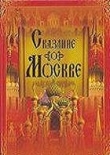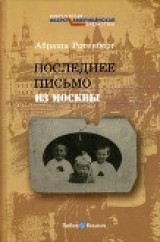
Текст книги "Последнее письмо из Москвы"
Автор книги: Абраша Ротенберг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
Отец нуждался в поощрении другого рода – из-за болезни он завис в неопределенности, самочувствие его ухудшалось, его жизнь состояла из лекарств, расписаний, приемов пищи, которые вряд ли доставляли ему радость: он пытался выжить в мире, который перестал его интересовать.
Этот человек никогда не принимал помощи даже в мелочах, а на мои попытки скрасить его жизнь реагировал ворчанием: «Кому нужны эти подарки? Мне вообще ничего не нужно!» – слова, которые будили во мне тоску и одновременно вызывали своей мелодраматичностью сдержанную улыбку. С ним мне было неуютно, но я старался этого не показывать.
С другой стороны, его поведение напоминало мое – мы были скромными и неуклюжими незнакомцами, которым не о чем было говорить и у которых не было ничего общего.
Когда болезнь одолевала его, я не мог справиться со страхом: я несколько раз видел, как он умирает, а потом оживает – от фибрилляции, витаминных инъекций и других стимуляторов; он вдруг набирал вес, становился разговорчивым, к нему возвращалось чувство юмора, и он с новыми силами брался за планирование своего будущего – будущего путешественника-непоседы и успешного предпринимателя. В такие моменты я забывал о правде и поощрял его бредовые мечтания о встрече с Ароном – единственным выжившим его братом, от которого мы не получили ни одного письма со времен той послевоенной анонимки, то есть вот уже на протяжении двадцати лет. Отец почему-то верил, что рано или поздно сможет вернуться в родной поселок и посетить могилу родителей. Я не хотел спорить с ним или как-то разубеждать. Напротив: я вкладывался в его миражи, зная, что разочароваться в них он все равно не успеет.
Помню, как мы с матерью однажды сидели подле него. Я должен был подменить ее, чтоб она могла пойти отдохнуть, но она предпочла остаться. Отец был непривычно спокоен в тот день, предавался чтению своей газеты El Diario Israelita[31]31
Исп. «Израильский ежедневник».
[Закрыть] и забивал голову новостями еврейского сообщества, чьи деревенские интриги развлекали его, особенно заметки о рождении детей и некрологи – ему нравилось убеждаться в том, что его неверие в народ Божий имело под собой основания. Но в тот день он отказался от привычного скепсиса, убежденный, что все самое тяжелое позади.
– Сегодня я чувствую себя здоровым: я хочу есть и мне даже хочется чего-то особенного. Может, приготовишь для меня что-нибудь этакое?
– И чего бы тебе хотелось? – спросила мать. Она была так же удивлена, как и я.
Отец улыбнулся – а на его лице улыбка не появлялась уже несколько месяцев.
– Не знаю, разрешат ли мне такое доктора.
– Да кого волнуют эти доктора. Ешь все, чего тебе хочется.
Тут я глянул на Хосе Мануэля и Марию Викторию – те внимательно смотрели на меня, и я вспомнил, что они оба медики. Приняв решение оправдаться, я обратился к ним:
– Я же понимал, что это у отца просто временная чудесная ремиссия, нельзя же было отказывать ему в таких элементарных радостях.
– Согласна с тобой, – сказала Мария Виктория.
– Спасибо за понимание, – ответил я и продолжил.
– Дуня, – обратился отец к моей матери, – мне хотелось бы селедки с салатом из помидоров и лука, и еще ржаного хлеба, и, пожалуй, еще рюмку граппы было б здорово.
Удивлению моему не было предела. Селедка с луком всегда была привычным блюдом в самых бедных еврейских домах Восточной Европы, но в Аргентине (да и во всем остальном мире) она превратилась в какой-то особый деликатес, особенно для детей и внуков, и в признак связи с иудаизмом. Я уже объяснял вам, что иудаизм бывает очень разным, в том числе и гастрономическим – восточноевропейские еврейские блюда были инспирированы польской, русской и литовской кухней, а сефардские – арабской. Многие наши друзья, да и мы сами, были иммигрантами, для которых совместное приготовление и прием этой пищи, помимо ностальгии, давал также ощущение общности, ощущение собственной идентичности и корней. Отцовское желание было на самом деле призывом насладиться радостями, которые жизнь все еще могла предложить ему.
Его слова настолько же удивили меня, насколько и обнадежили – от них самые горькие из моих предчувствий поутихли.
– Вот это я понимаю, это живой человек! – воскликнул я. – Не чудо ли?
И тут мать сказала:
– Боюсь, тебе такое повредит. Ты так давно не пил…
– Но почему нет, – настаивал я, – что с ним может случиться? Ну опьянеет от одной рюмки граппы.
В тот момент – и впервые в жизни – я услышал в отцовском голосе явное одобрение и нежность, хотя говорил он тихо и устало:
– Наш сын прав.
Мы говорили на идиш, как и всегда, и слово «сын» (zun) прозвучало для меня, будто музыка, будто тихая скрипичная трель: где-то глубоко во мне родилось сострадание по отношению к этому мужчине, я решил как-то поощрить, поддержать этот росток и донести до отца свою благодарность.
Но мать все упрямилась:
– Мы месяцами не держали ни селедки, ни граппы, ни черного хлеба. В такой час магазины уже не работают. Жаль, но придется тебе подождать до завтра. А пока что бульона поешь.
– Мам, не переживай. Поиски селедки я беру на себя, я знаю, где ее найти.
Мать тоже знала, просто боялась, что отцу от такого меню ничего хорошего не будет. Я же предпочел, чтоб тот насладился моментом, даже если потом будет немного нехорошо.
Я направился в магазин доньи Розы и ее мужа, расположенный в паре шагов от родительского дома: там можно было купить в том числе и продукты для еврейских блюд, а точнее, все, что любят евреи. Там можно было найти бочковые или маринованные огурцы, разные виды соленой рыбы, даже селедку «улик», известную особым ароматом и качеством, которые способны искусить и равнодушных к такой пище людей. Но я ограничился лишь заказом отца: попросил бутылку граппы «Чизотти» и хлеб-гольдштейн – и то и другое как нельзя лучше соответствовало праздничному моменту.
Отец начал свой пир, съев кусочек селедки и пригубив граппы, но тут же бросил это дело и, будто бы пытаясь отвлечь нас, завел беседу. На тарелке осталась еще куча селедки и салата, а к хлебу он так и не притронулся. Зверский аппетит растаял, будто льдинка на солнце.
– Помню, – обратился он ко мне, – как мой отец, твой дед, любил селедку.
– Я тоже помню. Когда бабушка забывала готовить, мы питались картошкой и селедкой с луком.
– Как ты запомнил такие мелочи? Ты же был такой маленький.
– Я все помню. Могу описать тебе в подробностях дедов дом, сад, все, что его окружало, речку. Я даже соседей помню.
Отец был удивлен тому, сколько всего осталось у меня в памяти.
– Ты, правда, помнишь деда с бабкой? – все спрашивал он. – Как же так, даже я их почти не помню.
Все ненадолго затихли, но тут отец вновь заговорил:
– Что за судьба постигла твоего деда. Я много раз спрашивал себя, как же он умер. Как так вышло, что убили его, мать, братьев и сестер? Они все часто мне снятся. Всякий раз, как вспоминаю их, испытываю боль, а руки дрожат – так сильно я всегда боялся отца, все мы боялись. И сейчас я сожалею, мне страшно, что с ним такое случилось.
Он говорил с полуприкрытыми глазами, а когда открывал их, то для того, чтоб посмотреть на меня. Я впервые мог выдержать взгляд его глаз – голубых, почти прозрачных глаз – без содрогания. И тут он выдал нечто, одну мысль, что явно адресовалась мне:
– Мы слишком поздно понимаем, что такое наша жизнь и в чем ее правда, но исправить уже ничего не можем. Нам остается лишь раскаяние, от которого никакого толку. Все, что прошло, уже никак не вернуть.
– Но у тебя есть двое братьев, и один из них совсем близко, в том же доме, в соседней квартире. И, возможно, ты будешь сожалеть, что не общался с ним.
– С этим я говорить не могу.
Всю жизнь я не понимал, отчего может возникнуть такая вражда между братьями. Отчего столько ненависти?
– Отчего? – спросил я.
– Оттого, что он злодей и подлец. Он слишком много зла мне причинил.
– Зла?
– Он силой забрал у меня то, что ему не принадлежало. Он всегда был скотиной.
Эти слова привели меня в замешательство.
– Когда это он применял к тебе силу?
И тут же услышал ответ, достойный шолом-алейхемовского персонажа, нуждающегося в консультации профессора Фрейда:
– Когда мне было пять, а ему семь.
Я не мог сдержать смеха.
– Ничего смешного. От ран, полученных в той драке, мне до сих пор больно. И такое не раз было. Навредить можно и не только кулаками.
– Ты до сих пор боишься побоев, которые терпел в детстве? Сейчас как раз время забыть обо всем этом.
– Он-то всегда будет помнить. Сам живет всего-то этажом выше, знает, что я болен, но так ни разу и не спустился навестить меня. Видишь, какой у меня брат?
– К тебе ходит его дочка, и она относится к тебе так, будто ты ей родной отец. Он тебя не навещает, потому что сам болен. Скоро Йом Кипур, и все помирятся, как это каждый год бывает.
– Это будет последний мой Йом Кипур?
Отец сильно утомился. Он закрыл глаза, но я все равно решил не оставлять его вопрос без ответа.
– Будет еще много Йом Кипуров, не сомневайся, – сказал я.
Но он уже заснул.
Мать встревоженно наблюдала за нами.
– Врачи говорят, что ему лучше, но мне кажется, что он слабеет день за днем.
– Не переживай, мам, он скоро поправится.
– Ох, только б ты был прав, но…
– Прекрати воображать ужасы. Все с ним будет хорошо.
Двуличность давалась мне тяжко, но я оправдывал себя тем, что мы не готовы взглянуть правде в глаза: я должен был лгать, чтоб уберечь мать от шока, да и самого себя тоже. Настали времена, когда реальность неумолимо становилась все более пугающей.
– Я правильно повел себя тогда? – Этот мой вопрос был адресован собеседникам.
Дина промолчала, а Мария Виктория ответила:
– Как врач, я считаю, что необходимо было открыть всю правду о его болезни. Какой бы страшной и болезненной она ни была, лучше правда, чем участливая ложь, от которой никакого проку, – смерть все равно развенчает ее. Пациент должен знать о своем состоянии и иметь возможность обустроить свое будущее по своему усмотрению. Он властелин своего времени, своей жизни, своей смерти, а не врачи и уж никак не семья. Раз тебе интересно мое мнение, то я скажу, что ты несправедливо поступил в отношении отца, а с матерью и того хуже.
– Прошлое мне изменить не под силу, но я точно знаю, что мать я уберег от многих ночей в слезах. Так что я не раскаиваюсь в своем поступке.
Хосе Мануэль не вмешивался. Он внимательно выслушал аргументы Марии Виктории, и по его выражению лица было ясно, что он с ней полностью согласен.
Мне расхотелось продолжать – я сам себя раздражал. Мне было стыдно за несдержанность и стремление выставлять напоказ интимные подробности жизни, позволяя незнакомцам судить обо мне так, будто я с ними знаком сто лет.
– Когда я уже научусь молчать? – спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь. Похоже, что никогда.
Московский приятель
И вдруг я вспомнил, что даже не упомянул об одном важном происшествии.
– Простите, но мне надо дополнить рассказ.
Наши спутники уже о чем-то беседовали, когда я ворвался с этой репликой (мои манеры не переставали удивлять их):
– Необходимо немного отмотать назад. Через несколько дней после операции мы получили письмо. Оно пришло из Москвы. Мать с большим интересом прочла его. Она хоть и молчала, но выглядела возбужденной и удивленной.
– От кого письмо, – нетерпеливо выспрашивал я. Нам уже двадцать лет не приходило писем оттуда.
– От папиного друга.
– Ты с ним знакома?
– Не помню. Он еще приятель Бетти и Арона.
– Может, переведешь его мне? – попросил я.
– Сначала покажу его папе.
Отца мало что могло заинтересовать, кроме его состояния, так что мать решила, что новость о письме немного его оживит.
Когда мы вошли в спальню, он отдыхал, но не спал. Мать подошла к постели, показала ему письмо и с улыбкой заговорила:
– Шмилек, смотри, какая неожиданность, тебе пришло письмо от…
Тут в моей памяти был провал. Я хотел назвать имя отправителя, которое всегда помнил, но тут произошел какой-то сбой. Я несколько раз упоминал его в разговорах с Диной, но и она не могла его вспомнить. Такое впечатление, что моя память вдруг взбунтовалась против меня.
– У меня приступ внезапной амнезии, и я не могу вспомнить имя того отцовского приятеля. Он, как и вы, был врачом. Я даже помню содержание письма, а вот имя…
– Не переживай так, – успокоила меня Мария Виктория, – нам-то оно все равно ничего не скажет.
– Самому смешно. Дайте-ка я поразмыслю, постараюсь припомнить. Он был врачом, и звали его… К сожалению, я не…
Тут я понял, что моя пауза всех раздражает. Я постарался подыскать ассоциацию, которая помогла бы мне продолжить:
– Ты права. Какая разница, как его звали. Хоть бы и Михаил Львович Астров. Так пойдет?
– Откуда это имя?
– Это имя одного человека, которым я восхищаюсь, – деревенский врач, любитель природы, мечтатель, сама отзывчивость, идеалист. Большой друг дяди Вани.
– Твоего дяди?
– Нет, дядя Ваня и его друг доктор Астров – вымышленные персонажи, но для меня они настоящие. Всегда их любил.
– Ты говоришь о чеховском дяде Ване, – догадался Хосе Мануэль и улыбнулся.
– Да, предлагаю звать автора письма Михаилом Львовичем Астровым, раз уж я забыл его настоящее имя.
– Договорились.
– Я остановился на моменте, когда мать сообщила отцу, что ему пришло письмо из Москвы от его приятеля, Михаила Львовича Астрова.
Отец сощурился, пытаясь вспомнить, кто это, и затем отмахнулся:
– Не знаю, кто это. Не помню его совсем.
– Это друг Арона и Бети, врач по профессии, живет в Москве.
– Наверное, какая-то ошибка. Или меня с кем-то спутали. Что сказано в письме?
– Оно длинное. Прочесть тебе?
– Не сейчас. Я устал. Просто скажи, о чем оно.
– Там много всего.
– Тогда скажи о самом важном.
– Так и сделаю.
– И что же?
– О том, как дела у Арона и его семьи.
– И что он о них пишет?
– Что им необходима помощь.
– Помощь? Арону и Бете нужна помощь?
– Так пишет этот Михаил Львович.
– Двадцать лет мы ничего от них не слышали, а тут внезапно объявляется этот незнакомец, который просит помощи для них от своего имени? Почему бы им самим не написать?
– Забыл, в какой они стране живут? Наверное, боятся. Отдохни, а я потом тебе прочту. Разве ты не рад узнать, что твой брат до сих пор жив, хотя так долго ничего от него не было слышно?
– А он там написал адрес Арона?
– Нет.
– И куда нам в таком случае слать помощь?
– Ему.
– А почему не сразу им?
– Я тебе уже объяснила, почему.
– Это ловушка. Надо сначала выяснить, действительно ли мой брат с семьей живет в Москве и где именно.
– Отчего бы тебе не прочесть письмо или не послушать, как я прочту? – спокойно настаивала на своем мать. – Откуда у тебя эта предвзятость?
– У меня на истории нет никаких сил.
И мы ушли, чтоб не беспокоить его.
Мать перевела мне письмо. Я с любопытством слушал, поскольку оно отозвалось во мне эхом спящих детских воспоминаний. Среди них была и тема семьи дяди Арона, которого я запомнил, потому что он был последним из родственников, кто проводил нас до границы перед отъездом в Аргентину. Короткое воспоминание, но, тем не менее, оно полно меланхолии.
– Такое впечатление, что меланхолия – неотъемлемая часть твоего характера, – прокомментировала Мария Виктория.
– Моего ли? Кажется, это отличительная черта характера всех советских людей, которые постоянно бросаются то в меланхолию, то в депрессию.
– Так что же, мы узнаем, что было в этом одиозном письме? – нетерпеливо воскликнул Хосе Мануэль.
– Сию минуту. Оно было датировано апрелем 1965 года и говорилось в нем приблизительно следующее:
«Дорогой мой друг,
прошло много лет с тех пор, как мы с тобой расстались. С того времени мы оба пережили множество всевозможных несчастий, не дающих нам вспомнить счастливые моменты, которые мы разделили в детстве. Я хорошо помню тебя, но пойму, если ты забыл обо мне. И если так – что ж, пускай, это больно, но не страшно.
Я был подростком, когда уехал из Теофиполя поступать в гимназию. Я хотел стать врачом, это было мое призвание. Благодаря обстоятельствам и огромным усилиям с моей стороны я получил это звание, когда был еще совсем молод. Ординатуру я закончил в Ленинграде. Там меня застала война. Многие из моих товарищей погибли, а мне, видно, суждено было выжить.
В Ленинграде я встретил твоего брата Арона и его супругу Бетю. Я тогда был холост (да и сейчас тоже), и твой брат принял меня радушно, как друга. Сейчас мы будто родные. В Ленинграде мы пережили голод и страшные злоключения. Бетя забеременела и родила дочку во время бомбежки. Они приняли решение сделать ускоренные роды, чтоб снизить риск, но все равно нарушили при этом все возможные нормы. Все опытные врачи были на фронте, а в тылу остались только начинающие. Девочка родилась в ужасных условиях, из-за чего у нее был необратимо поврежден мозг. Это приговор на всю жизнь, но мои друзья восприняли его со смирением и отвагой. Затем череда случайностей и совпадений привела нас в Москву, где мы, по-братски дружно, живем до сих пор.
Сейчас дочке Арона уже двадцать три года, она совсем взрослая женщина, но ее умственное развитие так и осталось на уровне восьмилетнего ребенка. Бетя, Арон и Женя, ее брат, любят ее и заботятся о ней изо всех сил, но ее состояние требует особого ухода, консультаций докторов и дорогостоящих лекарств, которые Минздрав предоставить не в состоянии.
Арон работает инженером, он ценный специалист, уважаемый человек, но зарабатывает мало, если учитывать ситуацию в его семье.
Я пишу вам без его ведома, но позволяю себе это исключительно потому, что вы должны знать правду о его состоянии. Бетя тоже работает, но этого недостаточно.
Я не прошу денег, только одежду и продукты. Тут нормальное питание обходится очень дорого, а нормальная одежда недоступна вообще.
Пришлите им, пожалуйста, хоть какую-то помощь, если есть такая возможность и желание. Удобнее, если вы будете слать что-то через меня, а я уж позабочусь, чтоб они все получили. Я безвестный врач, у меня нет семьи, я холост, и моя жизнь никому не интересна. Передавай привет и наилучшие пожелания своей супруге Дуне, дорогой товарищ по детству, и всей своей семье, и семье твоего брата Срулека. Пожалуйста, донеси до них содержание этого письма.
С любовью,
твой…»
В письме были подпись и московский адрес.
– Так твой отец прочел письмо? – спросила Мария Виктория.
– В тот день отец приходил в себя от утреннего приступа, а такие нередко с ним случались. После ужина я спросил его:
– Прочесть тебе письмо?
– Не сейчас.
– Но оно тебе адресовано. Не хочешь узнать, что там?
– А что мне могут написать? Хорошие новости? Уверен, что ничего хорошего.
– Отчего?
– Для меня не существует больше хороших новостей.
Я сидел у его постели, пока мать читала. Иногда ему нужно было объяснить значение той или иной фразы. Вообще, то, что он не мог вспомнить отправителя, сильно сбивало его с толку.
– Не понимаю, кто это. Не могу вспомнить.
– Это друг Арона и Бети.
– Это, правда, их друг, или он только так говорит? Кто может точно ответить на этот вопрос?
Я понял, что отец сильно распереживался из-за письма. Вдруг он раскрыл рот, будто пытаясь освободиться от чего-то, что застряло в горле и не хотело выходить вопреки усилиям, а затем улыбнулся с видом триумфатора, буквально просиял, и произнес какое-то русское слово, которого я не понял: оно было для меня такой же загадкой, как то слово, произнесенное гражданином Кейном[32]32
Гражданин Кейн – герой одноименного кинофильма, снятого американским режиссером и актером Орсоном Уэллсом в 1941 году.
[Закрыть] перед смертью.
– Я понял, кто это. Совсем забыл о нем – так меня жизнь побила. Знаете, кто это? – обратился он к матери и ко мне.
– Да откуда нам знать?
Он назвал фамилию и кличку на русском. Фамилии я не помню – она ни о чем мне не говорила, но зато хорошо помню кличку.
Отец все повторял имя на русском, а я все равно не понимал.
– Что он говорит, – спросил я у матери. – Кто это?
– Миша Заика, – перевела мать.
– Да, – подтвердил отец, то ли со смехом, то ли с болью, – Заика. Наш сосед, мальчик из христианской семьи. Помню, он читать любил, и мать, твоя бабушка, давала ему книги. Он заикался. Я тогда на него и сентаво не поставил бы, а он, гляди-ка, врачом стал.
– У тебя после погромов оставались христианские приятели? Как так?
– Мертвые в земле почивают, а живые должны мирно сосуществовать.
Казалось, отцу не терпелось поговорить тем вечером – как и мне – и оттого я не стал его перебивать.
– К тому же, – продолжил отец, – это была особенная семья. Они были действительно верующими – молились, в церковь ходили, всенощную стояли, воскресный день соблюдали. Они ненавидели евреев и считали их мучителями Христа, но только не нынешних евреев, а тех, из прошлого. К нам-то они хорошо относились. Я много раз бывал в их доме. Не знаю, как после революции они жили дальше со своей верой.
Отец говорил на идиш, и, хоть голос его был слабым, было видно, что он сам радуется своему рассказу.
– Семья Миши, над которым мы вечно подшучивали из-за косноязычия, всегда нас уважала. Удивительно, что он объявился сейчас, после стольких лет.
Оживление отца потихоньку спало. Я решил задать ему последний на сегодня вопрос:
– Так что будем делать с письмом?
– Да что тут спрашивать?! Мы выяснили, что брат жив и ему нужна помощь, значит, поможем ему.
– Тогда я этим займусь.
– Обещаешь? После стольких лет молчания узнать, что брат жив и в Москве, – это просто счастье какое-то.
Он не смог сдержаться и расплакался.
– Торжественно обещаю: как выздоровею, поеду к нему, чего б мне это не стоило. Клянусь.
Мы с матерью снисходительно посмотрели на него.
– Твои слова да богу б в уши, как наши старики говорили, – только и произнесла моя мать.
– Вы свидетели, – настаивал отец, будто сам себя убеждая.
Мать, глядя на него с улыбкой, спросила:
– А меня с собой возьмешь в путешествие?
Отец немного помолчал, будто в сомнении, и ответил:
– В первый раз – нет. Я из России уехал один, один и вернусь. А во второй раз вместе поедем.
Мать сжала его руки в своих.
– Согласна: во второй раз поеду с тобой.
На следующей неделе мы отправили нашему московскому приятелю первую посылку для Арона и его семьи.
Разногласия
Мария Виктория сдержала зевок, прикрыв рот ладонью, и я почувствовал себя обязанным. Моя болтовня нагоняла на слушателей сон, и они погружались в него, будто блесна за грузилом. Продолжить рассказ, который требовал внимания, или прерваться? Я колебался между благоразумием и собственным упрямством. Что делать?
Мария Виктория дала мне второй шанс одуматься: она сладко, по-кошачьи непосредственно зевнула.
– Бедная Мария Виктория, – сказал я, – тебе скучно.
– Не совсем так, – ответила она, – мне интересно.
– Уже очень поздно, и мы все устали. Думаю, завтра… – заговорил было я, но Мария Виктория прервала меня:
– Завтра рано утром мы уезжаем.
– Тогда, может, в другой раз… – предложил я, ища у жены поддержки.
– Мы уезжаем днем, – ответила та, окончательно меня смутив.
– Чем заканчивается эта история? Подозреваю, рано или поздно мы дойдем до финала, – как всегда иронично вмешался Хосе. – Пожалуйста, продолжай.
Я не знал, с чего начать, но Мария Виктория помогла мне:
– Расскажи, что стало с тем врачом?
– Что стало? Мы отправляли ему посылки для дяди Арона, но он так и не сообщил, дошли ли они.
У отца депрессия чередовалась с состояниями глубокого покоя, но разум его не успокаивался ни на минуту. Он все время говорил о своих навязчивых идеях. Он не отдыхал сам и нам тоже не давал.
В один из моих визитов отец вспомнил о своем приятеле-враче:
– Не понимаю, мы все шлем и шлем ему вещи, а он даже из вежливости не отвечает.
– Это же не ему посылки, а твоему брату. Он ничего нам не должен, – ответил я отцу.
– Ты такой наивный, что у тебя даже тени сомнения не возникает. Повзрослей уже, пожалуйста, потому что мир жесток, грязен и жалок, и ты должен научиться с этим жить.
– Может, он ничего не получил, может, он выслал подтверждение, но письмо не дошло. Зачем настраиваться на худшее и ожидать надувательства?
– Чтоб не повторять ошибок. Я жизнь прожил, а ты еще нет, и знаю, как люди ведут себя, когда обстоятельства их принуждают. Кто он такой, этот мой друг? Я не знаю. Мы были знакомы пятьдесят лет назад. Он такой же, как был, или жизнь его изменила? Не хочу показаться предвзятым, но надо выяснить, кто это. Предлагаю сделать так: пусть мама напишет ему, и посмотрим, ответит ли он, и что именно. Все указывает на то, что это жульничество.
– Говоришь, твой приятель был заикой? Может, ему так же сложно писать, как и говорить, – я попытался все свести к шутке и добавил: – Это хорошая идея, чтоб мама написала ему, но пока что я бы продолжил слать посылки.
Отец неохотно согласился.
Мы отправили письмо в надежде получить скорый ответ, но у советской почты было много серьезных недостатков: письма терялись и исчезали бесследно, будто их никогда и не отправляли.
Через неделю отец начал спрашивать, не было ли новостей. Я просил его потерпеть, потому что письма всегда задерживаются. Тогда он успокаивался на время, но дни шли, а ответа не было, и отец начинал поглядывать на нас осуждающе. Хотя мы и сами понимали – факты говорят в пользу его прозорливости.
Интересы моего отца в то время не ограничивались ожиданием корреспонденции. Внезапное возникновение из небытия этого московского приятеля не только усилило его скепсис, но пробудило воспоминания. Он погружался в прошлое и пытался связать его с настоящим. Иногда мы об этом говорили. И всякий раз эти беседы были неожиданными.
Хосе Мануэль перебил меня:
– Мы тоже редко говорим с родителями, потому что это не в наших привычках. Едим в тишине и каждое наше слово будто требует разрешения: «а ну, успокойся» было привычным ответом в детстве.
Мария Виктория согласилась:
– У нас дома была похожая обстановка, но меня это мало волновало. У меня был свой мир, свои интересы, а у родителей – свои. Но мы любили друг друга, и это главное отличие моей ситуации от твоей.
– Думаю, не все было так просто, на самом деле: конфликт – это тоже форма установления отношений, и иногда при помощи него люди маскируют сильную привязанность. Если не брать во внимание форму, то по содержанию у нас похожие истории, – заключил я.
– Не думаю: ты так описываешь отношения с отцом, будто вы в греческой трагедии играете. А у меня были просто отношения, которые никак не определили мою судьбу. Думаю – ты уж прости, что я так говорю, – твоя история для тебя просто повод попозировать всласть.
– Возможно, я просто жертва невроза, в то время как ты считаешь себя уравновешенной и рациональной. И если так, мне удивительно, как легко ты жонглируешь вымышленными или реальными страданиями человека, которого ты едва знаешь, – ответил я, не скрывая раздражения.
– Я не хотела никого обидеть, – поспешила заверить Мария Виктория.
– А ты и не обидела, но твои выводы кажутся мне поспешными.
Дина, которая на моей обидчивости собаку съела, решила вмешаться, пока ситуация не вышла из-под контроля:
– Я все молчала, так что теперь меня послушайте, – проговорила она, соблазнительно улыбаясь. – Я могу говорить от лица матери и от лица дочери. Думаю, все мы на одном сойдемся: наши родители не являются одновременно нашими друзьями, и мы не можем от них этого требовать. У них своя роль, в которой есть место конфликтам и непониманию.
– У меня все не так, – расстроенный, я перебил ее. Но взгляд ее заставил меня сдержаться.
– Предлагаю сменить тему. Пожалуйста, – тут она жестом показала закругляться, – заканчивай свой рассказ.
– Договорились.
Мне очень хотелось сказать что-то очень меткое и гениальное, чтоб все немного расслабились, но ничего не приходило мне в голову.
Признаюсь: я тоже страшно устал, не меньше моих слушателей.