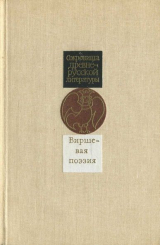
Текст книги "Виршевая поэзия (первая половина XVII века)"
Автор книги: Автор неизвестен
Жанр:
Древнерусская литература
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц)
Виршевая поэзия
(первая половина XVII века)


Инок Григорий составляет житие Ефросинии Суздальской. Миниатюра. ИРЛИ, XVIII в.
Начало русского виршеписания
История русской поэзии, если представлять ее не иначе как через более или менее заметные имена творцов, мастеров стиха, обращена к нам «всего лишь» тремя с небольшим веками своего существования и развития: от Симеона Полоцкого (70-е гг. XVII в.) до текущего момента, и между этими хронологическими рубежами располагается практически все, что долгое время было известно широкому читателю о нашей поэзии. Стихи, конечно, писались и раньше; всякая история имеет предысторию, всякое литературное явление – свои истоки и предыстоки. Начало XVII в.– это и начало русского виршеписания, время новизны, ознаменовавшееся возникновением в литературе особой отрасли.
Характеристика этой новизны – в чем, собственно, она заключается – требует осторожности и четкости. Никак нельзя сказать, что и до XVII в. у нас не было поэзии, не было стиха. Иначе мы зачеркнем и фольклор (былины, песни исторические, лирические, обрядовые), и церковное молитвословие. И то и другое было, звучало, пелось. Господствовал стих напевный и безрифменный – как в народной поэзии, так и в богослужебных текстах, что и позволяет при всем их несходстве приписать им некую общность: хоть и совершенно разные напевы, но все же напевы! И противопоставить им стих говорной, для пения не предназначенный, и к тому же рифмованный. Таковой и возобладал в виршах XVII в.
Необходима еще одна оговорка. Явление рифмы было знакомо русской словесности с древних времен. Ею пользовались, но нерегулярно, от случая к случаю, и скорее даже в прозаических произведениях, чем в стихотворных. В XVI в. она изредка дает о себе знать и в стихотворных сочинениях. И только в XVII в. рифмовка становится регулярной, охватывающей весь в целом текст стихотворения, будь оно маленькое или большое по объему. Нормой становится и независимость текста от напева – самостоятельность поэтического слова, гораздо реже сказывавшаяся в предшествующие времена, когда стих предпочитали «пети», а не «глаголати».
Новизна еще и в том, что поэзия стала по преимуществу оригинальной, тогда как была по преимуществу переводной – с греческого, позже с польского (имеется в виду, конечно, письменность, о фольклоре нет речи). Многие тексты церковной славянской гимнографии, относящиеся ко времени до XV в., вообще трудно воспринимать как факты русской поэзии: мало того, что это переводы,– они скорее всего и сделаны-то не на Руси; а у южных славян, и лишь потом переписаны у нас... Другое дело – XVII в. с его половодьем оригинального сочинительства, в котором ощущается русская действительность, дыхание исторического и повседневного.
Вирши – слово, заимствованное в 70-е гг. XVI в. из польского языка; означает то же, что и стихи – слово латинского происхождения. Русские виршеписцы первой половины XVII в. слагали свои сочинения неравносложными строками с произвольным ритмом, напоминающим прозу, применяли парную смежную рифму. Получалось, к примеру, так:
Изложен на бысть сия летописна книга
О похожении чюдовского мниха,
Понеже бо он бысть убогий чернец
И возложил на ся царский венец,
Царство великие России возмутил
И диадиму царскую на плещах своих носил.
Автор этого стихотворения, датированного 1626 г.,– князь И. М. Катырев-Ростовский. А «герой» – Лжедмитрий I, бывший чернец, монах (мних) Чудовского монастыря (вспомним соответствующие сцены из пушкинского «Бориса Годунова»: тема с веками не устаревала). В 20-е гг. XVII в. это уже историческая фигура, отошедшая в прошлое: труп давно сожжен, прах развеян... Но в стихотворении присутствует не только историческое прошлое, но и настоящий момент. Вот она, только что изготовленная летописная книга, – как бы показывает на нее виршеписец,– читайте! Причем он сам ее «слагатай», составитель, и скорее всего – один из авторов.
Стих будничный, говорной,– не только не напевный, но даже и не ораторский, о самозванце сказано спокойно, без гневно-осуждающего пафоса. Это похоже на доверительную беседу с читателем, в которой, пожалуй, было бы неуместно метать громы и молнии, о чем бы ни шла речь. Столетия спустя дозировка прозаизмов в поэзии станет сложной проблемой, они будут врываться в нее с боем, озадачивая критиков и читателей: стихи «опрозаиваются»! А для XVII в. это не что иное, как естественная атмосфера виршеписания, возникшая вместе с его возникновением. Сейчас виршсписцев того времени редко называют поэтами. Чаще, находя их имена в различных справочниках, встречаешь определения типа следующих: «обществ.», или «церк.», или «обществ, и церк. деятель, писатель», даже если эти «деятели» писали стихи, о чем тоже сообщается. Но ведь они поэты. А иные из них – поэты в первую очередь.
Виршеписание, как мы видим, касалось исторических событий века, но их широкого отображения не дало. Метания преступного царя Бориса Годунова, бунт Болотникова и нового Ильи (Илейки) Муромца, возвышение хитроумного Василия Шуйского, девятнадцать авантюристов-самозваицев, посягавших на царский престол и колебавших его, польскими саблями пролитая на снег в глуши костромских лесов кровь Ивана Сусанина («спас Михаила!»), первый худосочный Романов и его могучий отец патриарх Филарет, фактически правивший страной, воцарение Алексея Михайловича, подавившего восстания в Москве и Новгороде и окончательно узаконившего крепостное право,– все это вместилось в первую половину XVII в. («смутное время» плюс еще несколько десятилетий, не менее «смутных»), но отдаленным эхом отозвалось в той поэзии, прошедшей мимо некоторых важных событий и имен. И все-таки приметы времени запечатлены в ранних русских виршах – свои след история в них оставила.
В древнерусской жизни, политике и культуре огромную роль играло духовенство. Частые в старину словопрения вокруг догматов веры, отдававшие схоластикой богословские диспуты были не так далеки от насущных и реальных общественных интересов, как это сейчас может казаться. Какое дело русскому священнику Ивану Наседке до того, что где-то в Дании набирает силу протестантизм, распространилось учение Лютера (чье ненавистное имя созвучно слову «лютый»)? Однако дело есть. У Руси с Данией вот-вот наладятся династические брачные связи, потому и послан Наседка туда с некой миссией, знакомится со страной, а в результате им написаны аитилютеранские вирши (по-видимому, это богословие с политической подоплекой):
Написание о лютом враге Мартине,
В лепоту рещи – о блядивом сыне,
Иже вся своя ереси в все концы ввел
И всех их во дно адово свел.
В этом сердитом «написании» основательно досталось и Мартину Лютеру и его «злому ученику» Кальвину: «Мнелися злодеи веру християнскую развратити, Ино несть мощно адовым вратам церковь божию затворити, Основана бо паки на камени твердом И на всяком сердце милосердом». Столь же нетерпим автор к католицизму, в осуждение которому им сочинены вирши:
О римских и латынских папежах,
Аки о бесовских мрежах:
Ими же человсческия души уловляются
И во адово дно низпосылаются.
Еще же вкратце рцем о нынешних нечестивых папах,
В них же держими суть людие, аки овцы в волъчьих лапах,
И держаще бо их злодеи своими лютыми прелестми,
Тем и поглощены быша адовыми челюстми.
Огнепальный темперамент Наседки, непримиримого к инаковеруюгцим, в чем-то предвосхищает явление протопопа Аввакума. Кстати, в конце жизни наш виршеписец пострадал от того же патриарха Никона, с которым впоследствии так отчаянно боролся Аввакум.
Высокий авторитет духовенства не исключал весьма гневных и едких инвектив в его адрес. Сохранилась анонимная сатира на церковников, предположительно датируемая первой третью XVII в. Неизвестный автор обрушивается на священнослужителей, которые подают дурной пример православным, забыли о боге, пекутся только о собственном благополучии, разжирели и побагровели от обжорства и пьянства, утопают в роскоши. «Токмо домы своя и чрева строите, И токмо паки брадами и брюхами своими взяли, А божественное писание ногами своими едва не попрали». С горькой иронией безымянный виршеписец показывает разительное несоответствие «паству имущих» евангельскому идеалу пастыря, именуемого «солью земли» и «светом миру». Смелость и острота этих выпадов усугубляется тем, что они направлены против всего духовенства: речь идет не об отдельных недостойных его представителях, а о священстве в целом. Обращение «вы...» нужно понимать как «вы все».
Но нельзя забывать и о иных, славных и героических традициях в истории русского духовенства, о воинах и подвижниках, об отражавших атаки интервентов крепостях-монастырях. XVII в.– это век патриарха Гермогена и протопопа Аввакума, эти великие имена говорят сами за себя. Их было много, истекающих кровью и палимых огнем борцов, мучеников. И о них тоже слагались вирши. По крайней мере, до нас дошли стихи Авраамия Палицына о том, как польские войска осаждали Троицкий монастырь, оказавший врагам мужественное сопротивление. Авраамий – известный и большой писатель, окончивший жизнь в Соловках, где сохранилась его могила. В своем знаменитом Сказании он описал оборону Троице-Сергиевой лавры в 1608 г. – не только прозой, но и рифмованными двоестрочиями. В частности, им поведано, как сражались с неприятелем монахи, вынужденные выходить за стены обители «дров ради добытия», что не обходилось «без кровопролития»: рубка дров оборачивалась рубкой тел, голов...
Наш современник, с его вкусом к историзму и реализму, может посетовать и на то, что стихотворений, живописующих реальный быт эпохи, не так уж много в ранней виршевой поэзии. Проза того времени в этом отношении дает гораздо больше, чем стихи. Поэт начала XVII в. мало и редко рассказывает и о самом себе, о своих личных переживаниях, впечатлениях, реакциях на все происходящее. Личность автора чаще прячется, чем выказывает себя. Такой, например, стих, как «И еще без лености хощу потружатися чернилом и пером»,– драгоценнейшая редкость: он и бытописателен, и, если угодно, психологичен, и свидетельствует об авторском отношении к стихотворству как к труду. Любовные, семейные дела и чувства поэта, как правило, скрыты; если вдруг приоткрываются – это воспринимаешь как замечательную и неожиданную находку.
Виршеписцы не ставили перед собой осознанной задачи «рассказать о времени и о себе». В их самосознании отсутствовало гордое представление о собственном избранничестве, особой миссии, бессмертии их дела в веках (нерукотворном памятнике, воздвигаемом стихами) – обо всем том, что станет атрибутами русской поэзии намного позже. Свои произведения они называли виршами, или согласными, т. е. рифмованными, стишками, понимая, что стихотворство требует известного умения, что это дело небесполезное и отмеченное подчас знаком учености, но, пожалуй, не более того. Стих, безусловно, доставлял им большое удовольствие, но не сжигал кровь и не уносил дух в заоблачные выси. В нем могли быть зачатки лиризма, изобразительности, гражданственности и пр., но пока именно зачатки, без претензий на что-то большее.
Если уж говорить о «претензиях на что-то большее», то они по преимуществу сводились к попыткам философствовать. Далеко еще было до подлинной философской поэзии, философской лирики, но желание порассуждать в стихах о бренности всего земного и о вечных небесных ценностях – разумеется, согласно Священному писанию – давало-таки о себе знать. Позже Аввакум скажет знаменитые слова о «виршах философских», которыми сам он не привык «речи красить». Такие философские вирши писались не только его современниками, но и предшественниками.
Вот,– философствовал анонимный автор «согласных стишков о человечестем естестве»,– «родится человек на свет», совсем еще несмысленыш, затем растет, «в совершенный разум входит», и благо, если ведет праведную жизнь, но вдруг не убоится бога и поддастся бесовским искушениям – погубит душу! – характерный мотив, характерная интонация у виршеписцев первой половины XVII в. Следуют описания адских мук как неизбежной расплаты за грехи – и откуда только берется в таких случаях та «свирепая изобразительность», которой обычно отмечены инфернальные пассажи:
Будут связаны по рукам и по ногам.
А чтоб не досталос и нам,
языцы их будут молчати
и ничого никому вещати.
Вытягнут изо уст на локоть,
и кожа будет на тело покать...
(«Покать» – видимо, звукоподражательный глагол: «пок... пок... пок...» – так трескается кожа поджариваемого грешника, подвешенного на крюке за язык над костром; подобные изображения воспроизводились также иконописцами, писавшими Страшный суд.)
В целом же, характеризуя «философские» вирши XVII в., особенно первой его половины, нужно отметить намеренную ограниченность их интеллектуального потенциала. Древнерусский книжник ценил мудрость, но боязливо сторонился умствования. Мудрость – от бога, свыше, приосеняет своей благодатью праведников, а умствуют (лжеумствуют) безбожные грешники, в их числе многие философы и риторы. Сочувствия к ним нет и не может быть, они достойны осуждения. Такое понимание вещей, конечно, препятствовало развитию философской поэзии, замыкая ее в круг богословских представлении о добре и зле, о дозволенном и недозволенном. Не будь умником, будь смиренником! – бытовало и в народе. Мифологема «горе уму», «горе от ума» выстрадана русской жизнью и русской культурой в незапамятные времена.
Однако ограничение не должно и не могло было стать искоренением. Культура оставалась культурой, и умственность была ей все-таки нужна. Стихи сочипялись, придумывались и, следовательно, требовали интеллектуального напряжения и изобретательности, без которых невозможно самое примитивное сочинительство. И мало того, что они стали заметным явлением быта (разумеется, духовного или хотя бы одухотворенного быта),– версификация вошла в контекст тогдашней филологической науки; о «просодии стихотворной» и о «степенех стихотворныя меры» рассказывала «Грамматика» Мелетия Смотрицкого, пытавшегося преподать современникам правила стихосложения. То была объективно несостоятельная да и не отвечавшая настоящим потребностям эпохи теория стиха – но все же теория! К тому же Смотрицкий показал себя и поэтом-практиком, иллюстрируя свои теоретические положения строками собственного сочинения, в которых продуман буквально каждый слог:
Ум чист и непорочное
Даждь ми сердце, Исусе мой.
. . . . . . . . . . . . . .
Утешителю Душе, окаянна
Не презри мене, хвалу ти дающа.
Эти и подобные им образцы ученой, филологической поэзии оказались как бы в стороне от реально развивавшегося стихотворства XVII в., не готового к восприятию «правильных» стихотворных размеров (да еще в том их причудливом понимании, которое предлагал Смотрицкий). До эпохи ямбов и дактилей было еще очень далеко. Виршеписцы не были грамматистами, более того, допускали подчас грамматические ошибки, но такой ли уж это важный недостаток? Может быть своя прелесть и в языковых неправильностях, поэзии они не противопоказаны и порою даже совместимы с убедительной человечностью поэтической интонации. Таковы, например, скорбные ламентации князя Ивана Хворостинина:
Бедою многою изнемогох,
И никто ми помогох,
Точию един бог,
А не народ мног.
Писах на еретиков много слогов,
Того ради приях много болезненых налогов.
Тут па своем месте – старые глагольные формы прошедшего времени – изнемогох, писах, приях (т. е. «я изнемог», «я писал», «я приял»). По «помогох» («я помог»)? Ошибка. Возможно, ради рифмы. Это все равно что сказать «никто не помогаю». Правильно было бы «И никто ми поможе», что нарушило бы рифму. Вот она, неученость, но щемящетрогательная человечность: писатель не овладел в должной мере грамотой, по посмотрите, как он изнемог в борьбе с еретиками (сколь много писал против них, столь же много перетерпел).
Стихотворство врывается и в частную переписку. В культурном быту распространенным явлением становятся письма в стихах. Многие из них могут несколько озадачить: не вполне ясно, ради чего они сочинялись. В них соблюден известный этикет; пишущий умеет и всячески подчеркивает свое умение обратиться к адресату, т. е. соблюсти некую риторическую фигуру обращения, умеет – затем – попрощаться с адресатом и назвать себя, автора. Но ведь, казалось бы, должно же быть что-то сверх этого, содержание письма? Вот его-то не удается иногда обнаружить. В этом подозревается некая особенность стихотворно-эпистолярной культуры XVII в., не характерная для нового времени, и к этому стоило бы приглядеться подробнее.
Представим себе: переписываются два старца, монаха; обмениваются посланиями в стихах. Собственно делового, практического содержания в этой переписке либо нет вовсе, либо его настолько мало, что хватило бы для его выражения нескольких слов и незачем было бы сочинять довольно пространные стихотворения, тексты которых скорее затемняют, чем проясняют это в общем-то незатейливое содержание. Зато много в них к делу не относящегося, и добро бы это было что-нибудь интересное, оригинальное – так ведь нет же, набор христианских трюизмов. Старцы рассуждают, к примеру, о том, что нет ничего полезнее божиих заповедей, что дерзость и своеволие наказуемы, а смиренномудрие спасительно, что душу свою спасут те, чей удел – воздержание, а не обжорство и блуд, и т. п., причем подобные сентенции могут повторяться в пределах одного письма. Это отнюдь не спор: старцы – единомышленники и весьма усердные монахи, им не нужно убеждать друг друга или самих себя в том, что для них является непреложными истинами. Как же тогда понять и оценить их добродетельнонравоучительное рвение?
Тут в основе всего – удовольствие писать стихи: в столбик, с рифмами и другими прелестями виршеписной техники. Этому научились совсем недавно, можно сказать – только что. Этому соблазнительно предаваться не ради деловых и практических соображений, а просто так. Своего рода самодовлеющий артистизм, когда чувствуешь, что стихи хороши уже тем, что они стихи. С годами и столетиями это чувство постепенно притуплялось, к стихам предъявлялись все иные и иные требования.
Казалось бы, напрашивается возражение: артистизм артистизмом, но ведь – тем более! – неуместны банальности и начетничество. Артистизм склонен скорее к нестандартным решениям, чем к повторениям общеизвестного, в то время как наши старцы (и об этом уже шла речь) выглядят тишайшими скромниками и смиренниками, беззубо пережевывающими старые догмы. Получается, что небывалая новизна формы противоречит сугубому традиционализму суждений, самому их духу.
Но исторически и психологически это легко объяснимо. Именно новаторам формы в первую очередь необходимо было засвидетельствовать и подчеркнуть свою лояльность по отношению к господствующей религии, сверенность своих суждений с духом и буквой Священного писания. Иначе виршеписание с беспримерной новизною его форм стяжало бы себе слишком опасную репутацию: все новое – дерзость, всякая дерзость – богопротивна, ее того и гляди заклеймят как ересь, со всеми вытекающими из этого последствиями. Пионеры виршеписания не могли с этим не считаться. То, что они пишут не так, как раньше, и не так, как все, а «двоестрочием» (двустишиями), нуждалось в оправдании: дескать, это не богохульство, а совсем даже наоборот. Как писал чернец Савватий:
Аще и двоестрочием слогается,
но обаче от того же божественнаго писания избирается
– и такой ход вполне характерен для практики раннего виршеписания. Об этом же приходилось беспокоиться иногда и намного позже, во вторую половину XVII в., когда наши мастера рискнули перелагать двоестрочными виршами псалмы и Соломоновы песни.
Вернемся к нашим старцам и их стихотворной переписке. Внимательно читая тексты, нетрудно заметить в них акростихи, требующие прочтения по вертикали сверху вниз всех первых букв – построчно. Прочитав же акростих, начинаем понимать то, чего не поняли из текста стихотворения при его «горизонтальном» просмотре: один старец просит другого прислать ему книгу для переписки («Дай ми книгу списат») – просьба, выраженная всего лишь четырьмя словами, но высказанная значительно большим количеством не только слов, но и целых стихотворных строк. Из акростиха же узнаем и имя одного из старцев – Феоктист. Это к нему обращается с просьбой его товарищ (Ларион). Прием в то время очень распространенный: виршеписцы часто называли подобным образом и свои имена и имена своих адресатов. То был и способ увековечить имя.
Об акростихидс (краестрочии, красгранесии) как об одном из средств утвердить свое авторское «я», оградить свое сочинение от посягательств плагиаторов, которые «чюжие труды присвояют себе и о тех акы о своих хвалятся», писал еще Максим Грек в XVI в., приводя в пример греческого песнописца Иосифа, запечатлевшего в акростихе свое имя. Едва ли это пример был по-настоящему поучителен в культурных условиях Древней Руси, где представления об авторском праве и плагиате никак не вязались с присущим литературе характере анонимности. Однако сам по себе прием акростишного воспроизведения имени поэта, рекомендованный Максимом Греком, пришелся впоследствии но вкусу русским виршеписцам XVII в., и это закономерно, в этом своеобразно сказался голос и стиль переломной эпохи: скачок от безымянности к именитости.
Эта новая тенденция к утверждению личного, «именного» характера словесности встречала противодействие: традиция анонимности все же была сильна. Переписчик, встретив в тексте стихотворения имя автора или адресата, заменял его обезличенным словцом «имярек». Но такое возможно, если имя написано горизонтально. Акростих же в этом смысле неприступен: пришлось бы разрушить весь текст или его большой участок. Имя, заключенное в акростихе, практически неуязвимо, надежно застраховано от подобных покушений – Максим Грек знал, что посоветовать. Л послание, как никакой другой жанр, настоятельно располагало к именованиям, поскольку автору нужно и себя назвать и к адресату обратиться.
Послания, эпистолии стали вообще наиболее распространенным жанром виршеписания, который прочно закрепился в нашей поэзии на века. Переходя от единичного примера с перепиской Лариона и Феоктиста ко всему многообразию жанровых типов послания, бытовавших в стихотворчестве первой полови и ы XVII в., можно убедиться в том, что дело тут, конечно, не ограничивалось бескорыстным удовольствием сочинять стихи и отправлять их по адресу – в приятной надежде получить стихотворный же ответ («отвещание»). Нет, в эпистолиях часто высказывались просьбы о насущном: чтобы адресат помог автору материально, деньгами, или вызволил его из трудного положения, замолвив за него словечко перед власть имущими. И стихи в этих случаях писались не потому, что они доставляли пишущему удовольствие, а для пущей важности и, вероятно, в расчете на то, что стихотворная просьба звучит солиднее прозаической и ответить на нее пренебрежительным отказом будет как-то неудобно: все-таки это искусные вирши, рифмованные и нередко с акростихом.
Князю С. И. Шаховскому, неоднократно попадавшему в опалу, приходилось трудно – и вот он отправляет просительное стихотворное послание более удачливому князю (Пожарскому). Заканчивается очередная полоса невезения, Шаховской снова в почете – и уже сам получает просительное стихотворное послание от бедствующего князя Шелешпанского. Последний разумно рассчитал: Шаховской сейчас силен, даже вхож, возможно, к царю, а ведь незадолго до этого сам пострадал и поэтому может посочувствовать обездоленному собрату.
Писались также и покаянные, и обличительные послания, и сатирические, и даже просто пародийные. Старорусский стих умел серьезничать, но умел и скоморошествовать, дерзить, «сказать дурака» адресату. Бывало, что и о страшном, лично пережитом – пытках, смертельной истоме – человек говорил с юмором и веселыми прибаутками, как если бы сам не был жертвой трагически сложившихся обстоятельств. Вот, например, восставшие под предводительством Болотникова крестьяне вздернули на дыбу дворянина Ивана Фуникова, мучают, угрожают ему казнью, однако же уцелел Фуников и, хотя все тело у него болит, написал приятелю о своих злоключениях смеючись и каламбуря: «За старые шашни хотели скинуть с башни» – и все в таком духе.
Наконец, жанр послания-поучения – от наставника к наставляемому. Тон дидактический, назидательный: то самое «учительное слово», которое издавна звучало в русской литературе, побуждая чтить ее воспитательно-педагогическое значение. Автор такого послания-наставления называет себя дидаскалом (учителем), предостерегает ученика от лености и нерадения, которые необходимо преодолеть тяжким неустанным трудом, чтобы набраться знаний и стать впоследствии почтенным и уважаемым человеком. И, разумеется, правильно делает ученик, когда не щадит «сребра» ради наук – щедро платит своему дидаскалу. Таково наставление Савватия, обращенное к молодому князю М. Н. Одоевскому.
К жанру стихотворного послания естественно примыкает жанр стихотворной молитвы. И там и здесь обращенность к адресату: в первом случае к живому современнику, во втором – к богу или к святому, однако иногда, судя по той же назидательной интонации, вовсе и не к богу. Так, анонимный автор «Молитвы на вирш ко Господу Богу» предпослал ей рассуждение, начинающееся словом «подобает»! И, кстати, там есть слова, почти совпадающие с цитированными выше словами Савватия о том, что двоестрочие не мешает следовать божественному писанию. Впрочем, это не сама по себе молитва, а предисловие к ней, о «жанре» же предисловия речь впереди.
Что касается собственно молитвы, то она, как правило, звучит проникновеннее и лиричнее, чем послание. Непревзойденным и доселе неизвестным образцом этого жанра в поэзии XVII в. является «Молитва против разлучения супружества» С. И. Шаховского, которому закон угрожал расторжением четвертого брака, причем небездетного (трижды овдовев, нельзя было жениться еще раз). Вот полностью текст этого замечательного стихотворения:
Помилуй, господи царю,
и сохрани жену мою,
аще и незаконно поях ю,
и чада моя,
еже еси даровал,
презря мои согрешения.
Соблюди их, владыко, и помилуй,
и долгоденьствия даруй.
Во здравии и спасении
посети, владыко, милосердием
своим.
Во веки, аминь.
Тут и форма необычна. Не только двоестрочия, но и трехстишия с соответственно тройною рифмой, как в самом начале: царю (звательная форма слова царь – обращение к господу) – мою – ю (ее). Особенно же впечатляет то, что не назовешь иначе как лиризмом. Текст личностен, как бы озвучен голосом автора, насыщен его очень понятными нам переживаниями: боже, помилуй мою жену, пусть незаконную, и детей, коль уж ты даровал мне их, несмотря на мои грехи... Это человечно и трогательно. Будь это стихотворение анонимно – все равно чувствовалась бы незаурядность его автора. Но оно не анонимно, а о Шаховском мало сказать, что он хорошо известен: он, в своем роде, легендарен, по крайней мере таковым стал в наше время, когда возникла фантастическая версия (и большая научная дискуссия вокруг нее), согласно которой он будто бы подделал переписку Курбского с Иваном Грозным. Кстати, еще раньше Шаховскому приписывалось одно из сочинений не менее, чем он сам, известного его современника, князя И. М. Катырева-Ростовского.
Ситуация, которую тоже можно было бы назвать «разлучением супружества», в середине XVII в. спровоцировала еще одну изумительную стихотворную молитву, причем даже предназначавшуюся для пения (судя по ее подзаголовку). Ее автор – Евфимия Смоленская, достойная предшественница многих наших женщин-поэтов. Ее, мать троих сыновей, лишили мужа, священнослужителя, «предикатора» (проповедника), отправив его, по-видимому, в ссылку:
Святыя церкви служитель,
любовный мой сожитель,
внезапу от мене отлучися —
глава с телом разлучися.
И вот она молится о возвращении мужа, отца ее детей («детки со мною младенки, сиротки остались маленки»), в то же время подчеркивая свое и их смирение, местами доходящее до несколько забавного самоосуждения. Наделенная даром перевоплощения, она присоединяет к своему голосу имитируемые ею голоса сыновей, которым так нужен отец:
– Первый и болший аз сын,
именуемый Савин.
Годен жезлом ранен быти
и многи язвы носити.
С материю господу всех воспеваю,
благодателю возсылаю.
– И средний аз, Леонтей,
достоин есмь многих плетей.
С рождьшею к богу глас возсылаю
з братом в песнех соглашаю.
– И аз, Николай, к вам приполз,
Годен прияти многих лоз.
С крепостию к болевшей мною восклицаю,
немотуя, прорицаю:
О, мати моя...– и пр.
Прямо-таки драматургическое решение! В молитву как бы вкраплены реплики «действующих лиц». Каждый сын пропел свое. Затем голоса детей сливаются в согласное трио, а под конец чередуются и перекликаются с голосом матери: «Возврати церкви служителя, мене, грешной, сожителя, возлюбленного ми друга, и востану от скорби недуга. Нам же трем младым братом – родителя, во юности наказателя. Да не в глупости погибнем... Даждь нам здрава его видети...»
В жанровый состав виршевой поэзии XVII в. заметный вклад внесли так называемые предисловия – к разным сочинениям, в основном прозаическим, но необязательно (выше уже упоминалось стихотворное предисловие к стихотворной молитве). Некоторые предисловия можно рассматривать как произведения, имеющие самодовлеющую ценность – независимо от предваряемых ими текстов. Таковы, например, «Вирши на Езопа» Ф. К. Гозвинского, открывающие подготовленный им сборник прозаических переводов древнегреческих басен. Это стихи, запечатлевшие контраст между внешним безобразием и высокой духовностью Эзопа,– о том же более чем через сто лет писал А. Д. Кантемир в одной из своих эпиграмм.
Но чаще предисловия просто излагали – коротко и в стихах – то, о чем речь шла в сопровождаемых ими сочинениях. Если это повесть (например, о Варлааме и Иоасафе), то и предисловие к ней, соответственно, обретало жанровые черты стихотворной новеллы. Если это полемический богословский трактат (например, против лютеранства), то и предисловие к нему выглядело стихотворным микротрактатом. Порою стих как бы порывался соревноваться с прозой: вдруг виршевая миниатюра-предисловие окажется интересней и увлекательней самого прозаического сочинения, которому она предпослана? По-видимому, это согласовалось с читательскими вкусами и потребностями: интерес к стихам был разбужен, и в XVII в. вирши читались с удовольствием.
А современный читатель, любящий поэзию,– что интересного для себя может он найти в виршах первой половины XVII в.? Их «устаревший» язык малопонятен или труднодоступен для неспециалистов. Впрочем, архаика теперь не жупел, как и вообще всевозможные языковые головоломки (иначе необъясним был бы возрастающий интерес широкой аудитории, например, к стихам Хлебникова). Воспринимаемое с усилием и напряжением едва ли не в большем почете, чем воспринимаемое легко, или, как говорится, облегченно. Беглого чтения здесь быть не может.








