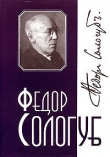Текст книги "Том 7. Мы и они"
Автор книги: Зинаида Гиппиус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 39 страниц)
Немец обиделся и начал говорить поляку дерзости. Неизвестно, чем бы это кончилось; по привычный хозяин не смутился, сразу понял, на чью сторону встать: поляк каждый вечер тратит здесь сотни франков на шампанское. И хозяин что-то энергично говорит немцу. Тот, злой, красный, уходит; все смеются и свистят. Особенно тонко смеется Адольф, поглядывая, впрочем, не на поляка, а уже в сторону трех молодых бритых американцев, которые, с толстыми сигарами в зубах, тупо и невозмутимо следят за всем происходящим.
Лили было встревожилась, но успокоилась и завела тоненьким голоском песенку, сладкую и нежную, и все вскидывала глаза на подругу. В мужском обществе певица успеха не имела, но шикарные «дамы», наклонившись, стали что-то жарко объяснять своим усталым, пожилым кавалерам, а потом мягко зааплодировали руками в белых длинных перчатках.
Бобет объявил, что он тоже хочет петь. Но с ним вечно история: он слишком занят собой, он требует, чтобы когда он поет – все молчали. А как нарочно, едва он начнет – подымаются разговоры. Он сердится и умолкает. Ему кричат, клянутся слушать – и опять перебивают. Жеманно обижаться, делать плаксивую физиономию – специальность завитого барашка – Бобет. Молодой художник из гостей старательно зачерчивает его смешную фигуру.
Бобет, как и Лили, имеет пристрастие к сентиментальным, сладким песням. Он прижимает руки к сердцу, поет о несчастной любви, о жестокости мужчин.
Вот Люсьен – другое дело. Он нежностей не признает. У него недурной баритон. Выпучив глаза, с чрезвычайно серьезным лицом, он выпаливает такие штучки, которые, благодаря их специфическому характеру, даже не всегда и понятны. Пикантные места он подчеркивает жестами. Слушатели довольны.
Особенно поляк смеется. Он уж забыл Адольфа и приглашает более энергичного Люсьена к своему столику. Люсьенов, впрочем, два. Второй – скромный, непоющий, мальчик лет восемнадцати, – на вид даже меньше.
Молодой русский художник, здешний таинственный завсегдатай («таинственный» потому, что, хотя все здесь к нему привыкли и любят его, никто, вплоть до Отеро, не знает его имени) – зовет этого второго Люсьена к нашему столику. Подсаживается и уставший от танцев Отеро.
Художник любезно преподносит им по букетику фиалок. Люсьен так глуп, что даже не может придумать, куда ему девать фиалки. Люсьен глуп до полного совершенства, не только до невинности, но до худшего – до последней добродетели. Говорить он почти не может. Только улыбается детски-свежими губами. Глаза у него тоже не то младенческие, не то оленьи – очень красивые. На них засматривается сбитый с толку пожилой русский писатель-эмигрант. Ума, кстати же, он не ищет, довольствуясь своим. А молодости у Люсьенчика – хоть отбавляй.
В самом деле, к чему ум, когда есть свежесть, красота и – добродетель?
– Гы-ы… – улыбается Люсьен. – J'aime tout le monde…[22]22
Я люблю всех (фр.).
[Закрыть] Отеро, напротив, совсем не глуп. Он не прочь даже
пофилософствовать, привычно притворяясь кокоткой средне-высшего полета, привычно повторяя женские кошачьи ужимки. Лицо у него набеленное, как маска. Он раздувает ноздри плосковатого утиного носа; минодируя, закладывает за уши фиалки и круглые зеленые листья. Он растрепал букетик.
– Хорошо жить на свете, bon camarade[23]23
дружище (фр.).
[Закрыть]? – спрашиваю я его. Он склоняет голову набок.
– Хорошо, потому что всегда есть надежда.
– На что?
– Не знаю. Не все ли равно? О, speranza, speranza![24]24
О, надежда, надежда! (ит)
[Закрыть]
«Врешь ты, – думаю я. – Знаешь ты, что старость приближается, и знаешь ты, что в твоем ремесле… „дамского портного“ молодость нужна, как ни в каком другом, как никому; даже une cocotte chic[25]25
шикарная кокотка (фр.)
[Закрыть] „дама просто“, – и та дольше хранит свой капитал…»
Движение… Новое лицо. Очень молодой мальчик, прекрасно одетый, замечательно красивый, кажется, испанец. У него растерянные, какие-то затравленные глаза. Оглядывается. Отеро вскакивает, небрежно толкнув Люсьена. Испанца окружили. Через минуту уже затерли. Куда он потом девался, – очень скоро, – не знаю.
Музыканты заиграли было цыганский романс, но их перебили требованием «мачичэ». Опять кто-то, виясь, пошел танцевать… Сцепленные руки высоко покачивались в сизом воздухе…
Ну, что же теперь? Кажется все уж было, по-хорошему: и пели, и танцевали… Но вот новый гость: старушка, в черном платье, с ридикюльчиком. Таких старушек встречаешь часто в церквах. Сидит себе около какой-нибудь часовеньки и тихо шевелит губами, перебирая четки. Но здесь не часовенка, и у старушки в руках не четки, а карты. Это – гадалка.
Разряженные дамы ей обрадовались. Гадалка, около их столика, со вкусом тасует засаленную обшарканную колоду. Престарелые кавалеры во фраках, вдев монокли, делают вид, что интересуются гаданьем. Дамы громко хохочут.
Но кой-кто уже уходит. Ушел поляк с маленьким Адольфом. В последнюю минуту предпочел-таки его Люсьену, Люсьен проводил их завистливыми глазами. Отеро мечется от стола к столу, устраивая делишки: «Не больше двадцати! Я вам говорю! Он запрашивает!» Хозяин посматривает на часы. Скоро два часа: надо закрывать. Полиция, неприятности… Chasseur[26]26
Посыльный (фр.).
[Закрыть] зовет автомобили, извозчиков. Музыканты ходят с тарелочкой. Гарсоны подают фантастические счета.
– C'est curieux, c'est tres curieux[27]27
Это забавно, очень забавно (фр.).
[Закрыть], – говорят как-то опустившиеся старые кавалеры во фраках, накидывая на плечи своих дам невероятные манто.
На бульварах мертвая тишина. Высокая «Мельница» уже не освещена красно-голубыми, режущими и колющими огнями. Она ждет завтрашнего вечера, ждет на свои повисшие крылья опять тепленького ветра человеческой… нет, парижской похоти.
Карусели тоже не вертятся. Розовые свиньи, верхом на которых целый вечер с гиком носились счастливые люди, – молчат в чехлах.
Измученный, с землистым лицом, кондуктор последнего метро вяло отбирает билеты у редких пассажиров. По пустым улицам тащатся колымаги, набитые овощами. Вот вся нежно-зеленая – вся полная салатом. А вот – оранжевая – с морковью.
Парижанин на них не смотрит. Это на завтра. А сегодня пора спать. Всему свое время, и дни должны быть гармоничны. Повеселились – спать. Великая вещь гармония мира!
Это все правда. Ну, и что ж?
Да ничего. Вывода не делаю. Я только фотографирую.
Публицистика 1899-1916*
Две драмы А. Толстого*
О если бы живые крылья
Души, парящей над землей,
Ее спасали от насилья
Бессмертной пошлости людской!
Тютчев
Драма «Царь Борис» была поставлена на сцене императорского театра конечно благодаря особенному успеху в Петербурге и Москве другой драмы А. Толстого – «Царя Феодора». Сама по себе эта заключительная часть трилогии, пьеса «Борис», очень посредственна. Характер Бориса в ней является обыкновенно-напыщенным и неинтересным. В «Царе Феодоре» трагизм есть следствие внутренних причин внутреннего мира, души самого Феодора; если это и не вполне показал, то хотел показать поэт, – шел к этому. Драма «Борис» построена по общему образцу всех исторических драм, с внешними ужасами, отравлениями, смертями, причем личность Бориса остается без всякого развития. Видно влияние Шекспира, поэт потерял самобытность, и драма «Борис» лишена всякой цельности.
Но я не хочу вдаваться в литературную оценку произведения. Меня интересует теперь факт постановки двух драм на петербургской сцене и небывалый успех первой – «Феодора Иоанновича». Говорят много о том, что публика, толпа – не меняется, говорят о «вечной пошлости» толпы, о пошлости среднего человека, который идет за всеми и со всеми. В сущности своей средний человек мало меняется; он остается пошлым (пока остается самодовольным), но при этом он ни за что не хочет «отставать от своего времени», усердно меняет свои вкусы, меняет старую пошлость на новую, не замечая, что меняет только внешние наряды своего родного, равнодушного непонимания. Успех, несколько лет тому назад, такой архипошлой пьесы, как «Принцесса Греза», достаточно доказал это наивное и бессильное брожение. Для обеспокоенной какими-то смутными звуками толпы, звуками нового искусства, чистого от пошлости, явились необходимые лжеидеалисты, лжесимволисты. И они, и толпа стали прекрасно понимать друг друга на этой общей, родной почве пошлости. Среднему человеку много понимать даже и не нужно. Несколько слов: «красота», «мистицизм», «бессознательное творчество», «тайна» и затем сознание, что это – новое, и что мы в новом. Я не думаю, чтобы лет десять тому назад «Феодор» мог иметь такой шумный успех, как теперь, хотя драма всегда была достойна успеха. Это прекрасная старая вещь, вечная, потому что прекрасная, но в ней нет намека на то, что есть истинно нового в нашем времени. Душа Феодора – слабая, высокая душа, побуждающая без разума любовью и простотой; Феодор почти юродивый, блаженный. Таким наивная толпа и ее угодники хотят считать нового, современного человека – и потому драма «Феодор» смотрится с животрепещущим, то злорадным, то растроганным интересом. Они не видят вечного в пьесе, потому что видят несуществующее «модное». Если бы теперь была поставлена истинно новая вещь – не гениальная и не пошлая – конечно она игралась бы перед глухой публикой: между автором и толпою не было бы необходимого моста пошлости. Да и кто поверил бы, что наше время – не время болезненных людей экстаза, бессмысленной любви и непонятной красоты, а, напротив, время бесконечной ширины разума и сознания, реальности символов и стремления к гармонии самых непримиримых начал? Нет, расслабленный эстетизм, томная порочность – в отрицательном смысле, и расслабленная любовь, экстаз и бездумное проникновение юродивого в положительном, – вот то, что считают признаками нашего времени, что видят или хотят видеть в каждом новом произведении искусства. Толпа слышала новые звуки, непонятные и беспокоящие; она, чтобы сделать их более близкими, окропила их своей пошлостью и они превратились во что-то дикое, бессмысленное и жалкое. Истинное стало не похоже на истинное так же, как ложное на него не похоже. И в таком виде эта истинная ложь живет в мире, среди людей, которым имя «легион». Если бы теперь гений, как Христос или Будда, сказал им новое слово, он победил бы их сразу, они испугались бы, перестали быть самодовольными и потому перестали бы быть пошлыми, не поняли, – но пошли бы за ним. Но гения нет – и для победы нужны годы, может быть столетия, может быть тысячелетия. И хорошо, если тогда средний человек поймет, что он многого не понимает, и что это ему нужно понять.
Возвращаясь к драме «Царь Борис», скажу, что она поставлена с расчетом на такую грубость толпы, которая даже и не существует. «Борис» имеет успех, но это успех кажущийся, который не может длиться. Постановка слишком роскошна, до безвкусия, до того предела, когда уже перестают существовать слова автора и даже игра актеров. Сцена превращается в музей, а публика в детей, которых, незаметно и забавляя, хотят научить истории и удивить роскошью. Порою представление сводится к феерии, почти к балагану, – в первом действии, например, которое сплошь занято принятием послов в самых разнообразных костюмах. Это, может быть, весьма красивое зрелище, условно красивое, но оно не имеет ничего общего с искусством, и даже наша публика скучает. Актер, играющий Бориса, вял, мертв и тоже нестерпимо скучен. Да, вероятно, неподвижную роль этого злодея, мучимого угрызениями совести, и нельзя сыграть более живо. Те, кто ставил эту пьесу, увлеченные внешними, декоративными эффектами, забыли, что успех «Царя Феодора» обусловливается не количеством статистов, одетых в плюш; что в толпе несомненно есть стремление к новому, хотя и глубоко ложно понимаемому; что публике нужно давать не шелка и бархаты в плоской драме, а хотя бы понемногу, осторожно, не боясь неудачных попыток, живую воду живых, разумных слов – и ждать гения, который победит толпу сразу и поведет ее, покоренную, туда, где свет.
На берегу Ионического моря*
I
В Неаполе шел дождь, и этот неизящный город казался особенно унылым. Буро-серые волны скучно, с одинаковым, ни к чему не ведущим, раздражением ударялись в каменную стену набережной, смывая грязь и сор со ступеней лестниц, ведущих вниз.
Мокрые тротуары, итальянцы с гигантскими красноватыми зонтиками, вечно сломанными, нависшее небо и очень злой ветер, от которого небольшие пальмы главного сада смущенно и беспомощно дрожали всеми листьями, и казалось, что пальмам тут совсем не следует и нехорошо быть. В музее – Каллипига, под мутным светом ненастного дня, смотрела печально и насмешливо, а нежный, женственный Аполлон, привыкший к широким солнечным лучам, потому что окно его комнаты выходит на юг, казался оскорбленным, больным и потухшим. Хотелось поскорее вон из этого мокрого города, дешевая живописность которого была особенно жалкой под струями грязной холодной воды.
Вечером мы выехали на Реджио, небольшой городок в Калабрии, место, наиболее близкое к Сицилии, отделенное от нее лишь узким Мессинским проливом.
Этот утомительный ночной переезд, от Неаполя до Реджио, был теперь, во время весеннего сирокко, почти опасен. Дождь хлестал в черные окна вагона с равномерной силой, ветер при остановках, казалось, удваивался, рвал так, что поезд вздрагивал и трепетал на рельсах, и думалось, что нельзя идти против этого визжащего урагана. И шли с трудом, медленно, останавливаясь, так что к утру опоздали часа на три.
Утром солнце, еще очень низкое, ударило в стекло вагона жидкими, холодными лучами. По солнцу было видно, что ветер продолжается, разве слегка утишенный рассветом. За окном мелькала странная местность, не похожая на Италию. Пустые, мало заселенные, низкие пригорки, покрытые почти сплошь кактусами, все одной и той же породы, с мясистыми и толстыми, как лепешки, листьями, – без стволов. Листья растут из листьев; старые, нижние, совсем огрубевают, еще живые – чернеют, теряют отчасти форму и превращаются в ствол. Листья хитро и разумно все обернуты в одну сторону, наперерез ветру: они не могут гнуться и не хотят ломаться, а ветер непременно бы их сломал, встреть он на своем диком пути широкую площадь целого листа.
Сверкнуло море, ветреное, жидкое под жидкими лучами солнца, неровное, с некрасивыми полосами. Все было некрасиво и только странно; казалось, знакомая и добрая Италия далеко, – а что ждет в этой, непохожей на нее, стране – неизвестно. Может быть хорошее, а может и дурное. Впрочем, два англичанина, едущие в Сицилию с твердым намерением найти ее прекрасной, уже глубоко наслаждались. Они говорили мало, но не отрывались от бинокля и были насквозь проникнуты довольством. Несколько молодых итальянцев ехали на охоту, в Калабрию; они, вероятно, были из хорошего общества, но все носили на себе тот отпечаток непорядочности и неприличия, без которого нет итальянца. Жесты, выражение лица, оттенок галстука, покрой платья – все отзывалось неуловимой оскорбительностью. С ними говорила дама, итальянка, с большими качающимися перьями на шляпе, не очень молодая. Она говорила так, как могут говорить только итальянки: однотонным, высоким – и грубым голосом, не останавливаясь ни на минуту, с разрывным треском, точно быстро вертела ручку тугой кофейной мельницы. С ее говором не сливался и стук поезда: они шумели отдельно.
Пароход, вспенивая воду и уже начиная покачиваться, отошел. Калабрийский берег удалялся, но мы и не смотрели на него: розовые, неизвестные горы вырастали впереди. Они казались совсем тут, только дымок, заволакивавший их, говорил об отдалении. Они были светлые и теплые под черно-синими, вдруг наплывшими, тучами, над некрасиво-злым морем, повторявшем тучи. Волны широко и высоко поднимали пароход. Под совсем выросшей горой забелели домики. Это Мессина. А очертанье Сицилии так и осталось светлым и веселым, – розовым, несмотря на дикий ветер и все наплывающие тучи.
II
– Нет, слишком высоко, – недовольным голосом произнес один из наших спутников, когда мы поднимались в коляске по белому, извивающемуся шоссе снизу, из Giardini – в Таормипу. Giardini – некрасивое и крошечное местечко у самого моря, со станцией железной дороги. Giardini неинтересно, да к тому же и не здорово: там лихорадки.
– Чересчур высоко, – повторил наш спутник. – Не люблю я высоких видов. Как будто и хорошо, – а природы не чувствуется, и все условно: горы, скалы, море… «Питтореск» что называется. Для англичан годится.
Спутник наш был один из тех русских, которые вечно и одиноко шатаются за границей, без дела, без плана, без желаний, по малейшему предлогу едут в какое угодно место – и без предлога его оставляют, не говорят ни на каком языке, за табльдотом угрюмы и прожорливы, вечно недовольны «заграницей» – но в Россию все не попадают, не то по лени, не то по другим причинам, – неизвестным.
На этот раз, впрочем, ворчливый спутник наш был почти прав. Море, уходя, вырастало и делалось красивым, но не живым, как нарисованное; все сглаживалось, и принимало самые живописные очертанья, до такой степени сладко и обыкновенно живописные, что становилось жаль… Зачем было въезжать в розовые и веселые горы Сицилии, которые издали казались такими особенными, такими не здешними?
Мы уже и в Giardini приехали в толпе. Одинокие англичане и семейства англичан, французов, толстые норвежцы и – немцы, немцы! Столько немцев, что стало жутко за Таормину.
Путешественники казались растерянными, точно они не знали хорошенько, зачем приехали в Таормину и почему именно в Таормину. Все они рвались в отель Тимео, но Тимео был переполнен. Да и портье других отелей отвечали как-то подозрительно: вероятно с поездом накануне приехало еще больше немцев и норвежцев. Путешественники были в грустном недоумении: каждый очевидно думал приехать в крошечное, уединенное местечко, открытое чуть не им самим.
И мы поднимались наверх тучей, точно длинная процессия. Некоторые пытались перегонять передних, и это было страшно, потому что они могли занять места в гостиницах. А дорога все вилась и вилась, бледная, пыльная, между серыми скалами, серыми оливами и сероватыми, толстыми заборами из кактусов. Море удалялось, превращаясь в фарфоровое, а солнце казалось еще ослепительнее от ветра, который усилился наверху.
Таормина – небольшой серый городок с единственной длинной улицей, которая начинается со старинных ворот – porta Messina – и кончается, на другой стороне, тоже воротами – porta Catania. Таормина лежит в одинаковом расстоянии часа езды по железной дороге – между Мессиной и Катаньей. Шоссе подходит к porta Messina, с этой же стороны находятся и развалины греческого театра. Около porta Catania видны еще разрушенные укрепления и стена старого города, черная, из рассевшихся камней в однообразном мавританском стиле, который, здесь преобладает. Темные и красноватые, зубцы резко и грустно выделяются на небе, когда оно горячее и очень синее.
Таормина, этот маленький городок, имеет, как известно, свою историю, очень сложную, богатую событиями и бедами. Следы самых разнообразных культур видны здесь; городок на берегу моря, хорошо защищенный скалами, очевидно привлекал всех. За четыре столетия до P. X. он принадлежал грекам и, вероятно, имел значение и силу; театр того времени, впоследствии возобновленный римлянами, был один из обширнейших. Окончательно разрушен он сарацинами, нападения которых долго выдерживал хорошо укрепленный город. Известный по жестокости Ибрагим бен Ахмет взял Таормину после горячей битвы на берегу моря. Даже Мола, маленький городок над Таорминой, на высокой отвесной скале, была взята маврами, жители убиты и город сожжен. Есть легенда, что знаменитый Ибрагим велел задушить товарищей епископа Прокопия на его трупе и хотел непременно съесть сердце этого несчастного епископа. Тем не менее Таормина опять поднялась, так что через шестьдесят лет, в 962, эмир Гассан долго осаждал ее и взял, наконец приступом. Он назвал ее Moezzia и устроил там мусульманскую колонию. После этого Таормина переходила в руки и нормандцев, и французов, выдерживала битвы, разорение, поправлялась, горела, опять поправлялась, пока наконец в апреле 1849 не была взята неаполитанцами.
Следы этой бурной жизни видны во всем. Пестрые средневековые развалины Badia Vecchia, церковь святого Панкрация, сделанная из греческого храма, серый замок-крепость – Castelio, – все говорит о прежней красивой и деятельной жизни города. Теперь культура последнего времени, велосипедная культура англичан, немцев, гидов, отельщиков – кладет на него свою, унылую, печать; Таормина, выдерживавшая битвы с сарацинами, – ослабела и гибнет; она привыкла к честным и жарким битвам, но битв больше нет; а с медленным ядом Таормина не умеет бороться.
Гостиницы здесь устроены, кроме немногих старинных, какова Тимео, Неймахия, – на скорую руку, в первом попавшемся доме; в них явилась надобность внезапно. Мы едва, после многих скитаний, основались в очень непривлекательном отеле, хозяин которого, пронырливый и красивый итальянец, очень гордился тем, что дом его – старинный палаццо. Итальянец этот немедленно сообщил нам, что он собирает древности и приглашал нас взглянуть на его коллекцию, которая помещалась отдельно, в башне, через палисадник. Как мы узнали после, – в Таормине почти все содержатели отелей, аптек, кафе – занимаются собиранием и перепродажей «древностей» путешественникам. Сомнительные статуэтки, облепленные землей, железные цепочки, колечки, лампады с зеленью и ржавчиной иногда очень свежей, обломки, черепки и, главное, ризы, бесконечные ризы, кружевные, шелковые, затканные золотом, серебром, бархатными цветами, – рваные, грязные, истертые – и целые, и чистые. Промысел «старых материй» теперь в Таормине особенно выгоден. В нашем «палаццо», в маленьких комнатках с каменным полом без ковра, двери (окон не полагается) были с трещинами и едва затворялись. Мы спросили, нет ли печей – но на нас взглянули с откровенным недоумением: какие же печи в Сицилии? Да еще в конце февраля! И мы не настаивали.
Нам подали завтрак в пустынной (табльдот уже кончился) странной столовой со сводчатым потолком темно-голубого цвета. Она была убрана не то в восточном, не то в каком-то несуществующем стиле. По стенам, на столах, расставлены расписные вазы из коллекции хозяина; на дверях и окнах, вместо занавесей, висят куски шелковых малиновых риз. Красиво, впрочем, было громадное, во всю стену, овальное зеркало в действительно старинной раме. Синело, голубело усталое стекло, отражая все – печальным, нежным и темным; таким, вероятно, мир отражает затихшая душа мудрого, очень старого человека.
Мы вышли пройтись и посмотреть театр. В палисаднике отеля стояла высокая перистая пальма, тускло-зеленая, точно увядшая; она сухо и жалко металась от порывов сирокко.
На главной, небольшой, площади Таормины, там, где ворота с часами наверху и некрасивый собор позднейшего времени, – туча ядовитой пыли едва не сбила нас с ног. Кое-как, мимо бедных лавок со скверными жизненными припасами и богатеньких магазинчиков с древностями, пробрались мы к решетчатой двери театра. В театре было не так ветрено. Мы вышли через внутренние ворота из темного кирпича к амфитеатру, хорошо сохранившемуся, поросшему травой. Соломенные шляпы, беленькие кофточки, светлые и темные юбки запестрели перед глазами.
Немки и англичанки (женщин было втрое более) возлюбили амфитеатр и не покидают его. Толстые, тоненькие, жидкие, больше старые и все некрасивые, – рассыпались повсюду.
Полдюжины или больше устроились с мольбертами, хотя непонятным казалось, как ветер не уносит этих жидких мольбертов. Рисовали усердно, и с таким видом, точно вот, наконец, добрались они до настоящего, на все же остальное и смотреть не стоит. Казалось еще, что каждая художница втайне ненавидит другую, и что им здесь вместе очень тесно; но это греческие развалины, для которых они приехали в Таормину и что ж тут еще делать, как не сидеть среди греческих развалин? Два молодых итальянца, неприличных, в клетчатых брюках, прошли, громко и грубовато разговаривая и смеясь. У одной англичанки ветром завернуло пелерину и обнаружилась плоская талия, едва стянутая кожаным кушаком. Она, стараясь поправиться, заговорила быстро на своем птичьем наречии. Мы постояли на сквозном ветре, посмотрели, не сговариваясь, повернули назад и вышли из амфитеатра. Тропинка около полуразрушенных стен вела в сторону, на утес. Мы пошли, цепляясь за выступы камней, до маленькой площадки над обрывом на скале, где можно было сесть, потому что стена защищала нас со стороны ветра.
– Вот она, Таормина, – сказал наш приятель недовольным тоном, глядя вниз. – Экое место! Неудобное, грустное…
– Ну вот, грустное! Сегодня ветер… А вы взгляните – ведь это красота!
– Ветер? Погодите, будет она вам и без ветра. Я сразу вижу. Красиво, красиво, спора нет… А помните, еще у Полонского про это очень забавно сказано…
И приятель с аффектацией прочел:
Есть форма – но она пуста;
Красиво – но не красота!
В ворчливых словах приятеля была, конечно, доля правды; но почему, и откуда, и велика ли эта доля – мы еще не знали. Мне захотелось видеть Таормину в жарком блеске и великолепии. Теперь все мутнело в сирокко. На том месте, где должна была быть Этна, толпились пухлые темноватые облака. Около нас, по скале, выдаваясь из травы, ползли все те же бесконечные кактусы, толстые и молчаливые. Они только беззвучно вздрагивали своим крепким телом от порывов ветра. Какая-то длинная трава вилась и трепалась по камню. Среди зелени мелькали ярко-оранжевые ноготки и маки. Их было равное количество, они гнули головки друг к другу совсем близко. Сначала казались оскорбительными и не соединенными эти два цвета. Но один из моих спутников, наскучив недоумением, сорвал их по три и соединил в букет. И вдруг стало понятно, что их нужно уметь сочетать, что близость их была не оскорбительна, и что в делах природы никогда ничто не бывает оскорбительно. Пухлая туча с Этны еще надвинулась.
– Пойдемте домой, – сказал мне спутник.
Мы встали и поплелись в гостиницу.
III
Прошло несколько дней. Ветер давно утих и настала яркая и теплая погода. Мы отнеслись к ней, как к должному, еще не зная, что это редкость в сицилийском феврале, но дней не теряли и каждый день делали какую-нибудь большую прогулку. Ходили наверх, по горным тропинкам, или вниз, к морю, на мыс St. Andre, на самый прекрасный из всех мысов. Если стоять в Таормине лицом к морю, Этна будет направо, и нельзя понять сразу, далеко она или близко. Первый раз мы ее увидали утром, часов в десять – и случайно. Облака до тех пор плотно закрывали ее до подножья, и нельзя было себе представить, что там гора. Но в это утро, ясное и розовое, облака разорвались, ушли далеко, или растаяли. Мы вышли в крошечный садик отеля, отделенный от обрыва каменным парапетом. Море, далеко внизу, голубело, как небо. А направо, тянулась от моря – далеко назад, за горизонт, – широкая и спокойная Этна. Она поднималась так медленно, линия была такая отлогая, что в первую минуту гора не показалась даже высокой; и только со второго взгляда стало понятно, какая она громадная, строгая и властная. Вся белая, почти до линии видной из Таормины, но не снежная, а льдистая; льды, как стекло, отражали солнце. На самой вершине плотно, точно небольшой кусок ваты, лежал неподвижный, беловато-розовый дым; на правом откосе было неосвещенное пятно – это тень от последнего, проходящего низко, тучного, матового облака.
«Вот она какая, Этна!» – подумали мы с невольным уважением. И, вечно бурлящий без особенного толку, маленький, черный, двугорбый Везувий со своей условной живописностью показался нам в воспоминании жалким и детским.
Но Этна не любит долго быть на виду… К полудню, хотя погода не испортилась, она завернулась в свои белые одежды и показалась только на закате. На закате она была другая. Облака сходили с нее слоями, и за самым тонким слоем она была неясная, вся аметистовая и нежная, как сквозь тончайшую ткань, пронизанную отлогими лучами. Потом золотые края стали огненными – а потом все сразу потухло, небо затмилось, вышли на него странные, непривычные звезды с изломанной большой Медведицей у края неба и высокий, непонятно-высокий месяц, совсем лежачий, с рогами вверх…
– Еще земля тут немного похожа на землю, – ворчал наш недовольный приятель, – а небо решительно ни на что не похоже!
Последние дни он каждое утро аккуратно объявлял, что уезжает, и просил нас поговорить с хозяином, с которым не умел объясняться. Только обильный табльдот пришелся ему по вкусу, да еще понравились тяжелые темные пряники в местечке Моле, сделанные в виде монахов, из какого-то теста на вине.
В Таормине, действительно, в ее природе и в самом городе, несмотря на яркость, несмотря на Этну и море, чувствовалась порою бесконечная грусть. Дыханье моря не долетало наверх, и море часто казалось мертвой, шелковой скатертью, без колебаний. Кактусы неподвижно протягивали к солнцу толстые лапы.
Зубцы скал за Таорминой – Мола, Кастелло, Монте-Царетто – все они казались устроенными для красоты вида, для удовлетворения англичан и немцев. И обидно за Этну, что она, такая как она, все-таки показывается изредка туристам и сухим англичанам с мольбертами. Ей следовало бы теперь оградиться непроницаемой стеной облаков и не смотреть самой, и не показываться праздно и вяло – любопытной толпе случайно забредших людей.
Но было и неугаданное в Таормине, еще непонятое. И в природе – потому что это настоящая природа, умеет она говорить, только языка мы ее не знаем, голоса ее не слышим; и в самом городе – наверно есть у него своя жизнь. Проходя по узкой главной улице или взбираясь по крутым, кривым и невероятно-грязным переулкам, глядя на таорминцев, провожающих нас недоверчиво-недружелюбными или насмешливыми взорами, мы невольно чувствовали себя совсем на поверхности, что мы не вошли в жизнь этого города и когда уедем, то будет так, точно мы сюда никогда и не приезжали.
Пусть и здесь, как везде, сплетни, вражда и пошлость, – но мы не знаем, а самое обидное и неинтересное – быть на поверхности, не понимать жизни города и не уметь настоящего сравнить с прошлым.
Вот бежит по солнечным камням улицы маленькая девочка, такая маленькая, что за нее страшно. Девочка хорошенькая, с легкими белокурыми завитками, с короткими толстыми ручками, которыми она препотешно размахивает. Девочка упорна и самостоятельна. Но молодая женщина, с грубоватым лицом, с высоким начесом из очень черных волос, встала с соломенного стула у макаронной лавки, где она вязала чулок, и пронзительно кричит девочке:
– Laura! Laura! Vene ka! Vene ka, figguia![28]28
Лаура! Лаура! Сюда! (ит.)
[Закрыть]
Девочка оборачивается и смеется. Эти изломанные фразы в переводе с сицилийского на итальянский язык должны означать: «vieni qua, figlia!»[29]29
Иди сюда, дочь! (ит.)
[Закрыть] Но то, что говорит женщина после, для нас уже непонятно; мы не знаем, довольна она или нет, чего она хочет, как живет, и муж ли ее высокий черный сапожник из соседней лавки, который ей что-то закричал. Две девушки, похожие, но одна пожилая, другая молодая, прошли, смеясь. Они одеты почти как барышни – но дурно, и без шляп. Прошла целая компания немцев, по у них не вид путешественников; молодая барышня, некрасивая, одета в белом. В хорошенькой плетенке, запряженной пони, проехала бледная дама, закутанная в серый вуаль так плотно, что нельзя было рассмотреть черт лица. Случайные, двухдневные туристы видны сразу; они не соединены с таорминской жизнью, они на поверхности, даже не подозревая этого, они растеряны, заглядываются на дрянь в магазинах и спешат в греческий театр, в котором и остаются.