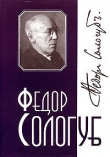Текст книги "Том 7. Мы и они"
Автор книги: Зинаида Гиппиус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 39 страниц)
Литература верна жизни. И, как жизнь, она стоит накануне перелома. Слишком это ясно.
Журнальная беллетристика*
В начале года толстые журналы особенно заботливо относятся к своей беллетристике. Каждая январская книжка не прочь щегольнуть новой повестью старой знаменитости, началом обещающего романа. Это до сих пор так, хоть оно труднее, чем в былые годы: литература стала широка, цельна, более или менее единообразна, хорошие писатели равны друг другу, и равно им доступны все журналы. Сегодня Горький в «Современном Мире», завтра (а то и сегодня же) он в «Вестнике Европы» или в «Заветах»; где угодно можно встретить Андреева, где угодно Бориса Зайцева, Ал. Толстого и т. д. Каждый писатель, независимо от того, в какой из толстых журналов толкнул его сегодня случай, остается самим собою. Впрочем, и журнал остается самим собою, кто бы ни подвизался на первых его страницах: Горький или Тыркова, Клюев или Зайцев, Ал. Толстой или Шмелев, Пришвин или Гумилев.
Кое-какой подбор беллетристики, неуловимый для неискушенного взора, есть однако. Лишь в «Русском Богатстве», этом, по-своему единственном, журнале, подбор слишком ясен. И – увы! – не к славе журнала.
Должен покаяться: я когда-то преувеличил заслугу «Русского Богатства» в отношении именно выбора беллетристики, сурового и последовательного отметания «модерна», который везде равно беспозиционен, если не бессмыслен. Принцип-то верный, и раскрытые объятия всем «повествователям» без различий – вещь подозрительная… Но есть же мера. И я слишком люблю литературу, просто как таковую, чтобы не отметить с печалью антилитературность двух первых книжек «Русского Богатства» за текущий год.
Нет в них живого места. Кнут Гамсун? Но Кнут Гамсун всегда только Кнут Гамсун, и не так уж он потрясающе прекрасен, чтобы из-за него простить «Метеор» Скитальца или крюковскую «Неопалимую купину», или даже рассказ Кондурушкина (в особенности этот последний). В повести Скитальца, растянувшейся на две книжки, есть все, что угодно: и знаменитые писатели, и рабочие, и тюрьмы, и все это до последних пределов фальшиво, до последней грусти уродливо и в конце концов – бессмысленно. Другого стиля бездарность Крюкова. У этого присяжного «беллетриста» «Русского Богатства» бездарность, главным образом, беллетристическая: чем меньше он претендует на «искусство», чем дальше от «повести», тем он милее, проще, тем значительнее небольшие, но всегда верные мысли его очерков. И тогда я его даже люблю… на страницах «Русского Богатства». В «Неопалимой купине» Крюков – увы! – слишком принялся «рисовать» своего учителя гимназии; и вышло худо.
Но Кондурушкин все-таки хуже. Третий стиль дурной беллетристики, в «Русском Богатстве» совершенно ничем не оправдываемый. Представьте себе типичное «описательство», типичный модерн с «черточками», со «штрихами», со «звуками природы», без сюжета, без мысли, без действия, и… без признака художественности, без оригинальности, репортерским, газетным языком приготовленное.
Как же тут не опечалиться? И чем соблазнилось «Русское Богатство»? Или оно вовсе не сознательно отметает «модерн», а и «хочет, да не может»? Потому что уж коли модерн, так первого сорта; Кондурушкин даже не второго, даже не третьего, а просто никакого сорта, хотя и «модерн».
Вот образец первого сорта: в январской книжке «Заветов» произведение… вы думаете, я скажу Ал. Толстого? Нет, нет, его драма «Насильники», хотя и не может быть названа бездарной (небездарен писатель) – вещь все-таки слабая, спутанная, скучная и натянутая. Бог ее знает, как она вышла бы на сцене, но и тут сомневаюсь: уж через меру она неумна и местами напряженно-водевилиста.
Нет, образец модерна – рассказ Шмелева «Поденка» в той же книжке «Заветов».
Можно сказать, выписался человек, достиг! Это уже не скромный беллетрист из «Знания», это и не Шмелев, автор хорошей, настоящей повести (тоже, однако, родственной, и приятно родственной, «Знанию») – «Человек из ресторана», – нет это самый типичнейший модернист, писатель-описатель со всеми достоинствами и со всеми недостатками. Какой неожиданный рост и, главное, почти чудесное превращение!
«Поденка» – собственно ни при чем в рассказе. Так, красивый штрих, красивый жест природы, пожалуй, чуть аллегоричный, по в первую голову красивый и красиво описанный. Сюжет рассказа в том, что живет студент-репетитор летом в купеческой, звероподобной семье, живет, живет… ну, и больше ничего, и остается жить. Сначала ужинают, потом ложатся спать, потом встают, потом обедают, потом пьет чай, потом пьют вино… В промежутках студент купается. Может быть, порядок дня не тот, я уж забыл, по ведь это не важно. Не забыл я, что с первой строки, с ужина, сразу начинаешь видеть каждого купеческого «зверя», почти слышать, как жует старуха, хозяйка, понимать, что она непременно обожрется. Видим мы с кинематографической ясностью и сыновей ее, приехавших пожрать в праздник, и параличную тушу хозяина в кресле, в знойном саду под деревьями, и пышную, жадную, красивую невестку… Не прелесть ли кучер, когда он купается на речной отмели со студентом? Не прелесть ли эти свиньи – пьяные сыновья? И дочь – «Мунька-телупька»? Воздух горячий переливается, закатывается солнце, какие-то мысли тянутся у студента… Ну, это, пожалуй, и послабее, можно бы и без этого; впрочем, пусть себе идут, как полуденные облака, или речные всплески, или несвязные речи пьяного коммерсанта… Дело художника сделано. Он подслушал, подглядел – и передал нам, как трубка самого лучшего, самого дорогого граммофона. Я знаю, что таких граммофонов нет и нельзя такого выдумать, а все-таки… все-таки художественное «описательство» – в какой-то мере «граммофопизм». Чем неоспорнее, ярче, талантливее художник, тем настойчивее требуешь от него еще чего-то… чего как раз и не дает современный повествователь. Может быть, такое умение, такие краски не даром приобретаются? Может быть, за каждую вот такую «художническую» черту, строку мы должны платить кусочком человеческой души?
Не знаю. Да и не мое это дело, я отвлекся. Шмелев характерен, я отдал ему должное, сказал все, что можно сказать о «Поденке». В смысле пристрастия к модерну, «Заветы» перещеголяли все журналы. Черт возьми, коли эстетика – так эстетика. Брюсов устарел, возьмем Клюева и Игоря Северянина. Это ничего, что они так разны, что Клюев больше насчет «самогудов» и «полонянок» «жалкует», а Игорь Северянин – «грезер», любящий «эксцессерок»; что Клюев поет о каком-то «голгофском христианстве», а эгофутурист возглашает:
Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден!
Это ничего. Они отлично марьируются (Игорь Сев. заразил меня иностранщиной) в одних «Заветах». Они оба – dernier cri, оба «с пылу – с жару». А о чем они болтают, кому дело разбирать? Ведь это «искусство», и если они болтают искусно…
Вот как влюблены «Заветы» в современное художество.
Что сказать о «Вестнике Европы» и «Современном Мире»? В первом – очень обыкновенен и очень недурен Горький: очерки «По Руси». Кажется, что уж все это давно читал, но опять читаешь, и со скукой, и с удовольствием. Очерки Айзмана куда хуже. («Дети», I и II кн. В. Е.). Сентиментально и не трогательно, очень притом забвенно. Борис Зайцев («Вечерний час») – нежен и слаб, всегдашний Борис Зайцев. А роман Тырковой «Жизненный путь» по началу мне скорее понравился. Это подчеркнуто женский роман, и требованиям, которые можно к нему предъявить, он, кажется, удовлетворяет: вяжется, тянется тихая история тихой, намеренно пассивной женской души.
Таинственные приключения Л. Андреева в январской книжке «Современного Мира» («Он») меня заинтересовали. Загадочная дача в Финляндии, невидимка-сумасшедшая, призрак неизвестного, появляющегося под окном в известный час… К сожалению, я не узнал, чем это кончилось и как разрешилось, ибо продолжения рассказа в феврале нет. Продолжается лишь длинная и довольно тягучая повесть Муйжеля «На развалинах», о которой, право, нечего сказать. Ни очень плохо, ни очень хорошо, так себе.
Для полноты отчета следует упомянуть о рассказе «Шатер любви» К. и О. Ковальских («Современный Мир», февраль). Совместные произведения этих писателей уже появлялись не раз в толстых журналах. Это рассказы не очень оригинальные, не очень глубокие, но написанные довольно хорошим языком и не бездарные. Я не знаю, кто авторы, но кто бы они ни были, в творчестве их есть женские черты, женская чуткость и женская грубость. «Шатер любви» в этом смысле особенно грубо написан. Очень грубо сделана героиня, порядочная женщина, продающая себя богатому московскому адвокату-развратнику за платье «от Ламанской». Благодаря этой грубости сентиментальным кажется конец, когда героиня застает, вернувшись от адвоката, своего добродетельного мужа за вдохновенной игрой на фисгармонии. Муж слегка напоминает чеховского «Дымова» (кстати, они оба – доктора), и нежный, и чистый облик Дымова особенно заставляет досадовать на неудачную фигуру гг. Ковальских.
Что же сказать в общем о журнальной беллетристике начала года? Удалась она или не удалась? Какому из журналов наиболее удалась? Если мы исключим «Русское Богатство», которое оказалось не на высоте, то следует признать, по совести, что везде журнальная литература приблизительно одинакова. Художественная литература… и не чисто художественная тоже. Везде есть интересные материалы, воспоминания, письма, не лишенные любопытности очерки и заметки. В «Русском Богатстве», например, очень приятны скромные и спокойные записки Анненской об Н. Ф. Анненском, а также воспоминания Пешехонова «На действительной службе». Крайне неудачны, как всегда, очерки Пришвина в «Заветах» «По градам и весям». Эти «грады и веси» производят странное впечатление ребячества, косноязычия, несерьезности на страницах «серьезного» журнала. Г. Пришвин, почтенный беллетрист, наблюдательный и талантливый писатель-описатель, решительно теряет себя там, где требуется от автора хоть мало-мальское собственное присутствие, хоть какое-нибудь осмысливание описываемого, какая-нибудь «точка зрения». На это он неспособен, и «очерки» его, спотыкающиеся, несвязные, растрепанные, оставляют читателя в неприятном недоумении.
Определенно слаба во всех журналах литературная критика. Это вообще слабая сторона нашей литературы. Беллетристы критики не пишут, да и несвойственно это настоящим, хорошим, современным беллетристам; современных же критиков просто нет, не родились. Быть может, это естественно? Что делать критику с нашими сегодняшними belles lettres, что, да и зачем о них серьезно писать? Литература прекрасная, язык чудесный, красивый, писатели талантливы. Один немножко более, другой немножко менее, но разница не очень значительна. И так вся литература на виду, так кругом ясна, кругом и насквозь, что читатель без всяких указаний, толкований и разъяснений берет ее отлично, оценивает ее вполне правильно. Для Достоевских и Толстых нужны были критики, а нынче и читатель подрос, и Достоевских нет, Пришвина же и Муйжеля не хитро прочесть с удовольствием и пониманием всякому. Добросовестному критику, понимающему и любящему художественную литературу (а таких сейчас пет, ее любят только читатели и сами художники), пришлось бы много повторяться, указывать, что вот здесь язык лучше, а вот эта вещь автору меньше удалась, хотя тоже есть красивые места… а что, в общем, прекрасная у нас литература. Редки теперь вещи, которые требовали бы вдумчивого, серьезного и глубокого критического труда.
А может быть, это и не так. Может быть, не оттого нет Белинских, что нет Гоголя, а обратно. Критика не создает, конечно, писателей, но она часто им помогает. Будь у нас серьезные художественные судьи, которым верили бы читатели, – им верили бы и писатели; а никогда, кажется, не нуждалась так сильно литература в помощи трезвой мысли, в направлении (понимаю это слово очень широко), как сейчас.
Но критиков нет, кто играет их роль (не буду называть имена), конечно, не критики, хотя бы уже потому, что не имеют ни малейшего понятия об искусстве, да и не любят его. Большинство – «критики поневоле»: надо же кому-нибудь! Это еще самые лучшие, у них добрые намерения; что ж поделаешь, когда им приходится касаться такой чуждой области!
До того дошло, что Плеханову пришлось выступить как литературному критику. Я говорю о его заметке по поводу романа Ропшина «То, чего не было» («Современный Мир», февраль).
Правда, Плеханов придал своей заметке форму письма, он по-европейски вежливо сводит какие-то счеты с г. Кранихфельдом, и только в конце пустился в открытое море искусства на утлом суденышке своего художественного вкуса; однако, все же пустился.
Не буду отмечать пока этих его ошибок. Их слишком много и слишком они простительны, – ведь почтенный писатель и сам знает, что не за свое дело взялся. А тут еще роман Ропшина, – редкая вещь, требующая серьезной, строгой и любовной, именно художественной критики… Но, войдя в чуждый мир, в чужую область, – литературы, – Плеханов сделал сразу большую практическую ошибку. Он начал… защищать Ропшина против обвинений в плагиате! Да еще в плагиате у Толстого! Что-нибудь одно: или роман Ропшина и сам Ропшин вне литературы, и тогда его не стоит защищать, – все равно не защитишь; или же это литература, и в этом последнем случае «защита» Плехановым настоящего, серьезного писателя против того, что могут выдумать голодные провинциальные репортеры или слишком известная газетная стая, – такая защита унизительна для Ропшина, для литературы и для защитника. Я не знаю, что писал г. Кранихфельд, к которому так добросовестно и так бессильно обращена речь Плеханова; но если г. Кранихфельд дошел до того, что соединил свой голос с мелкопрессистами, а свой журнал с «Новым Временем», то это и дело г. Кранихфельда. Зачем лезть за ним туда, куда он упал. Для г. Кранихфельда, впрочем, законы литературы не писаны; а Плеханов их просто не знал, преступил по неведению, и это жаль. Так всегда бывает, когда мы идем туда, где быть нам непривычно и несвойственно. Литературные законы, литературная внутренняя этика, что ли, – они очень определенны, очень уважительны, они выработались органически, но, конечно, им научить внешнего человека нельзя: для этого надо быть в литературе.
Повторяю, мне жаль Плеханова за этот промах, жаль и Ропшина, серьезного автора серьезного произведения, которое могло быть унижено не обвинениями в плагиате, а только защитами от подобных обвинений.
P. S. Не могу не сказать двух слов по поводу статьи г. Иванова-Разумника в февральской книжке «Заветов», в отделе «Литература и общественность», под названием «Клопиные шкурки».
Я не собираюсь полемизировать с г. Ивановым-Разумником. Тому очень много причин. Во-первых, тон статьи таков, что как-то совестно вступать в спор с ее автором; на тон уже указывает заглавие, к тону я еще вернусь. Во-вторых, спорить можно с мнениями, суждениями, г. же Иванов-Разумник не высказывает своих мнений: статью скорее можно бы охарактеризовать как «распространение заведомо ложных слухов». И я, не касаясь тех мест, где г. Иванов-Разумник приближается к «мнениям», со свойственным ему пафосом, общими словами (и словами Пришвина, которым точно ушиблен) призывает «любить людей», «любить живую жизнь» и т. п., – прямо перейду к восстановлению некоторых фактических истин. Г. Иванов-Разумник их знает (иначе какая была бы заведомая ложность!), по другие могут быть введены в заблуждение.
Г. Иванов-Разумник пишет о религиозно-философских собраниях, петербургском и московском. Относительно второго он ограничивается малоострыми ругательствами (опять при помощи Пришвина), и от них, конечно, я не буду защищать таких достойных уважения, серьезных людей, как Булгаков, Бердяев и другие участники московского общества. Ни их, ни представителей общества петербургского, одинаково, хотя направления этих обществ различны и взгляды разны.
Относительно петербургского религиозно-философского общества г. Иванов-Разумник, упрекая его за постоянные «слова» (а бывают ли общества, где нет слов? Что же делать обществу, если молчать?), говорит: «сам председатель назвал его религиозным блудом, религиозным развратом». Г. Иванов-Разумник знает, что этого не было. И не могло быть, потому что г. Карташев, председатель, естественно ушел бы тогда от председательства; назвать свое дело «блудом» и затем продолжать его мог бы только человек больной, невменяемый.
Далее, г. Иванов-Разумник говорит, что «роль первого тенора в религиозно-философском обществе играет писатель Кондурушкин». И опять знает, что это не так, знает, что Кондурушкин, как все, прочел один доклад в обществе, и только. Многое знает г. Иванов-Разумник, говоря обратное. Говорит, между прочим, что журнал «Новый Путь» «возвещал истину – скорое светопреставление». Знает, что никогда никто ничего подобного не возвещал, а говорит. И то г. Иванов-Разумник отлично знает, что у него есть свой журнал, где он может, во-первых, безответственно говорить о любом деле, как ему понравится, а во-вторых, говорить свои «слова», проповедовать свою невинную и всем до корня известную «имманентную» веру в человека безнаказанно и безбоязненно. У общества, которое будто бы «занимается открытым религиозным блудом» (г. Разумник знает), готовых страниц для опровержения «ложных слухов» нет, а если бы и были, то все же с открытостью пропечатать «свою веру» им не удалось бы. Тут, конечно, козыри на руках у «критика» «Заветов».
Довольно, однако. Я хотел еще упомянуть о тоне г. Иванова-Разумника, но, пожалуй, и не стоит. Скажу лишь, что тон живо напомнил мне многочисленных критиков из «Миссионерского Обозрения», «Паломника» и т. д., изощрявшихся по поводу первого, старого, религиозно-философского общества. Точь-в-точь, как г. Иванов-Разумник, писали (да и пишут, конечно) гг. Скворцовы, Айвазовы и пр. Ах вы, клопы кусачие, блудники, моховое болото, люди староколенные, развратники, вороны сохлые и моклые… Право, я не прибавляю, это подлинные слова «Заветов» и «Колоколов».
Как стыдно за «слово»… и как жаль. Скворцовский «Колокол» тоже употребляет эти слова во имя «любви к людям», тоже, как разумпиковские «Заветы». Стираются черты… Кранихфельд соединился с Буриакиным, Иванов-Разумник с Айвазовым.
Разве не жаль?
Судьба Аполлона Григорьева*
По поводу статьи А. А. Блока, приложенной к «Стихотворениям Аполлона Григорьева»
О статье Блока «Судьба Аполлона Григорьева» было несколько отзывов, в той же мере неинтересных, в какой интересна сама статья.
Говорили, что у Блока нет А. Григорьева, что образ взят неверно. Говорили, что Блок не считался с такими-то источниками, вот это или то упустил. Наконец, упрекали за полемический тон статьи. Упрекали, впрочем, вяло. Обычное невнимание, равнодушно-снисходительное отношение к «прозе поэта», – с ней не считаются…
Между тем и статья, и полемический тон автора, и даже вот это общее добродушное невнимание в высшей степени любопытны и показательны для современности.
Насколько верен у Блока портрет А. Григорьева и верна исторически «судьба» его – я не берусь судить. «Истории» вообще мало в статье, центр ее и смысл, во всяком случае, не исторический, т. е. никакой объективности в ней нет. А. Григорьев под пером Блока вырастает в символический образ; судьба его – судьба русского человека, душа которого «связана с глубинами», с «прозябаньем дольней лозы», более сложная, чем души властителей жизни, стоящих только на «славных постах», под знаком «правости и левости». Судьба такого сложного человека – гибель, ибо властители жизни не прощают «касания к мирам иным».
Даже о Грибоедове и Пушкине Блок говорит: «…они погибли. Их наследие было опечатано…» – «шумным поколением сороковых годов во главе с Белинским, „белым генералом“ русской интеллигенции». «Белинский, служака исправный, торопливо клеймил своим штемпелем все, что являлось на свет Божий. Весьма торопливо был припечатан и Аполлон Григорьев…»
Несколько раз оговаривается Блок:
«Теперь, когда твердыни косности и партийности начинают шататься…» теперь, когда «русское возрождение успело расшатать некоторые догматы интеллигентской религии…» Но эти оговорки неубедительны. Не в исторической проекции видит Блок Григорьева: чувствует его как будто здесь, сегодня, в животрепещущей современности. Как будто еще сегодня «глумятся» над Григорьевым «властные», судя его с точки зрения «левости – правости», и травят за то, что он «не вмещается в интеллигентский лубок». Опять «страдает» страдалец, и опять «не от правительства»; терпит – но не за «идеи» (в кавычках); умирает, но не «оттого, что был честен» (в кавычках). До сих пор! – говорит нам Блок и подчеркивает следующими словами: Григорьев «обладал даром художественного творчества и понимания; и решительно никогда не склонялся к тому, что „сапоги выше Шекспира“, как это принять делать в русской критике от Белинского и Чернышевского до Михайловского и Мережковского».
Если так, если даже о сю пору бьет грубый Белинский нежного Григорьева сапогами по голове за неотказ от Шекспира, если и тогда бил именно за Шекспира, из ненависти к Шекспиру и ради верности «сапогам», если это так – прав Блок в живом своем негодовании; прав, утверждая, что «судьба Григорьева – соблазнительна…»
Разберемся, однако, в этой «судьбе», не поддаваясь никаким «соблазнам»; исследуем «фатальную гибель» сложного и глубокого человека – тогдашнего (т. е. именно А. Григорьева) – от людей несложных и неглубоких (т. е. «либералов»). Блок уверяет, что это гибель именно фатальная, что все «тогдашнее» – как бы и «теперешнее»; что и сегодня мы видим А. Григорьевых, от «либералов» погибающих. Не увлекается ли Блок? Ясно ли видит, глядя на прошлое? Ясно ли видит, глядя на современность?
Подлинный, исторический Ап. Григорьев был смутен, слаб, недоделан ни в чем – ни в таланте, ни в характере. Он весь состоял из «педохваток»: сложен, проникновенен, религиозен, с душевной чистотой, многоспособен, и… решительно во всем «недохватка». Судьба к нему была несправедлива. Но… по тому закону, который выше справедливости (между прочим, это и закон истории), – «у имеющего недостаточно отнимется и то, что имеет». На встречном пороге исторической реки он завертелся щепкой; завертелся и пропал – насколько пропал.
Отношения либералов к Ал. Григорьеву во всей полноте – я не знаю. На Блока в данном случае опираться опасно. Думаю, до объективно-точных фактов все равно не доберешься. Достаточно и того, что мы знаем: «травля» (как называет Блок отношение «либералов» к А. Григорьеву) – была. Эти «узкие» люди предъявляли к «широкому» А. Григорьеву требования, на которые он не мог или не желал ответить; какие требования? Из статьи Блока ясно: требовали, по праву сильных (ведь они были «властители дум»), чтобы Григорьев отрекся от ненавистной широты ради их «узости». Не смел думать о «Шекспире», если есть «сапоги». Словом, обязывали его принять свой «либеральный лубок».
Вот первая, главная ошибка Блока, его историческая – да и не только историческая – слепота. Если не факты – смысл фактов от него ускользает безнадежно.
«Либералы» требовали от А. Григорьева гораздо большего и гораздо более глубокого, нежели всевозможные либерализ-мы: требовали человечества. И не подчинения, а равенства.
Дело вот в чем: быть «человеком» – значит уметь сделать выбор, быть на него способным, то есть способным и на жертву, так как без жертвы нет выбора. И в этом выборе, в этой жертве, надо уметь за себя отвечать.
Каждая историческая эпоха требует своего выбора, у каждой есть свое «направо», свое «палево», как бы эти правости и левости ни усложнялись и ни видоизменялись. Но закон выбора и античной жертвенности для «человека» постоянен и неумолим; уклоняющийся (все равно почему) выпадает, как человек, из истории и, если он не гениален, не остается особняком на своей вершине, которую далеко отовсюду видно, – сам делается жертвой. Вертится, как щепка, и, глядь, пропал в водовороте. Судьба Григорьева и многих, многих Григорьевых – вот эта «пассивная жертвенность». Его «не хватило» на выбор, на жертвы активные.
Только глядя назад, в историю, мы можем с известной отчетливостью определять, в чем именно был очередной человеческий выбор того или другого времени. Современники, делающие выбор, делают его часто бессознательно; интуитивно-волевой, – он все же остается именно выбором.
Белинский, Чернышевский, Писарев, все эти «либералы» так называемые, свой человеческий выбор сделали. Тут же прибавляю (еще не судя выбора как выбора), что его сделали, в равной степени, и Погодин, и Катков, и Леонтьев… только не сделали Аполлоны Григорьевы. В конце концов даже Фет, в меру своего «человечества», сделал весьма определенный выбор. И никакой «травли» на него не было, не вышло. Вообще между людьми разного выбора, но равно-людьми возможна только борьба, а «травля» даже не мыслится. И есть победители, есть побежденные, – но «затравленных» нет. Человека, если он не потерял человечества, ни «травить», ни «затравить» нельзя.
Время Белинского («либералов») и Ап. Григорьева было, по-своему, очень сложное время: и глухое – и острое; и бурно-молодое – и беспомощное. Уже напитаны были щедро чувства и мистикой, и поэзией. Уже сиял Пушкин, в котором, как в солнечном свете, живем и мы, – до сих пор. Но… ум и сердце человеческие (не чувства – сердце) едва начали просыпаться к жизни. Возвращаться к жизни, приходить в себя после недавнего оглушения. Кровавый образ 25-го года еще был у всех в памяти.
Но, конечно, совсем по-иному, в иных формах и в иных слоях общества начало возрождаться вечночеловеческое. Вернулась (неужели не могла не вернуться?) идея свободы. Самая беззащитная – она требовала самых ярых защитников; самая гонимая – требовала от защитников напряженной силы и великих жертв. Ей, этой идее, по времени долженствовало расти; за нее и повелась, в сущности, главная борьба. На ней, около нее сосредоточился историко-человеческий выбор.
Можно ли назвать «узкой», при каких бы то ни было обстоятельствах, идею свободы? Она но существу широка и сложна; очень сложно отражалась она и в те годы, о которых мы говорим. Широка по существу… но ее защитники, ее воплотители исторические, – свободники («либералы») очень могли казаться «узкими»; да и были они узкими, поскольку одну идею выдвигали на первый план, поскольку ей они приносили в жертву (исторически необходимую) – все другие.
Вот эта волевая, активная жертвенность (окрашенная в цвет своего времени) и была у «либералов». Она-то и делала их «узкими», по сравнению с Ап. Григорьевым, – но узкими на неисторичный, неподвижный взгляд хотя бы того же Блока.
Легка ли была жертва (пусть вполне бессознательная, интуитивно волевая) тогдашним «либералам»? Возьмем самых значительных, подлинных «властителей дум». Но ведь> о них-то и говорит Блок, они-то и «травили» Григорьева, гнали, пользуясь властью, которая у них была; у Григорьева, по признанию Блока, «власти не было». Но оттого ли и не было, что власть покупается волевой жертвенностью?
Белинский благоговел перед Пушкиным. Искусство, поэзия потрясали неистового Виссариона до боли, пронизывали его страстную душу насквозь. Он и тут не мог чувствовать вполовину, с «недохваткой». Чтобы взглянуть Белинскому в лицо, надо не журнальные статьи его читать (историчные, узко-сдавленные с двух сторон: правительственной цензурой и волевым самоограничением, выбором). Нет, надо прочесть – и в душу по-человечески принять – три тома его писем. Раннюю его переписку с Михаилом Бакуниным в особенности. Вникнуть в их огненные и кровавые споры. Не с кондачка отрывал Белинский свой дух «от высот и счастья созерцанья», от того что на их языке тогда звалось «прекраснодушием»; от соблазнов, не шуточных в то время, – русифицированного гегелианства. Не с легкой беспечностью он, перевертывая понятия, «приял» жизнь, «действительность», говорил он еще но-гегели-апски, но звучало у него это слово по-своему, по-новому; и не диво, что тогдашний Мишель Бакунин просто перестал понимать своего друга. В Белинском как-никак был евангельский купец, продавший и заложивший все Свое имение для покупки одной жемчужины. Вряд ли купец без жалости расставался с имением. Плакал, может быть, а все-таки заложил, отдал, сам захотел, – выбрал. По своему человеческому разумению по своей человеческой любви.
Да, Белинский попутно стоял и на стороне знаменитых писаревских «сапог» против «Шекспира». Только попутно, между прочим; но не мог не стоять, – этого последовательно требовал главный выбор. Вольная жертва отзывается на всех звеньях жизни. Или предположить, что Белинский, этот «грубый и узкий тушинец» («тушинцами» называл Ап. Григорьев «либералов») «выше сапогов», действительно, ничего не видел, ничего не понимал, не любил? Думаю, на такую близорукость уже не способен и враг Белинского – враг, а не случайный невнимательный мимоходец с малыми знаниями.
Или Писарев, автор этих самых «сапогов», мальчишески резкий, «залетающий», – весь в сапогах умещался, во все минуты своей краткой жизни? Или Добролюбов? Или Чернышевский? Нет, пет, никто. У Чернышевского было свое, другое, чем у Белинского, «касанье к мирам иным», и своя жертва: наука. «Я ученый, ученый», – твердит он на сто ладов в потрясающих «Письмах из Сибири» к жене. Эти два тома многолетних обращений к «дорогой Ляличке» тоже следует прочесть, если мы хотим посмотреть каждому «ту-шинцу» в глаза. Не от вилюйского же гроба «тушинец» мгновенно превратился в подвижника. А «Письма из Сибири» воистину мог написать только человек безмерной силы, только подвижник.
Милый друг, я умираю.
Потому что был я честен…
Вот слова, до такой степени простые и точные в устах «либералов», что, едва мы от простоты толкования отступим, – мы их исказим, исфальшивим, и сами запутаемся.
Всякое время, решительно всякое, своих –
Жертв искупительных просит.
«Честность» – и есть честный выбор, то есть ответственный, то есть со всеми – из него вытекающими – жертвами. Вплоть до жертвы жизнью, если надо.
Умираю, потому что был я честен…
Спешу повторить: дело в – факте выбора, а не в том сейчас, каков выбор, «правый» или «левый». Да, есть для каждого времени свой верный выбор и свой ложный. Но, выбрав и ложный, и за него умирая (если б пришлось), с одинаковым правом скажется:
Умираю, потому что был я честен…
Блок не ошибся насчет А. Григорьева: он, действительно, «умер не потому, что был честен». Даже умер как раз потому, что был не «честен». Он погиб, как растерянная приблудная собака, попавшая между двумя армиями во время сражения. Которая из этих армий повинна в его гибели? Обе (мы знаем, что и противники «либералов» совершенно так же «травили» его), обе, а вернее – ни одна. В гибели Ап. Григорьева повинен он сам, его судьба. Не мог стать человеком. У него было лишь «заглядыванье на человеческое» (по Блоку)… впрочем, и «на небо взглянуть не хватало догадки».