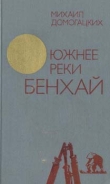Текст книги "Проклятие визиря. Мария Кантемир"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц)
«Очень хорошо, – злорадно думал он, – пусть и те поломают голову, зачем это пришлось так случайно встретиться больному старику с самым главным евнухом матери султана...»
Главное было сделано – теперь оставалось надеяться лишь на сообразительность и ум матери султана. За то, что эта женщина имела политический ум, говорило хотя бы уже то, что она убедила нового султана, Ахмета, не убивать своих братьев, и это было первым случаем, когда, вступая на престол, султан не воспользовался своим правом удавить всех своих братьев, чтобы прекратить всяческие попытки заговоров и смут в государстве. Любой новый султан первым делом повелевал сделать это. Оба сына этой матери не стали поступать по традиционной формуле. Потому и Ахмет лишил своего брата Мустафу трона только по требованию янычар...
Но поймёт ли она, насколько серьёзно положение, насколько Далтабан готов к заговору, насколько огромная армия, посланная к крымчакам, может быть подготовлена к свержению султана?
Толстому оставалось только ждать. И он нетерпеливо ждал, каковы будут последствия встречи с таким, казалось бы, незначительным лицом султанского двора, как главный евнух, управитель султанского гарема и самый приближённый к матери султана человек.
Несколько дней ещё он провёл в постели, пользуясь случаем свалить свою бездеятельность на хворь, одолевшую его. Мази и травы Селима-оглы и в самом деле немного подлечили Толстого. Он встал с постели лишь тогда, когда получил первые известия о последствиях встречи.
Под вечер, когда только-только занялось красное закатное зарево на небе, на посольский двор прибыл Дмитрий Кантемир. Он испросил позволения у великого визиря навестить больного русского посла, с которым уже давно имел хорошие отношения.
Едва Кантемир вошёл, как Толстой поднялся со своей постели, всё ещё в бархатном архалуке[13]13
Архалук – род короткого кафтана.
[Закрыть] и мягких башмаках на босу ногу.
– Лежите, лежите, Пётр Андреевич, – бросился успокаивать его Кантемир, – я очень опечален, что пришлось вас побеспокоить. Все эти дни, что вы лежали, я думал о вас, но не мог раньше заехать справиться о вашем здоровье.
Они расположились в мягких креслах, привезённых Толстым ещё из России.
– Спасибо, разодолжили старика, – растрогался Пётр Андреевич, – а как там моя крестница? Хороша ли, всё ещё задаёт каверзные вопросы, на которые и старики иногда не в силах ответить?
– Дочка, слава Богу, здорова, а жена разрешилась вторым сыном, тоже, слава Господу, всё в порядке.
Они уселись по краям письменного стола Толстого, и неизменный Андрей принёс угощение по-русски – рюмку водки для самого Толстого, копчёных угрей и отбивную говядину для гостя, а также неизменные кофе и кальян.
– И как это вас пустили ко мне зоркие мои стражи? – удивлённо спросил Толстой, когда первые слова приветствий были закончены.
– Ах да, вы же болели и ничего не знаете, – спохватился Кантемир. – Сегодня на большой диван был призван великий визирь Далтабан-паша. И султан изволил самолично обратиться к нему с вопросом: для чего была снаряжена такая огромная рать в Крым? Далтабан сказал, что крымчаки вели себя вольно, что не слушают распоряжений и наказов султана, потому он и снарядил триста тысяч солдат для их усмирения. Услышав такую цифру, весь диван переполошился. Как, едва ли не всю армию отправить в Крым? Посыпались вопросы, доводы. Султан долго хмурился, но ничего не сказал, а при выходе из дивана янычары схватили Далтабана и отвели в Семибашенный замок. Только несколько позже султан приказал: «Удавить в ночи...»
– И конечно, приказ султана уже исполнен? – с живостью спросил Толстой.
– Даже и новый великий визирь назначен – Асан-паша...
Толстой взглянул на образ Богородицы, висевший в его кабинете, быстро перекрестился и произнёс вполголоса:
– Слава тебе, Господи!
– Так что теперь вам выйдет послабление, – улыбнулся Кантемир.
Толстой зорко взглянул на молодого дипломата. Невысокого роста, но очень стройный и подвижный, с большими чёрными глазами и носом горбинкой, он был очень похож на природного турка, но яркая свежесть румяных щёк и чистая выбритость подбородка выдавали его нетурецкое происхождение.
– Почему так думаете? – спросил Толстой.
– Даже ваши свирепые янычары сами отперли мне ворота, – спокойно ответил Кантемир.
– Уже знают, уже все знают, лишь я один сижу здесь взаперти и ничего не знаю. Больной старикашка, никому не нужный, – вот кто таков я, – запел Толстой свою извечную песню.
– Это вы-то? – расхохотался Кантемир.
Он уже давно понял характер, нрав Толстого и не принимал всерьёз его шуток и жалоб.
– И что же было ещё сегодня в диване? – словно бы ненароком спросил Толстой.
– О, сегодня я удостоился высочайшей похвалы, – хитро усмехнулся Кантемир. – Сегодня в диване мне приказали спеть ту песню, что я написал на турецком языке и сочинил для неё турецкую же музыку...
– Да ведь вы же и нотные знаки изобрели для турок, – подсказал Толстой.
– Что же делать, если у них пока что не было средства для записи музыки на бумаге? – ответил Кантемир.
– Так что же ваша песня? Успешна ли была? Или только услышана, но не оценена по достоинству? Большинство мирских владык предпочитают лишь то, что им нравится, неважно, хорошо это или плохо, они слышат только себя...
Кантемир помолчал.
– Во всяком случае, султан наградил меня перстнем с большой бирюзой, – сообщил он.
– А камня подороже у него не нашлось? – ехидно спросил Пётр Андреевич.
Кантемир оглянулся по сторонам, словно бы призывая забывшегося хозяина к молчаливости, когда речь идёт о сильных мира сего.
– Ладно, болтливый старик разболтался и несёт всякую чушь, – ответил Толстой на эту предосторожность. – Но в моём доме если и есть уши, то они не знают итальянского...
Они, как всегда, разговаривали на итальянском.
– И что же? – поторопил Кантемира с рассказом Толстой.
– Я взял тамбур, ударил по струнам и спел свою песню. И назвал её «Турецкий марш».
Толстой заволновался.
– Непременно, непременно спойте её мне, я хочу тоже услышать, уважьте больного старика...
– Опять вы за свои жалобы, – улыбнулся Кантемир. – Так и быть, спою. Но у вас же нет тамбура?
– А янычары мои на что? – спохватился Толстой.
Он постучал по столу, и тут же из-за дверной портьеры показался лакей.
– Живо одолжи у наших стражей тамбур и принеси сюда, – велел Толстой. – А вы рассказывайте дальше, как было дело.
– Да нечего и рассказывать, – пожал плечами Кантемир, – просто султан объявил мою песню государственной песней, военным походным маршем, и приказал всем солдатам разучить её. Завтра я поеду в полки янычар распространять мою песню...
– Значит, нечто вроде гимна, – изумлённо пробормотал Толстой.
– Как будто так, – вновь улыбнулся Кантемир.
Толстой взволнованно глядел на своего молодого друга.
– Мало того, что книжки пишешь, – бормотал он, – так ещё и государственные гимны сочиняешь... Постой, как это называется? Хоть и читал я его, да латынь с трудом разбираю...
– Да будет расхваливать меня, – удержал его Кантемир. – Лучше послушайте.
Андрей уже принёс тамбур – род небольшого бубна, обтянутый кожей с обеих концов.
Пробуя звук, Кантемир ударил по прозрачной, тонкой коже тамбура. Протяжный чистый звук разнёсся по комнате.
Кантемир выбил на коже целую дробь тягучих звуков. И почудилось Толстому, что бесчисленная турецкая рать идёт на Русь. Он хорошо помнил эти звуки, рождающиеся в войсках турок, когда они сидели в осаде в Азове и пели свои заунывные тягостные песни...
Но пронёсшаяся дробь сменилась чистым ясным голосом Кантемира, и под эту барабанную дробь, под воинственные и чёткие звуки он запел воинственную и красивую песню, мужественную и бодрую. Неслись и неслись звуки, и Толстому уже казалось, что всё поле перед русскими палатками заполнено бесчисленными палатками турок, их боевым кличем и дикими бессмысленными звуками.
Да, песня действительно была хороша, рождала в душе гордость и мужество, и даже слова песни, лишь изредка перемежавшие барабанную дробь тамбура, были под стать схватке воинов, их неудержимой отваге, боевому мастерству и стремлению победить.
Когда Кантемир закончил петь и в комнате пронёсся последний протяжный звук теперь уже государственного турецкого гимна, Толстой подумал, почему до сих пор нет в русских войсках такого же гимна, зовущего к отваге и победе.
– Сильная песня, – только и сказал он. – И как ты, молдаванин по рождению, сумел так уловить турецкий дух, эту страсть к схваткам и битвам, как смог передать всё это в такой коротенькой песне?
– Да, по рождению я молдаванин, – грустно улыбнулся Кантемир, – но с одиннадцати лет я изучаю эту страну, люблю её, как свою собственную, уважаю её народ, как свой собственный, хотя и страдаю за мою нищую покорённую отчизну... – Он горестно поник головой. – Я только что вернулся из поездки в Яссы. Мой старший брат Антиох стал господарем Молдавии, я же его полномочным представителем в Стамбуле. Но Боже ты мой, как же унижена и растоптана моя страна, какой нищетой и ужасом покорения веет от неё! И не радуют её прекрасные зелёные мягкие холмы, когда видишь на дорогах сотни детей, оставшихся без родителей, угнанных в рабство, когда на этих зелёных холмах лишь разорение и позор...
Он замолчал. Да, Толстой тоже видел нищету и разорённость Молдавии, когда проехал по ней, видел, как уныло и устало её прекрасное лицо...
– Наверное, мой брат недолго будет господарем, – печально продолжил Кантемир. – Чтобы собрать бир, налог на господарский трон, заплатить выкуп, надобно быть совсем уж зверем, обирать и без того разорённых крестьян. А мой брат не таков, сердце у него доброе и милостивое...
Толстой сочувственно молчал, понимая, что Кантемиру не с кем больше говорить на такие темы.
– Последний господарь, Михай Раковицэ, ввёл даже налог на коров, и тогда вовсе уж застонали молдавские крестьяне – начали резать своих кормилиц, потому что больше платить нечем. Порезанную скотину не вернёшь, и хоть брат тотчас отменил этот налог, да сколько ещё лет надо, чтобы выросла новая и хоть какая кормилица была у крестьянской семьи...
Он снова поник головой, вспоминая своё недавнее путешествие в Яссы, толпы нищих на церковных папертях, почернелые, словно неживые, лица работников земли, не могущих прокормить самих себя, банды озверелых гайдуков, бегущих в леса, чтобы скрыться от этих невыносимых условий жизни и так же грабить, как грабили все те, кто стоит выше...
Кантемир больше ничего не сказал. Что толку жаловаться, стенать, если ничем не можешь помочь своей родине?
Он только знал, что, если когда-нибудь доведётся ему стать у кормила власти в родной своей Молдавии, он придумает какой-то выход из этого ига, из положения, крайней бедности и нужды, которым тяготилась вся его страна.
Когда Кантемир ушёл, Толстой ещё долго был во власти тех мыслей, что одолевали и молодого дипломата, и Константина Дуки, у которого Пётр Андреевич был в гостях в Яссах и который познакомил его с плачевной участью своей страны, стонущей под игом Турецкой империи, просил его поговорить с русским царём, чтобы тот принял в своё подданство Молдавию, чтобы избавил православных христиан от злой участи быть порабощёнными османами.
Но что он, Толстой, мог ему тогда ответить? Он, который ехал в Турцию с самой миролюбивой миссией и чьей главной задачей тогда было не допустить войны с Турцией?
Едва он подумал об этом, как мысли его сразу перескочили на день сегодняшний. Значит, подействовало его сообщение, мать султана всё сразу поняла, втолковала своему молодому сыну, что зреет заговор, что Далтабан стоит во главе его, что армия для похода на Крым нужна лишь для соединения с крымчаками и, вернувшись, свергнет его с трона.
Толстой едва не запрыгал от радости. Затея его удалась, его интрига привела к тому, что источник опасности для России устранён. Теперь уже нет великого визиря, который готовился к войне с русскими, поминутно поминал позор Азова и готовность отобрать его у России. Нет Далтабана – нет и войны.
Пётр Андреевич быстро придвинул к себе свиток бумаги. Нужно сообщить в Москву, что необходимость в больших расходах миновала, не надо собирать мягкую рухлядь и снова и снова подносить её жадным турецким чинушам.
Он писал и писал, и к утру эстафета была готова, и тайный гонец помчался через все границы, чтобы вручить депешу самому царю.
И хоть вновь жаловался он на утеснения и тяготы, но сердце его пело. На сегодня он выполнил свою задачу – отвратил такую кровавую войну с турками, какой она была всегда.
А наутро Пётр Андреевич получил фрукты, провизию, цветы, табак и роскошный чубук для кальяна от нового великого визиря – Асан-паши.
Узнал о нездоровье Толстого новый визирь и любезно послал ему подарки и цветистые пожелания доброго здоровья.
А ещё через неделю пожаловали русскому послу и новое подворье – просторный двор с тенистым садом и прекрасными фонтанами, разбросанными по нему. И хоть вышло послабление русскому послу, да он всё не доверял туркам и снова и снова налаживал связи, изучал всю информацию, которую доставляли ему его многочисленные друзья, сопоставлял, думал...
И вдруг как радостную весть с неба объявили ему о Полтавской битве.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Ах, как же повезло Петру, когда у Карла XII разыгралось самолюбие, когда этот неустрашимый шведский король, непобедимый и быстрый, увяз на долгие девять лет в польских делах! Показалось Карлу, что он может безнаказанно свергать и сажать на трон королей, кроить границы и всю карту Европы так, как он хочет. Да, он двинулся в Саксонию, чтобы вынудить единственного союзника Петра, Августа Саксонского и польского короля, сдаться на милость победителя. Всё перед ним трепетало, всё бежало перед славой неустрашимого и победоносного полководца.
Войска Августа и даже русские полки, данные ему Петром, сдавались Карлу. Нигде не дал ему битвы Август и в тайниках души давно лелеял мысль бросить на произвол судьбы Петра и его войско, пожертвовать даже польским престолом, лишь бы сохранить саксонскую корону.
Ничего не говорил и ничего не писал он Петру, а тайно, без всяких свидетелей, встретился с Карлом в загородном замке Альтранштедте, расположенном поблизости от Лейпцига, и здесь предал Петра, предал Россию.
Договор со шведским королём гласил, что Август отказывается от польской короны, выдаёт всех дезертиров, а русские войска отдаёт Карлу.
Но как будто сама судьба хранила ни в чём не повинных русских солдат: разлились реки, шведы вынуждены были остановиться, застигнутые врасплох стихией, и русское войско почти без всяких потерь отошло к Киеву.
Пётр остался один: сколько ни хлопотал он о коалиции против шведского короля, все его усилия оказались безрезультатными – Австрия, Франция, мелкие германские княжества лишь со злорадством следили за единоборством Петра и Карла.
Не было у России союзников, никому не нужны были её интересы, никому не нужна была в Европе сильная Россия, потому и сказал однажды с горечью русский царь, что у России только два союзника – армия и флот.
Пётр прекрасно понимал, что дело идёт к тяжёлому концу: шведская армия хорошо вооружена, дисциплинированна, обучена всем новейшим приёмам любого боя, привыкла к победам и потому казалась неустрашимой.
Но девять лет самолюбования Карла, утряски польских дел не прошли ему даром. Он потерял время, он сам заставил Петра готовиться к дальнейшей войне, реорганизовывать всю свою армию, подгонять медлительных полководцев-вельмож, готовить новое вооружение, переливать церковные колокола в большие пушки. Эти девять лет были для русской армии благодетельными и поистине плодотворными...
Пётр часто размышлял: кабы повернул Карл сразу на Москву, не стал копаться с передачей корон в Польше, неизвестно, как обернулось бы дело.
Русский царь никогда не терялся перед первой неудачей, она словно подстёгивала его, подхлёстывала, вынуждала снова и снова учить и переучивать своих военачальников, лупить их палкой за медлительность, чисто русскую неповоротливость, нерасчётливость...
А сколько надежд возлагал он на Августа! Они встречались не раз, и Пётр был очарован сладкими речами Августа, курфюрста саксонского и короля польского, его изящными уверениями в вечной дружбе.
Очень долго ничего не знал русский царь о предательстве Августа, и узнал-то вовсе случайно – попался перебежчик, который и рассказал о тайном договоре Августа со шведским королём.
Но Пётр только разочарованно вздохнул – простил Августу его тайное сотрудничество с Карлом. Ведь ему ничего не оставалось делать, кроме как сдаться на милость Карла. Понял саксонского курфюрста: не очень-то и дорога тому была польская корона, лишь бы сохранить свои владения в Саксонии да не потерять ещё и эту корону...
Пётр сам объявил войну Швеции. Едва только был заключён договор с Турцией на тридцать лет, как русский царь посчитал свои руки развязанными.
Но эта Северная война, затянувшаяся на двадцать с лишним лет, поставила Петра перед фактом: русские войска неуклюжи, неразворотливы, медленно и тяжело передвигаются, пушки малы и не очень уж боеспособны, солдаты плохо одеты и плохо кормятся.
Было к чему приложить руки, всё надо начинать с самого начала. Пётр и сам рвался в бой, шёл вместе с солдатами, сам расставлял пушки, сам командовал полком. Чересчур уж нерасторопными были пока что его военачальники...
Кололо самолюбие Петра позорное нарвское поражение, и он метался от одного фронта войны к другому, чтобы хоть как-то утихомирить горечь от поражения.
И как же ликовал он, когда удалось ему, самому, без своих начальников, одержать победу над крохотной крепостью шведов, стоявшей в истоке Невы, – Нотебургом!
Крепостца эта располагалась на самом исходе реки Невы из огромного Ладожского озера, издревле была русской и именовалась Орешком. Этот крохотный остров, зажатый со всех сторон мощными крепостными стенами, прекрасно снабжённый пушками и сильным гарнизоном шведов, прямо как кость в горле стоял у Петра.
Шведы держали остров давно, хотя земля была исконно русской, отсюда грозили они всему руслу Невы и, главное, не пускали Петра к морю.
Конечно, гарнизон был не слишком силён – Карл оставил здесь всего-навсего чуть больше четырёхсот человек, но зато расставил по высоким стенам полтораста пушек, и бомбометание было главным средством обороны для маленького шведского гарнизона.
Пётр взял с собой десять тысяч рекрутов и отправился к острову, заставив солдат перетаскивать пушки едва ли не на руках: болота, топи не позволяли лошадям тащить тяжёлые орудия. Гати, проложенные по берегу Невы до самого островка, обозначили места похода Петра.
Только и всего было, что отделяло Петра от крепости полторы версты чёрной невской воды. Не стал он терять время на подход подкреплений, высадился на лодках с тысячью своих верных преображенцев на крохотный шанец – полоску земли возле крепости.
Шведы сразу убрались в крепость, засели в ней, надеясь на то, что малое количество русских солдат позволит им продержаться до подхода шведских кораблей.
Пётр выслал парламентёра – не хотел зря проливать кровь, предложил сдаться.
Комендант ответил, что просит позволения снестись с нарвским комендантом и дать четыре дня на размышления.
Пётр пришёл в ярость. Всегда-то он спешил, а отсрочки да задержки приводили его в бешенство – такова уж была натура у русского царя: не терпел промедления, всё делал быстро, словно бы понимал, что сроку ему на земле отпущено немного, даже ходил так, что всем сопровождавшим приходилось бежать за ним. Его длинные ноги успевали сделать лишь шаг, тогда как приближённым требовалось три, а то и четыре.
Он не стал отвечать коменданту, а приказал заряжать пушки. Раздались крики команд, загремели пороховые взрывы, за стены полетели разрывные ядра. Со стен раздались ответные залпы. Но у Петра было больше пушек, меньше солдат, всего с тысячу, а уж бомб заготовлено было втрое больше, чем у защитников крепости.
Отчаянно сопротивлялись шведы, да не вынесли громовой бомбардировки.
Теперь уже комендант крепости просил позволения сдаться на милость победителя, позволить выйти из крепости со всеми знамёнами и вооружением.
Пётр милостиво разрешил. Гарнизон оставил крепостцу.
Ключ к Неве, к её устью был проложен. Шлиссельбург – так гордо назвал Пётр своё новое приобретение.
Оставалось выйти к самому морю...
Как раз в то самое время, когда в Стамбуле начал обосновываться новый посол Петра, Пётр Андреевич Толстой, царь стал потихоньку приобретать силой оружия и другие русские земли, когда-то захваченные шведами.
Устье Невы сторожила ещё одна крепость шведов – Ниеншанц. Её следовало взять, иначе к вольному морю было не пробиться: слишком уж дорожили шведы своим северным морем, считали его только своим, внутренним, морем.
И снова Петр сам пошёл в поход против этой крепости. Борис Петрович Шереметев выступил лесами к Ниеншанцу, а Пётр с несколькими своими сподвижниками да верным Александром Меншиковым двигался водой.
Крепостца тоже была небольшая, но сильно укреплённая да, кроме того, очень разрослась – до четырёхсот домов составляли её посад.
Ниеншанц запирал выход в Балтийское море. Пётр в небольшой лодке отправился осмотреть всё устье Невы, все берега.
С крепости дали по нему несколько выстрелов, да то недолёт, то перелёт. Но фонтаны взметнувшейся воды обеспокоили Петра – он повернул к берегу и тем же вечером приказал поставить пушки против крепости. Сам расставлял, намечал, куда и как должны падать ядра, и тут же начал обстрел.
Весь вечер гремели пушки, ещё и после полуночи, благо светло было как днём из-за северного лета, падали на крепость ядра.
Утром не выдержали шведы, вышли из крепости и отдались на милость Петра. Теперь уже русский царь, помня, что его чуть не потопили в реке, не позволил взять с собой пушки, вооружение, а оставил офицерам лишь их шпажонки.
Но тем дело не кончилось. На помощь к сдавшейся крепости, хоть и с опозданием, резво шли шведские корабли – два больших парусника, шнява[14]14
Шнява – двухмачтовое морское судно вроде шхуны.
[Закрыть] да огромный бот с солдатами.
Пушки на их бортах свидетельствовали о большой силе, грозно вздымались флаги и штандарты шведского короля.
У русских пушек не было.
Бесшабашный, отважный, как и сам царь, Александр Меншиков с усмешкой сказал царю:
– А мы, яко тати, подкрадёмся, да на борта, да переколем всю команду...
План Петру понравился, хоть и сильно воспротивился ему Борис Петрович Шереметев. А ну как в бою заколют русского царя – с кого спрос? С него, военачальника, что не сумел удержать царя в безопасности.
Но Пётр много не разговаривал: посадил в большие лодки два своих верных полка, сам встал во главе и Александра Меншикова поместил рядом на банке[15]15
Банка – здесь: сиденье (скамья в виде поперечной доски) для гребцов и пассажиров на мелких беспалубных судах.
[Закрыть].
Как удалось русским незаметно подгрести к шведским кораблям, одному Богу известно, только шведы не сумели сделать из пушек даже одного выстрела.
Взобрались на борта судов солдаты, Пётр – впереди всех, перекололи команды, захватили суда и поставили их в свой строй...
И как же радовался Пётр после этого боя! Даже голова его несколько поутихла, тряслась еле заметно... Но ему подали пакет с несколькими размокшими в воде письмами. Тут-то он и узнал, что его возлюбленная, Анна Монс, которой он уже прочил звание русской царицы, не только изменяла ему с саксонским посланником, но ещё и рассказывала секреты русской армии, известные ей от самого Петра.
Долго сидел он над этими размокшими письмами: саксонский посланник нечаянно утонул при осаде Шлиссельбурга, а письма почему-то не вынул из своего кармана.
Анна Монс... Как забыть эту вертлявую, развязную, но ласковую и обходительную девчонку! Пётр так рьяно танцевал с ней, так прикипел к ней душой, так резко отличал её от русских красавиц, медлительных, неповоротливых, стыдливых и вечно пугающихся...
И жена его, Евдокия Лопухина, была такой – слишком стыдливой, скромной, слишком пышной и неповоротливой в постели, хоть и любила его как будто, – и не позволила бы себе не то, что преступной связи, даже писульки любовной.
Но не пристало его сердце к жене, хоть и родила она ему сына, Алексея, а после поездки по дальним странам велел он заточить её в монастырь, несмотря на то, что она долго противилась этому...
Анна Монс... Пожалуй, первая его любовь и страсть, первая его нежность и верность этой любви. А вот поди ж ты, не судьба.
Пётр не раздумывал долго – заточить в тюрьму на три года за измену не царю, не любовнику, а России.
Он знал за собой эту торопливость и неразборчивость в любовных играх. Видел девушку или женщину, понравилась – задирал юбки, бросался со страстью, выдыхался, отваливался и шёл досыпать в свой походный шатёр.
Редко имел женщин дважды, а вот Анну любил, щадил...
Но позволить себе страдать Пётр не мог. Сразу поехал осматривать всё устье Невы, что теперь принадлежало ему, и на островке Ниен-Саари, который в горечи от неловкой кончины любовной связи с Монс назвал весёлым островом – Люст-Эйланд, заложил новый город.
Велел наскоро поставить деревянную крепостцу с шестью бастионами, заложить деревянную же церковь во имя Петра и Павла, а поблизости и домик для себя – две крохотные комнатушки с низенькими потолками, сенями и крошечной кухонькой.
Обили эти покои выбеленной холстиной, внесли простую постель, стол да пару стульев – вот и готово жильё для нового городского бытия русского царя.
Зато объездил Пётр все берега Невы, указал, где поставить гостиный двор, пристань, государев хороший дворец, разбить при нём сад, а места для домов знатных людей повелел отводить по мере надобности.
И всё ему было некогда.
Съездил осмотреть Нинбург и Копорье, занятые Шереметевым, и, едва приехал туда, услышал, что идут на них шведы, собравшие тысячу двести солдат под началом боевого старого генерала Кронинга.
И тоже не стал ждать. Двинулся навстречу с полками гвардии да конниками-драгунами и встретил у реки Сестры. Шведы не ожидали столь быстрого и сильного отпора и убрались.
И тогда мысль о северном городе, в самом устье Невы, захватила Петра целиком. На морской мели приказал выстроить крепость в тридцати вёрстах от нового города. Сам вымерял мелководье, сам ставил вешки для новой крепости, сам закладывал гавань и портовые сооружения.
Сам, всегда и всюду сам.
Даже когда Борис Петрович Шереметев сообщил ему, что приступил к осаде Дерпта, он не выдержал. Бросил всё, примчался к войску Шереметева, осмотрел все укрепления и осадные сооружения, нашёл, что всё сделано не так, как он бы это сделал, разнёс всё своё воинское начальство за медлительность, за неумение предугадать неожиданности.
Безропотно посматривал на грозного царя из-под густых нависших бровей Борис Петрович Шереметев, опасливо косился на толстую суковатую палку в его руках, но возражать не решился и только покорно выполнял то, что требовал царь.
А Пётр разместил пушки по-своему, заставив солдат тащить их чуть ли не на своём горбу, расставил так, чтобы сильнее действовала канонада, и принудил работать каждого канонира от всей души.
Странно, но едва появлялся царь на позициях, казалось, и сил и мужества добавлялось у солдат. Прямо на глазах у Петра разбили они палисад, окружавший город, захватив заодно и несколько пушек. Пётр обратил их к городу, и шведские пушки разбили ворота шведского города.
Тринадцать часов длился этот упорный тяжёлый бой. Но ворвались русские в город, пробились к самому центру, и взъерошенный бледный комендант велел трубить к сдаче.
Радостный и разрумянившийся Пётр без шляпы и шпаги носился на коне по взятому Дерпту, велел милостиво отпустить весь гарнизон, так упорно сопротивлявшийся, однако теперь уже без знамён и пушек.
И только к самому вечеру вспомнил, что не ел с самого утра. Повернулся к своим двенадцати денщикам, неизменно сопровождавшим его во всех передвижениях, и коротко приказал:
– Ячменную...
Его поняли с полуслова. Никто и не заикнулся, что Борис Петрович Шереметев уже приготовил обильный и сладостный стол, ждал, что царь сядет за соусы и жареные индейки.
А Пётр присел на обрубок бревна где-то во дворе комендантского дома и поставил на колени котелок с ячменной кашей. Это была его любимая еда, и все соусы в мире мог бы он променять на эту кашу.
Но едва ковырнул своей походной ложкой в котелке и поднёс её ко рту, как тут же выплюнул. Каша пахла горелым, была пересолена, а ячменные зёрна слились в однообразную тюрю.
Голова Петра затряслась ещё больше, лицо исказила невероятно безобразная гримаса.
– Повесить, – еле выговорил он, преодолевая болезненную судорогу. – Повесить! – выкрикнул он сквозь наваливающуюся черноту и упал с обрубка бревна.
Денщики подскочили, растянули тело Петра, бьющееся в припадке, укрыли древним толстым тулупом и держали так, пока оно не перестало биться.
Знали, что, едва отойдёт, будет спать, потому и подложили под голову плоскую кожаную подушку, чуть набитую соломой, ещё накинули сверху большую толстую холстину и уселись по сторонам царя сторожить его тяжкий сон...
Часа через два Пётр еле заметно пошевелился. Возле него тут же, во дворе комендантского дома, уже сидел Борис Петрович Шереметев и зорко наблюдал за всеми движениями спящего царя.
Пётр резко распахнул большие, навыкате глаза, и первое, что он увидел, был морщинистый, слегка заросший седой щетиной подбородок Шереметева.
Он сел на земле, глянул на своего генерала, потом обвёл взглядом денщиков.
– Кашки ячменной не желаете, государь-батюшка? – упал в ноги царю Шереметев.
Пётр резко вскочил, поднял Шереметева за плечи, слегка кивнул головой и пошёл за ним, обгоняя его на ходу.
В столовой зале уже был накрыт стол, и на главном месте у большого стула, напоминающего трон, курилась свежим парком разваристая, благоухающая ячменная каша.
Пётр набросился на неё. Он словно и забыл, с чего начался его припадок, не помнил, что кричал перед этим.
– Вот такой кашкой кормить солдат, – приказал он Шереметеву.
Тот только согласно кивал головой.
– Кто ж такую сделал? – задал свой первый вопрос Пётр, едва покончил с огромной миской каши.
– А тут у нас новая повариха объявилась, – скромно ответил Борис Петрович. – Уж такая искусница...
– Позвать, награжу, – повелел Пётр.
– А у пирожника, у Александра Меншикова, уже обретается, – злорадно проговорил Шереметев. – Выпросил её у меня... Шведка вроде, а уж кашу варить способна. Выпросил, меня же ещё и укорил: дескать, для чего тебе такая молоденькая да искусница. Забрал, теперь у него...
Пётр внимательно поглядел на Шереметева: знал, что не очень-то ладят между собой его сподвижники, то и дело шпильки пускают.