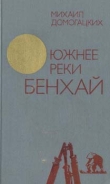Текст книги "Проклятие визиря. Мария Кантемир"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 31 страниц)
Он сам шёл впереди своего флота, и хоть генерал-адмирал граф Апраксин подавал команды, но без слова Петра, без его указа и приказа не было сделано ни одного выстрела в этой морской войне.
Пятьдесят больших весельных ботов, шестьдесят хорошо оснащённых карбасов да больше девяноста крупных галер покрывали всю поверхность финских шхер и фьордов, маневрировали и оборачивались пушечными бортами к береговым укреплениям шведов.
Шестнадцать тысяч солдат следовали за своим адмиралом, и Пётр крепко надеялся на их слаженность и выучку.
Две недели ушло на то, чтобы подойти к Гельсингфорсу, одной из главных крепостей шведов в Финляндии.
Пётр велел солдатам высаживаться и брать город.
Он сам расположил пушки, сам позаботился о том, чтобы хватало припаса, чтобы ядра были хорошо начинены порохом и легко взрывались.
И нелегко было тому, кто подмочил порох или оставил пушки без запалов, – словно детища свои берёг и осматривал царь. И часто ему приходилось браться за свою знаменитую дубинку: как и во все времена, поставщики старались выгадать на любой мелочи: то на негодном сукне для обмундирования, то на сыром порохе, то на неровных, бракованных ядрах.
Однако крепость была взята почти без сопротивления. Пушки метали ядра так кучно, взрывы следовали один за другим в самом центре крепости, пожары и разрушения приводили шведских генералов в отчаяние.
Посовещавшись, генералы решили сдать город, а предварительно сжечь его. Армия ушла из крепости, пожары довершили дело, начатое бомбардировкой Петра.
Только один день потребовался русским, чтобы занять этот важный стратегический пункт.
На этом Пётр не остановился. Наведя порядок в городе, потушив пожары и даровав свободу оставшимся жителям, Пётр приказал следовать далее.
На пути лежал ещё один город – Або, тоже один из важнейших пунктов снабжения шведской армии и самой метрополии.
Крепость сдалась на милость победителя, едва лишь Пётр расставил свои пушки и начал методично обстреливать город...
Осталась впереди ещё армия шведского генерала Армфельда, но царь посчитал, что теперь с ней справится и один Апраксин, без его подсказки и без его присутствия.
Граф действительно справился: извещая царя о победе над генералом Армфельдом, Апраксин рассказывал, как удалось ему перехитрить шведского генерала, как смело действовали матросы и солдаты.
Пётр велел палить из пушек в Петербурге в знак этой большой победы.
Теперь Пётр мог торжествовать: вся Финляндия оказалась в руках русских, и с этой стороны царь уже мог не опасаться и нападения на любимый парадиз, и подвоза продовольствия для всё ещё сильной шведской армии.
Но едва закончились торжества по случаю победы над Армфельдом, как Пётр уже опять был в пути – не сиделось ему на одном месте, да и война всечасно требовала его указки и присутствия.
– Поберёг бы себя, государь, – ласково говорила Петру Екатерина, подавая ему через стол блюдо с густым говяжьим студнем, – простынешь, некому позаботиться о тебе в походе, я уж не та, да и тяжела опять, не могу сопроводить тебя в морской галере.
Пётр лишь смеялся.
– Я двужильный, эка вымахал, – хохотал он, взмахивая ложкой, которой отворачивал огромные куски студня, отправляя их в широко разинутый рот, – недоставало мне только сидеть сиднем у бабской юбки...
– Прежде ты так со мной не говаривал, – скромно потупив глаза, замечала Екатерина.
– Прежде ты была невенчанная, а теперь жёнка законная, могу тебе и кулак показать, и слово любое молвить...
Маленькие девочки, сидевшие за столом, веселились.
– Покажи, покажи, – закричала самая бойкая на язык, Елизавета, – какой у тебя кулак, батюшка!
Он молча поднял свой пудовый кулачище, потряс им перед всем столом.
– Потому и употребляю его только на мужских рожах, – пошутил Пётр.
– А ручки у тебя нежные, – возмутилась Елизавета.
– Ах ты, егоза-шалунья, – потянулся Пётр к дочери, чтобы потрепать её по светловолосой головёнке, но задел студень, и его скользкая масса потянулась за рукавом.
Екатерина вскочила со своего места, подскочила к мужу и тут же обтёрла рукав салфеткой.
Тёмное пятно осталось на красно-зелёной ткани мундира.
Пётр даже не обратил внимания на свою оплошность – пятно и пятно, так с пятном и поехал на верфь, в адмиралтейство, где уже готовились спускать на воду новый большой корабль.
И сколько ни приставала к нему Екатерина, чтобы сменил кафтан, надел другой, без пятна, не послушался её царь.
– Кому надо оно, тот пусть разглядывает, – смеялся он, – а мне всё равно. Главное, такой кораблище спускаем, заготовили бутылки шампанского, чтобы разбить о борт, пусть летает, как ласточка белокрылая, по морям и океанам. Вот это моё, вот это моя печаль и моя радость.
Из-за стола на этот раз поднялись скоро: Петру не терпелось увидеть у причалов, на воде, одетые рёбра нового судна, его просмолённые борта, сверкающие медью, начищенные якоря.
Он умчался раньше. Царская семья только-только начинала садиться в кареты, а он уже был в доке, где стоял среди стружек, на масленых полозьях, новый большой корабль.
Пётр ещё раз оглядел своё детище – сколько же труда вложено в него, сколько же радости и печали доставило оно одним своим присутствием!
Словно муравейник кипел у подножия вознёсшегося на высоту судна!
Корабелы, плотники, парусники – все смотрели на него, на этот крутобокий, с резкими обводами бортов корабль, с черневшими у клюзов[24]24
Клюз – отверстие в борту судна для выпуска за борт якорного каната (цепи).
[Закрыть] якорями, подобранными парусами, уже готовыми развернуться при лихом ветре.
Пётр стоял на палубе, оглядывая сверху всю эту кипящую толпу, готовую взорваться русским «ура» или введённым Петром заграничным словечком «виват».
Пётр махнул рукой, и по его знаку словно бы замерла вся эта разноцветная толпа.
Стало тихо и торжественно.
Пётр ещё раз оглядел сборище самых важных и почётных вельмож и знатных людей государства, оглядел и работный люд, так и замерший кто с топором на плече, готовясь выбить клинья из-под киля корабля, кто с верёвками и плетёными циновками, приготавливаясь устилать путь корабля, если не пойдёт в воду, кто и просто так стоящий, закончивший свой труд на отделке...
Осмотрел эту разношёрстную толпу Пётр и громко, весело крикнул:
– Что, братцы, смотрите? Видите махину эту, красавца этого? Никому из нас, братцы, и во сне не снилось лет тридцать тому назад, что мы будем здесь плотничать, воздвигнем, построим город, доживём до того, что увидим и русских храбрых солдат, и матросов, и множество своих сынов, воротившихся из чужих краёв смышлёными, достигнем и того, что и меня и вас станут уважать чужие государи.
Горло у него перехватило, он закашлялся на секунду, потом его покрасневшее лицо снова засияло гордостью и радостью:
– Будем надеяться, что, может быть, на нашем ещё веку мы вознесём русское имя на высшую степень славы!
Загромыхали пушки, и в их громе потонули многократные слившиеся крики, прославляющие государя и Россию...
Со своего места, отведённого подальше от стапелей, видела Екатерина сияющее, вдохновенное лицо Петра.
Словно это и не муж её, а статный рослый прекрасный господин и этой толпы, и всей необъятной России.
Что-то вроде восторга затронуло и её душу, теперь и Пётр не казался ей больным, и не замечала она, как дрожит бесконечно его голова.
Она чувствовала лишь, что по одному его знаку эта толпа может сделать всё, что только он захочет, припасть к его ногам и целовать его стоптанные башмаки с узенькими серебряными пряжками, лобызать края его поношенного камзола.
Пётр не любил этих припаданий на колени, не позволял лобызать края своей одежды или свои пыльные башмаки, но она понимала, для всей этой толпы он был как кумир, как идол, и к нему будут и будут припадать если не телом, то душой.
Царь размахнулся, и бутылка с шампанским полетела в сторону бушприта – осколки разлетелись в толпе, вино брызнуло на борта, окропив их, и взмахом руки Пётр повелел кораблю сойти вниз, на серую воду широкой Невы.
Застучали топоры, выбивая клинья из-под киля корабля, судно слегка вздрогнуло, словно живое существо, ждущее встречи с родной стихией, затем мягко, слегка покачиваясь и сотрясаясь всей своей громадой, медленно поплыло к воде.
Фонтаны брызг окатили лицо, камзол и кафтан Петра, и он бесконечно радовался этим фонтанам и подставлял руки под живительные струи.
Корабль закачался на воде, будто примериваясь к глубине и размаху своего дома, потом выровнялся и замер на серой воде, припав грудью к потоку невской струи.
И опять кричал Пётр какие-то слова, но уже не было его слышно с палубы, потому что гремели пушки, и многократное «ура» и было ответом на благополучное погружение корабля в воды реки.
Снова торжества и бесконечные пиры, но не в своём доме, а во дворце князя Меншикова: Пётр всегда отговаривался тем, что Меншиков живёт роскошнее, чем он, царь, и потому толпы гостей неизменно приводил к столу своего друга – знал, что умел и любил запускать руку в казённый карман друг его Алексашка, но, поколотив его, неизменно прощал.
И вновь, почувствовав рядом терпкий запах мужа, Екатерина вспоминала, как стоял он на мостике корабля, как взмахивал рукой, начиная спуск судна на воду, и только это помогало ей пересиливать своё недовольство его запахом крепкого табака, и винного зелья, и застоявшегося пота.
«Как из конюшни тянет», – думала она и старалась возможно чаще отправлять его в здоровую русскую баню. Но и после парной, отмытый и надушенный, Пётр уже не вызывал в ней прежних чувств – радостного ожидания постельного свидания, крепких поцелуев и душевных слов.
«Разлюбила, что ли?» – растерянно спрашивала она себя.
Но ещё два-три случая торжеств, где она видела Петра на высоте его величия, – и проходило её чувство недовольства и досады.
А Пётр снова был в бегах – ехал в Ревель закладывать здесь большую верфь для строительства кораблей, расширять гавань, делая её удобной для иностранных судов и больших торговых караванов...
Генерал-адмирала Апраксина Пётр отправил к Або вместе с галерным флотом, потому что всё-таки опасался новой атаки со стороны шведов.
И не ошибся. В панике и растерянности Апраксин послал к Петру срочного курьера: шведский флот подошёл к мысу Гангут и остановился в опасной близости от русских судов.
Пётр не стал отвечать Апраксину, что делать да как, – просто сел на флагманское судно, вывел весь флот из Петербурга и помчался к генерал-адмиралу.
Эскадра шведов действительно стояла у Твереминдской гавани, где укрывались русские корабли.
Полдня и полночи бороздил Пётр на своём флагманском корабле все окрестности гавани, оценивая диспозицию и считая вражеские корабли.
Их было много – шестнадцать двадцативосьмипушечных кораблей, двадцать судов поменьше тоже с пушками на борту.
Русская эскадра оказалась запертой в гавани: проход был таким узким, что, выходи эскадра по одному кораблю – а иначе было нельзя разминуться, – шведы перебили и перетопили бы весь флот поодиночке.
У Петра было всего шестнадцать линейных кораблей, правда, ещё более мелких насчитывалось до ста восьмидесяти, но вооружение и размеры не шли ни в какое сравнение со шведскими.
Апраксин хватался за голову – он уже видел весь флот разбитым и сожжённым и горевал лишь о том, что ему не сносить головы своей из-за гнева царского: никто не боялся так плена или погибели, как ярости Петра, – глаза царя в это время почти выкатывались из орбит, лицо перекашивалось и судорожно подёргивалось, а руки могли вытворить всё, что угодно, – в гневе Пётр себя не помнил.
Но на этот раз он вёл себя так спокойно, словно и не было здесь ничего особенного, словно и не висел весь флот на волоске от гибели.
Сидя за картой в каюте флагманского судна, Пётр напряжённо размышлял, как спасти ситуацию, как обратить поражение в победу.
Да, шведы уже думали, что русский царь попал в безвыходную ситуацию: флот заперт в узкой горловине гавани, выхода из неё нет, и весь он может вполне скоро быть добычей шведской эскадры.
Так, во всяком случае, мыслил командующий шведской эскадрой адмирал Эреншельд. Он уже потирал руки, представляя, как вся Европа будет трубить по поводу его морской победы.
Пётр придумал такой выход, о котором не смог бы догадаться никто из командующих двумя противными эскадрами – ни Апраксин, ни Эреншельд.
Узкий перешеек соединял мыс с материком, за перешейком расстилалась свободная поверхность моря, а в гавани были заперты все суда.
«Ночью надобно перетащить все гребные галеры волоком через перешеек», – решил Пётр: когда-то рассказывала ему о таком же Мария, дочь Дмитрия Кантемира, знавшая историю падения Константинополя с самого раннего детства.
И Пётр из глубин своей памяти вытащил этот эпизод и применил его к настоящему моменту, – ночью все гребные галеры волоком стали перетаскивать через перешеек...
Но лазутчики Эреншельда углядели это немыслимое дело.
На своём флагманском корабле «Элефант» Эреншельд отделился от своей эскадры и в сопровождении десяти лёгких галер подошёл к перешейку, намереваясь помешать переволоку.
И конечно, помешал бы и не удалось бы Петру совершить свою остроумную комбинацию, если бы, на его счастье, не стих ветер.
Он стих настолько, что можно было вывести из гавани тридцать пять галер и провести их под самым берегом и под боком у шведского флота, но так, чтобы пушечные выстрелы с него не доставали до галер.
Паруса шведских кораблей беспомощно повисли, ветра не было долго, как это требовалось русским кораблям, чтобы выйти из зоны обстрела шведами.
Галерные суда мчались быстро – гребцы только успевали опускать вёсла в воду, а парусники шведов не могли угнаться за ними: весь их расчёт строился на попутном, а может, и обратном ветре, который мог бы надуть паруса.
Они стояли, палили, а галеры Петра вышли из гавани и блокировали шведский «Элефант» с адмиралом Эреншельдом на борту.
Пётр благородно предложил Эреншельду сдаться – тот ответил гордым отказом.
Тогда Пётр решил идти на абордаж шведского корабля.
Генерал Вейде, сам Пётр, солдаты, матросы напали на «Элефант» со всех сторон. Полезли по лестницам, зацепившись крюками, их встречали выстрелами, убийственным огнём. Матросы падали, умирали, новые всё лезли и лезли.
Пётр лез вместе со всеми под страшным оружейным огнём.
Три часа длилась эта смертельная схватка.
В самый последний момент, когда шведский адмирал понял, что надеяться больше не на что, он приказал спустить для себя шлюпку и попытался спастись бегством.
Но его быстро окружили русские лодки, солдаты схватили шведского адмирала и привели его к Петру.
Так же расправились матросы и с другими одиннадцатью отделившимися от эскадры шведскими судами.
Все они были взяты на абордаж, шведы захвачены в плен и погружены на русские суда...
В пылу боя русские не заметили, как захватили и остров Аланд, расположенный всего-навсего в пятнадцати милях от столицы Швеции – Стокгольма.
Это страшное известие повергло шведскую столицу в ужас. Ещё немного – и русские возьмут столицу, а значит, перестанет существовать Швеция.
Началось лихорадочное возведение укреплений, оборонительных линий, а все придворные приготовились бежать из столицы вглубь страны.
Не пошёл Пётр на столицу Швеции, хотя в этот раз, после Гангута, мог бы спокойно завладеть Стокгольмом, и советники царя настаивали на том, чтобы продолжить так удачно начатую баталию.
Но Пётр сказал:
– Удача придёт или нет – неизвестно, флот же надобно сохранить, а шведские суда нам большая подмога. Потому пойдём в Або, переждём зиму, а там будет видно.
Не играл Пётр с удачей в прятки: один раз помогло ему Провидение, сам Бог словно бы остановил ветер, будет ли такая удача во второй раз – неясно, да и сам Карлус всё ещё был в Европе и собирал войска для новых сражений.
Как же палили пушки, как же торжествовал народ, встречая своего неугомонного царя после такой блестящей баталии!
Пётр рапортовал Сенату о своей победе при Гангуте, и Сенат ответил ему повышением в чине: Пётр Алексеевич Романов был пожалован в вице-адмиралы...
ГЛАВА ВТОРАЯ
День не задался с самого утра. Сначала был долгий спор с камерарием – управителем дома, потом сбежал со спиртовки крепчайший кофе, который Мария всегда пила по утрам, затем куда-то пропала связка ключей, всегда либо лежащих на её прикроватном столике, либо звенящих на её широком поясе.
Мария поджимала яркие пунцовые губы, хмурила круглые брови, словно самой природой выведенные над яркими зелёными глазами тончайшими полукружиями, блеск в её глазах становился зловещим и яростным: во гневе княжна была несдержанна на язык, а то и на руку – это знали все в доме и потому прятались от её хмурого, как сегодня, взгляда: не дай бог не угодить молодой хозяйке.
Князь всё не выходил из своего кабинета, увлёкшись очередной порцией писанины, и оттого княжна носилась по дому, везде находя пыль, беспорядок и грозно отчитывая случайно попавшуюся на глаза прислугу.
Даже братья, для которых княжна всегда приберегала ласковое слово и одобрительное поглаживание по голове, усердно засели за учёбу под внимательным глазом русского учителя и стопу книг.
Что на неё нашло, княжна и сама не понимала, лишь смутно чувствовала, что в доме что-то происходит, а может быть, произойдёт, и этого она бессознательно боялась и подозревала, что ничего хорошего из будущего происшествия для неё не выйдет...
Она уже давно, года три назад, стала полновластной хозяйкой в доме отца, Дмитрия Кантемира. Только она и поддерживала ещё этикет, постепенно спадавший, как кожура гниющего ореха.
Лишь она ещё заставляла отца надевать все его знаки власти и достоинства, когда приходилось ему исполнять обязанности отца всех молдаван, вышедших в Россию вместе с ним.
Только она ещё следила за тем, чтобы неизменно соблюдались все правила, полагающиеся при встрече с господарем Молдавии, и строго взыскивала с тех, кто пренебрегал этими правилами.
Сам господарь постепенно понимал, что его маленькое владычество всё больше и больше мельчает, что из нескольких тысяч человек, выведенных им из пределов Молдавии, остаётся всё меньше и меньше – часть осела в Украине, часть ушла за кордон, в Польшу, чтобы быть поближе к родине, и лишь верные и неизменные слуги всё ещё были рядом, старались, как могли, облегчать жизнь господаря.
Всё чаще и чаще пропадал он за письменным столом, едва находя время на скудные трапезы, всё глубже и глубже уходил в область фантазий и мечтаний, которые выливались на бумагу мелким бисерным почерком...
С управителем имений, со слугами общалась только она, княжна Мария, затаившая горе под маской строгой взыскательности и неуправляемого порой гнева. И всего-то было ей шестнадцать лет, но она уже научилась скрывать свою сердечную боль, потому что видела, как её малейшее волнение и скорбь тут же передаются всем домашним.
А сколько боли и горя пришлось ей пережить за все эти годы, отметившие её взросление!
Лишь по ночам позволяла она себе поплакать в подушку, вспоминая последние дни матери, Кассандры, ставшей совсем слабой и беспомощной.
Но и на похоронах держалась Мария с достоинством и спокойствием – видела, как исходит слезами отец, как любопытно взирают на всё происходящее братья, как тает и тает, словно свечка от душевного жара, младшая сестра – Смарагда.
Совсем немного времени прошло с тех пор, как уложили в склепе Николо-Греческого монастыря Кассандру, а вслед ушла и Смарагда. И тут старалась Мария не проливать напрасно слёз – чересчур много хлопот легло на её ещё некрепкие плечи...
Перед самой своей смертью, прощаясь с детьми и мужем, Кассандра слабым, едва слышным голосом сказала Марии:
– На тебя оставляю я всю семью, будь опорой отцу, матерью – братьям, надеждой – сестре...
Не уберегла она Смарагду и по ночам грызла себя тем, что не выполнила наказа матери, не смогла примирить Смарагду с действительностью, самая лёгкая болезнь унесла её в могилу...
Строгой, требовательной и любящей старалась она быть для братьев – они росли сорванцами, словно видели, что отцу вовсе не до них, что он погрузился в пучину горя, и только письменные занятия вырывали его из этой бездны.
Он работал за столом, писал труды, которые могли бы стать делом всей его жизни, и горестно думал о том, что жизнь его кончена, что надежд на избавление родины от турок уже не осталось, потому что русским царём владели иные мысли и иные военные планы..
Полное и глубокое разочарование, печаль по жене, с которой так много связывало его, всё больше и больше проникали в его душу, и ему уже неинтересно было, как собирается оброк с имений, сколько денег получается с крестьян, каковы вообще его денежные дела.
Всё это оставил он на долю своих верных слуг и своей опоры – Марии...
Она и поддерживала ту налаженность, что заведена была ещё при матери: чистота в доме, строгость распорядка, непрестанная учёба братьев, взыскательность к слугам.
Это постоянное напряжение держало её в состоянии, далёком от излишних грёз и мечтаний.
И только иногда, словно бы сквозь розовый туман, видела она и зелёную лужайку в русском лагере под Станилештами, и парусинное полотно, брошенное под её красный далматик, и растянувшееся на траве большое и сильное тело русского царя, и его нахмуренные брови, и смешно шевелящиеся усики над полной верхней губой, и свой восторженный взгляд, устремлённый на кожаные, искусно сделанные фигуры шахмат. Она никак не могла забыть ни эту игру, ни быстрые беглые поцелуи Петра, вознёсшего её на руках к самому небу, ни его восторженный крик: «Виктория, виктория, виктория!»
Эту картинку она бережно хранила в памяти, никому не давала любоваться ею, со временем память несколько изменяла слова и жесты, но этот розовый флёр, покрывавший давнюю сцену, становился от времени всё менее и менее прозрачным, и сквозь него уже с трудом виделись и фигуры действующих в этой сцене лиц...
Она дорисовывала в своём воображении отдельные места, которые хотела бы сохранить и увидеть заново в этой сцене, но обрывала себя и глухо шептала сквозь зубы:
– Никогда больше я не увижу его, рыцаря из моей мечты...
Зацокали на подъездной аллее копыта лошадей, скрипнув, замерла перед резным крыльцом старенькая, вытертая временем карета, и Мария выскочила на крыльцо, словно чувствовала – что-то должно было произойти...
Человека, который тяжело вылезал из кареты, Мария признала сразу: полное лицо, бритый подбородок, пышное жабо вокруг старческой сморщенной шеи, быстрые руки, опёршиеся на руки слуг, – боже мой, да это же он, Пётр Андреевич Толстой, почти не изменившийся со времён её стамбульского житья, хоть и слегка постаревший и огрузневший.
Она кинулась к нему, забыв все правила этикета, налетела на его большое и расплывшееся тело, закинула руки на шею и стала целовать куда попало: в огрузший широкий нос, в бритый круглый подбородок, в высокий, всё ещё чистый и не сморщившийся лоб.
Пётр Андреевич смущённо принимал эти знаки любви и внимания, но не понимал, кто висит на его шее, кто так нежно и радостно встречает его, хоть и рад был такой не этикетной и сумбурной встрече.
Небольшой аккуратный парик сдвинулся на сторону, обнажив совершенно лысую круглую голову, кружевное пышное жабо смялось под бурным излиянием чувств, а шитые золотом отвороты кафтана, он словно это чувствовал, царапали смуглые тугие щёчки прелестной незнакомки, так весело и бурно встречавшей его, что сердце его затрепетало от давно забытых проблесков чувств.
Мария оторвалась от лица Толстого, взглянула на всю его семидесятилетнюю фигуру и сказала:
– Да вы и не изменились, Пётр Андреич! Как же я вам рада! Как я счастлива видеть вас!
– Кто вы, прекрасная незнакомка? – изящно поклонился Толстой, подвинув на место парик. – Вы так прелестны, что у меня нет слов, чтобы выразить вам своё восхищение такой красотой.
– Пётр Андреич, – сразу потухла Мария, – да вы и не узнали меня, а раньше, бывало, носили на руках.
Она капризно надула свежие губки и теперь уже со всей тщательностью и старанием сделала модный реверанс по всем правилам.
Толстой прищурился. Как же мог он забыть такую девушку, кто она? Неужели старшая из дочерей Кантемира, неужели это Мария, превратившаяся в удивительную красавицу, весёлую, непосредственную, – его ли это крестница?
– Да уж ты не Мария ли? – удивлённо проговорил он, изумлённый происшедшей в ней перемене.
Из голенастой девчонки, всё крутившейся возле них с князем, когда они играли в шахматы, из некрасивого подростка она превратилась в прекрасного лебедя, все её движения полны неизъяснимого изящества, свежие губы таят непонятное торжество, а прямой греческий нос напоминает о её высоком происхождении...
– Увы, это я! – закричала Мария, не в силах удержаться от радости, что видит своего крестного. – Как же вы меня не узнали, неужели я стала такая некрасивая и страшная?
– Не кокетничай, – оборвал её Толстой, – в такую красавицу вымахала, что признать трудно! Небось от женихов отбоя уж нет?
Мария поморщилась. Предложений и разговоров было много, да только она, пока не вырастит братьев, не определит их, не могла и помыслить о себе.
Вышел на крыльцо и Кантемир. Слуги уже доложили ему, что там, на крылечке, Мария целует какого-то незнакомого человека в золотом шитом кафтане и парике, старого, но ещё подвижного.
Встревоженно вгляделся он близорукими глазами в Толстого, сразу и не признал, но, когда увидел свежее стариковское чисто выбритое лицо, изумился:
– Вот уж не ждал, не гадал, Пётр Андреич! Какими судьбами, как добрались из плена, как поживаете?
Словом, засыпал вопросами, не дожидаясь ответов, и повёл гостя в дом, радуясь этой неожиданной встрече, этому посещению.
Давненько не бывало в его доме людей знатных и весёлых, тех, которых он любил бы и уважал.
Княжеские хоромы не были слишком просторными, это был каменный дом старой московской застройки, но главная зала, в которой стоял княжеский высокий стул под бархатным бордовым балдахином и где Кантемир вершил суд и расправу над своими немногочисленными подданными, отличалась двусветным высоким пространством, роскошными бархатными гардинами, прекрасными, тонко выполненными картинами итальянских и венецианских мастеров, креслами в той же гамме цветов для знатных бояр Молдовы, имевших право сидеть в присутствии господаря.
Теперь, правда, этикет и церемониал уже не соблюдались так тщательно, как в первые годы выезда из Молдавии, да и не было Кассандры, старательно охранявшей все обычаи и малейшие особенности церемониала.
Но Дмитрий Константинович не повёл Толстого в эту парадную залу.
Лето украсило все деревья в саду, разнообразные цветы являли собой прекрасное зрелище, и потому князь приказал накрыть стол в саду, под зелёными кронами, чтобы на вольном воздухе распить чару отменного молдавского вина, которым всё ещё славился погреб молдавского князя.
Сбежалась вся семья Кантемира. Толпились сыновья, жадно разглядывая семидесятилетнего старца, которого они с трудом помнили, но знали, что знакомы ещё по Стамбулу.
– В любой дом с пустыми руками не ходят, да ещё в первый раз, – смеялся Толстой, одаривая младших детей подарками, а Марии преподнёс тяжеленную шашечницу в клетку и заставил её раскрыть выточенные из слоновой кости толстые створки.
Она увидела такие искусно сделанные и изящно выточенные из слоновой кости фигуры, что забыла обо всём на свете.
– Не кто иной, как сам государь Пётр Алексеевич выточил эти фигуры на своём токарном станке, – серьёзно и торжественно сказал Толстой, глядя, с какой любовью и бережностью разглядывает и оглаживает шахматные фигуры Мария.
Она с изумлением подняла на Петра Андреевича свои яркие зелёные глаза, и он увидел в них такое волнение, такую нежность и затаённый страх, что сам невольно поразился тому впечатлению, которое произвёл на неё подарок.
– Неужели? – только и пробормотала Мария.
– Да-да, он сам и велел тебе отдать, да и слова соответствующие сказать, что, дескать, не забыл Дилорам, что помнит о девчонке, однажды одержавшей над ним викторию...
С каким же страхом и изумлением оглаживала Мария все эти удивительные фигуры – они так тщательно были огранены, так старательно выпилены и отшлифованы, что она не могла прийти в себя от радости и внезапно вспыхнувшей любви.
– Он помнит? – невольно навернулись на язык слова.
– Наш государь ничего не забывает, – важно ответил Толстой и внимательно вгляделся в Марию.
Отсвет радости и влюблённости словно подсветил её всю изнутри – засияли её огромные зелёные глаза, вскинулись полукружия тёмных бровей, и румянец окрасил её обычно бледные смуглые щёки. Она была так хороша в это мгновение, что Толстой пожалел о том, что царь не видит её именно сейчас – уж он бы разобрал, где просто радость и благодарность, а где ещё и смутные воспоминания о былой детской любви.
А Сам князь разглядывал кальян, привезённый из Стамбула бывшим узником Семибашенного замка, – изящный мундштук, длинную серебряную трубку и прекрасный серебряный сосуд, через который проходит табачный дым.
Давно не было у него такого кальяна, и Кантемир с грустью и меланхоличным выражением лица вспоминал времена жизни в Стамбуле, мягкие низкие диваны своего дома-дворца, построенного по его указаниям в Константинополе, широкие окна, в которые вливалось так много света и воздуха, ковры, устилавшие пол, низкие навесы над окнами и тёмные резные шкафы, где умещалось всё их имущество.
Но ещё больше тосковал он по удивительным цветникам и вспоминал историю, связанную с цветами и Толстым, и вдруг все воспоминания заслонило лицо его милой Кассандры.
– А Кассандры больше нет, – пробормотал он.
– Удивительная была красавица, – в тон ему откликнулся Толстой, – жаль, что так быстро покинула этот свет, не увидела своих детей в возрасте...
Оба они поникли головами: Толстой вспомнил свою жену, тоже рано скончавшуюся и почти забытую им, а Кантемир погрузился в воспоминания о Кассандре, столько лет дарившей его теплом, заботой и любовью.
Они сидели под тенистой ажурной сетью зелёного тумана, попивали крепчайший кофе, страсть к которому не покинула Кантемира и здесь, в холодной России, покуривали кальян и беседовали о прошлом.
– Расскажите, как провели вы все эти годы в Стамбуле, – внезапно разорвала тончайшую сеть их воспоминаний Мария.
Толстой словно проснулся, оторвался от своих мыслей и взглянул на Марию.
Всё-таки он должен был рассказать о том проклятии, которое перед смертью, перед тем, как ему отрубили голову, наложил на эту семью Балтаджи Мехмед-паша, великий визирь турецкого султана.
Но как об этом рассказать, чтобы не запугать их, чтобы не окутала их таинственная и страшная пелена этого проклятия?