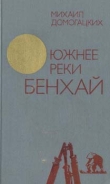Текст книги "Проклятие визиря. Мария Кантемир"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 31 страниц)
– Рассказывайте, рассказывайте, Пётр Андреевич, – со вздохом просила она Толстого, – всё говорите, как на духу, знаете же, что ни одно слово за эти стены не выходит.
И Пётр Андреевич рассказывал.
Княгини Анастасии не было, как всегда, дома: забрав дочку, она поехала к родным, чтобы попить чайку, посплетничать, узнать все московские новости.
Мальчишки занимались в классной комнате, и Толстой, и Кантемир вместе с Марией сидели в кабинете князя и внимательно слушали Петра Андреевича – ещё с давних времён, когда жили они в Турции, в Стамбуле, он знал их как истинных друзей и не стеснялся в выборе выражений.
– Да, привёз, – печально продолжал он, – теперь царевич у себя во дворце и ожидает решения своей участи. Ефросинью пришлось отправить дальним и более удобным путём – она уж на четвёртом месяце, и царевич сильно по ней тоскует...
«Странно, – горько думалось Марии, – почему Романовых, царского рода мужчин, так и тянет к простым девкам, необразованным и дебелым? Что отец, то и сын, видна кровь, и повадки одни и те же. Марта Скавронская даже имя своё подписать не умеет, не говоря уж о том, чтобы хоть одну книжку в своей жизни прочитать. Правда, говорят, что Ефросинья – финка, достаточно красива, да ещё и умна. Писать, во всяком случае, умеет, что по-русски, что по-чухонски. И есть, значит, в этих женщинах что-то привязывающее мужчин. Только у меня одной нет такого...»
Но она вспоминала множество сплетен о её замужестве, о бесчисленных женихах, то и дело заводящих разговоры о женитьбе на княжеской дочери, и знала, что одно лишь её сердце не склонно к какому бы то ни было другому мужчине.
Только о Петре думалось ей, только из-за Петра обливалось её сердце кровью, только ему одному могла бы отдать она и свою молодость, и свои силы, и свои знания.
Но нужно ли ему это, не навязывается ли она со своей любовью?
И горько, и стыдно становилось ей: возмечтала о мужчине старше её двадцатью годами, знатнее её во много раз...
– Завтрашним днём в Кремле велел государь собраться всем знатным людям, – закончил Толстой. – Тебе, князь, тоже велено быть...
Мария взволновалась:
– Можно ли мне? – робко спросила она.
Толстой отрицательно покачал головой.
– Мужчины только, – ответил он.
– Я бы лишь одним глазком посмотрела, – умоляюще произнесла Мария и поняла, что зря старалась.
– Люблю я тебя, крестница, – опять покачал головой Толстой, – да только дело-то уж весьма серьёзное...
И Кантемир поехал назавтра один в кремлёвский дворец. Едва он вернулся, Мария кинулась к нему с расспросами. Но больше всего интересовало её не то, что происходило, а как выглядит Пётр, каково его настроение и была ли на этом сборище Екатерина.
Екатерины не было – она ещё не совсем оправилась от родов: принесла наконец своему стареющему мужу маленького Петра.
– Зала огромная, народу битком, – рассказывал отец дочери, – царевича ввели так, будто охрана его не отходила от него ни на шаг. Он был бледен, в парадном кафтане и драгоценном камзоле, но без шпаги и без всяких знаков различия.
Пётр сидел на высоком стуле в окружении сановников, всех первых лиц государства, и угрюмо молчал.
Едва Алексей вошёл, как бросился перед отцом на колени.
– Что учинил ты, сын мой, перед всей Европой, перед всем отечеством? – горестно обратился к нему отец. – Понимаешь ли ты, что обесславил меня, всю Россию, честь свою отдал цесарскому императору?
Первые же слова Петра ещё больше обескровили длинное лицо Алексея.
– Прости, государь, – припал он лбом к ногам Петра, – виноват я перед тобой, перед всем народом, виноват, и нет мне прощения. Только и уповаю на милость твою, недостойный тебя, государь, сын, опозоривший седины отца...
Он долго ещё повторял слова покаяния и испрашивал прощения за все свои вины, молил о помиловании.
– Помилуй меня, государь, – бормотал он в слезах.
Пётр молча слушал покаянные речи царевича, внимал его быстрым и как будто от души сказанным речам.
Потом вымолвил тяжело и горестно:
– Помилую тебя лишь тогда, когда откроешь мне имена всех, кто присоветовал тебе бежать от отцовского догляда, да откажешься от отцовского наследия – негоже, чтобы такой непотребный сын взошёл на российский престол, коли хватило ума просить протекции в чужой стране, у чужих людей...
– На всё согласен, батюшка, – вновь забормотал Алексей, трусливо прикрывая голову руками, словно бы теперь, вот сейчас, должен сверкнуть топор палача. – И не надобно мне отцова наследия, отрекусь хоть сей миг, – плача, приговаривал он.
– Что ж, перед святыми иконами повторишь своё отречение, чтобы и святая церковь знала, что не я лишаю тебя наследия, а ты сам избрал это...
Царевич легко закивал головой, соглашаясь, и Пётр знаком велел ему подняться с колен.
– А теперь выйдем в другую залу, – сурово и громко сказал он, – там и откроешь мне имена своих советчиков...
Они скрылись в боковой двери, и всё собрание единодушно вздохнуло: кого-то оговорит царевич, страшились одни, кому-то выпадет царская пытка, а кто-то получит заслуженную награду.
Разные мысли бродили у всех, но никто не решался даже рта открыть, пока снова не появились в зале Пётр и Алексей.
– Теперь пойдём в Успенский собор – там тебя объявляли наследником, там ты и отречёшься, – всё так же сурово и безрадостно сказал Пётр.
Все услышали эти слова – слишком глубокой была тишина в зале...
Отец рассказывал, и Мария ярко представляла себе эту картину горестного отречения в Успенском соборе.
Не давая света, синели перед тёмными ликами святых лампады, колебались неяркие огоньки свечей, и вся тесная внутренность Успенского собора заполнена была золотыми кафтанами и камзолами с золотым шитьём, трёхцветными шарфами через плечо и горящей огранкой орденов.
На амвоне стоял на коленях царевич Алексей, бледный, с большими каплями пота на высоком лбу, и тихим голосом читал своё отречение, заранее написанное им.
– Сим отрекаюсь от наследия своего отцовского, – глухо звучал его голос, не отражаясь от стен, увешанных иконами, словно бился в тесном безвоздушном пространстве.
Пётр сидел в старинном кресле, ещё со времён Ивана Грозного устроенном сбоку амвона, и вместе со всеми, склонив к плечу мелко подрагивавшую голову, слушал голос нелюбимого сына.
Много лет стращал он Алексея этим отречением, много лет и царевич шёл к этой сцене и теперь, словно разрешаясь от тяжкой доли, плакал безмолвно, читая слова отречения.
Крестился истово, припадал к земле лысоватой головой с высоким лбом и жидкими косицами серых волос по сторонам бледного, будто мёртвого лица, поднимал голову и не глядел ни на кого, целуя золотой крест в руках митрополита.
О чём думал при этом Пётр, каковы были его чувства – одно волновало Марию, о нём беспокоилась она в тот момент, когда отец обрисовывал ей сумрачную сцену отречения. Наверное, разрывалось сердце от боли, что не сумел приохотить наследника к своей доле, к тяжкой доле работника на престоле, не сумел внушить с детства уважение к сану своему, если так легко предал, уехал, бросил на скандальные весы европейской молвы и свою честь, и честь отца, и честь родины...
А может, был равнодушен к теперь уже ненужному отпрыску, отрезал, как засохшую ветвь от плодоносящего древа? «Каким был Пётр?» – всё допытывалась она у отца и, не получая ответа – слишком сумрачно было в соборе, чтобы разглядеть выражение лица царя, – придумывала себе его быстрые взгляды и неизбывную горечь в больших глазах.
– Теперь будем собираться в столицу, – окончив свой рассказ, сказал Кантемир дочери, – тяжкая доля и мне выпала – судить да рядить царевича. А уж так царь не оставит его, начнёт дознаваться, и пойдёт раскручиваться нитка с клубка.
Как хотелось Марии увидеть Петра, заглянуть в его глаза, выразить ему свою печаль, сожаление, искреннее сочувствие, но понимала она, что даже минутки такой не сможет найти Пётр, чтобы успокоить её желание.
И неожиданно, приехал царь в дом Кантемира. Апраксин, Толстой, другие приближённые сопровождали его, как всегда.
Сердце у Марии замерло: нет, только не это, как может он, ещё не оправившись от такого горя, вспомнить о ней?
Но Пётр как будто и не заметил о сожаления на лице Марии.
Улучив момент, когда все его приближённые усаживались за стол, вышел с ней в узенький коридорчик и, не в силах сдержать желания, крепко обнял и расцеловал.
– Тосковал я по тебе, – коротко сказал он, – крушится всё, а под обломками ты – ласковая, свежая моя...
Он схватил её огромными ручищами, поднял, как пушинку, прижал к сердцу и большими шагами пошёл с ней на женскую половину. Она не билась в его руках, лишь прижалась щекой к его груди, внушительных размеров медная пуговица словно врезалась в щёку, и она откинулась, и жадно смотрела, смотрела на его постаревшее, морщинившееся лицо, и страстно жалела, страстно страдала вместе с ним.
И первое соединение его большого длинного тела и её маленькой тоненькой фигурки было для них обоих таким неожиданным и благодатным, что слёзы выступили на их глазах.
Соединение было таким коротким, быстрым и страстным, что она не успела ничего почувствовать, как он уже встал, оправил свой камзол, потёр щетинистые усики и, оставив её лежать на смятом покрывале постели, быстро вышел.
На этот раз застолье было недолгим, блюда подавались с невиданной скоростью, словно и князь, и все сопровождающие Петра лица понимали, что время неумолимо и всё надо делать поспешно и осмотрительно.
– И тебе, князь, – сказал Пётр, всё ещё не остывший после быстрого соединения с Марией, – надобно быть в столице, будем царевича расследовать, а после судить. Нельзя такую оказию безнаказанной оставлять. Тебе, Пётр Андреевич, – тут же повернулся он к Толстому, – придётся на себя всё взять, ты доставил царевича, тебе и карты в руки.
Так и оказались они опять в Петербурге, в столице, в доме, который подарен был князю царём, огромном доме, наполненном драгоценной мебелью, картинами и гобеленами, многочисленными слугами. В конюшнях можно было полюбоваться отборными лошадьми, самыми модными каретами – берлинами. Сады всегда были расчищены, и даже дорожки, усыпанные песком, ежедневно очищались от снега.
Впрочем, князю было некогда видеть все свои богатства – каждый день уезжал он на заседания Сената, каждый день у него были дела, всё ещё связанные со следствием над царевичем.
Теперь даже Толстой не посещал дом Кантемира: ему было не до того, он, под присмотром самого царя, руководил следствием по делу Алексея.
Только потом трое людей, вытягивающих показания из самого царевича, были названы наводящими ужас словами – Тайная канцелярия, в её состав входил и Пётр Андреевич.
Но все вопросы, на которые должен был отвечать Алексей, составлялись самим царём, так что канцелярии надо было лишь добиться правдивых ответов на эти вопросы. А правдивость их можно было проверить, только сопоставив показания разных свидетелей.
И главным свидетелем оказалась любовница Алексея – Ефросинья.
С головой выдала она царевича – перед ней не раз развивал он планы, что будет, когда он завладеет троном. А эту мысль он вынашивал годами и отдался под покровительство австрийского императора именно с этой целью.
Самое главное, чего добились от Алексея, – признание, что намеревался завладеть троном, опираясь на иностранные штыки и на силы, враждебные Петру в самом государстве.
Это был заговор, и теперь предстояло распутать все нити его...
Ещё в письмах своих Пётр обещал сыну полное прощение его вины, ежели он возвратится и будет послушен воле монарха.
Но тогда Пётр не знал и половины всего, что натворил его сын, каковы были его намерения и планы.
Сознавался он только под давлением показаний свидетелей, а значит, не чистосердечно и был далёк от раскаяния.
Ещё в самом начале следствия Пётр заявил сыну:
– Понеже вчера прощение получил на том, дабы все обстоятельства донести своего побегу и прочего тому подобного, а ежели что утаено будет, то лишён будешь живота.
Царевич вилял и лгал, утаивал всё, что только возможно, и лишь под давлением показаний свидетелей признавался в вине.
Пётр решился на пытки.
На дыбе, под кнутом, Алексей, малодушный и безвольный, вытягивал из себя слово за словом, оговаривая всех, кто был к нему причастен. Узнавали о таких делах, в которые Пётр даже и не подумал вникнуть.
Отсюда возникло и дело бывшей жены Петра – инокини Елены. Оказалось, что между царевичем и его матерью существовала постоянная связь.
Евдокия, бывшая царица, обиженная царём и насильно постриженная им в монахини, уповала на сына, могущего восторжествовать на троне.
Ростовский епископ Досифей сочувствовал Евдокии, разрешил ей одеваться в мирское платье, и также сочувствовал Степану Глебову, который влюбился в бывшую царицу-красавицу и был её преданным другом и любовником.
С Глебовым и прежней царицей не стали церемониться: Глебова посадили на кол, Досифея низложили и колесовали, а инокиню Елену отправили в Ладожский монастырь с таким строгим уставом содержания, что она не могла вздохнуть от утеснения.
Всё-таки не мог решиться царь лишить жизни свою бывшую супругу, понимал, что он как-никак двоеженец – при жизни первой жены обвенчался с другой.
Сразу же был колесован и Александр Васильевич Кикин, бывший любимец самого царя, взявший сторону наследника, его главный советчик и друг.
И всё-таки царевич всё ещё вилял, запирался, лгал и изворачивался.
Пётр сам присутствовал на пытках. В ту пору пытки были самым обыкновенным делом – физические истязания в тот жестокий век считались главным средством выжать из подследственных правду...
Скупо доносились до Марии слухи и молва о беспримерной вражде отца с сыном.
Ужаснулась она только тогда, когда узнала, что, получив от Ефросиньи обличающие царевича показания, царь сам приехал на мызу, где поселили Алексея, сам отвёл его в сарай и начал в остервенении стегать кнутом.
Лишь после двадцати ударов Алексей, изнемогая от боли и брызгающей во все стороны крови, сознался в заговоре.
Сопоставляла Мария: в начале своего царствования Пётр вот в таком же исступлении сам отрубал головы стрельцам, бунтовавшим против него, – теперь он стегал собственного сына, потому что тот поднял на него руку, предательскую, подлую, кровавую.
И не знала, порицать ли Петра за его жестокость или оправдать его в своём сердце. Постигала тёмные стороны характера и души царя, и ужасалась, и понимала, что без его жестокости, без его зверства могло бы и не быть государства Российского.
«Но неужели без крови не стоит ни один трон?» – часто думала она. И всё-таки любовь заставляла её прощать Петру все его кровавые и дикие выходки.
Что ж, таковы нравы российские, и не нам их исправлять, таковы цари русские, и не нам указывать на их варварство. И приводила себе тысячи примеров ещё большей жестокости других монархов, и легко прощала Петра...
Но и она с любопытством ждала, как же царь-самодержец будет наказывать своего сына. И ответ получила от своего отца, назначенного царём вместе с другими сановниками рассмотреть дело царевича.
Обещал царь помилование сыну, а теперь хотел, чтобы другие сняли с него эту клятву...
Опасался Пётр, что в деле этом видит меньше других, «дабы не погрешить, ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в их», и потому передал дело на рассмотрение двум судам – церковному и светскому.
Страшился Пётр нарушить своё слово, данное перед Богом сыну, – помиловать его, – боялся угрызений совести.
«Я с клятвою суда Божиего письменно обещал оному своему сыну прощение и потом словесно подтвердил, ежели истину скажет. Но хотя он сие и нарушил утайкою наиважнейших дел, и особливо замыслу своего бунтовного против нас, яко родителя и государя своего».
Просвещённые митрополиты, архиепископы, епископы и прочие духовные лица не решились стать судьями в этом деле. Они только привели царю изречения из церковных книг – одни были за смерть виновному, другие призывали к милости.
А общим стало одно заключение церковных властей: «Сердце царёво в руце Божией есть», что означало: как поступит сам самодержец, так и будет справедливо...
Приехав домой светлым июньским днём, Кантемир сообщил дочери решение светского суда, состоящего из 127 самых высших чинов государства.
Решение было однозначным и суровым: «Царевич весьма себя недостойно того милосердия и обещанного прощения государя своего отца учинил...»
Избавили сенаторы и светские высшие чины Петра от его клятвенного обещания, данного перед Богом.
Приговор был краток: «Царевич достоин смерти и как сын, и как подданный...»
Мария ужаснулась. Как станет вести себя Пётр после казни сына? Не явится ли ему во снах призрак казнённого, убитого им? Но слишком уж тонкой и нежной представлялась ей душа Петра, а она была закалена в долгих боях и трудах и не страшилась призраков.
Но казнь не потребовалась.
Пытки и душевное смятение не оставили царевича в живых.
Он скончался сам 26 июня в семь часов пополудни – не потребовалось ни плахи, ни палача...
И похоронили его тихо, без всякого парада и церемоний – как изменника, но и как царское лицо – саркофаг с его телом поставили рядом с гробом его жены в Петропавловском соборе.
Но в день похорон Мария вместе с отцом приглашена была на торжество спуска девяностапушечного корабля – царь сам разбивал бутылку с шампанским о борт спускаемого судна, сам поднимал потом чару с вином в честь нового корабля, и Мария видела, что не было в его лице ни волнения, ни грусти, ни сожаления.
На другой же день после отречения царевича Пётр издал указ: наследником престола объявлялся малолетний сын Петра и Екатерины – Пётр Петрович. Отныне на всех ектеньях он поминался как второе лицо после государя.
«Екатерина может быть довольна, – думала Мария, – теперь она добилась всего, о чём только может мечтать женщина её происхождения: её сын будет продолжателем династий, будет царствовать...»
Однако торжество Екатерины длилось недолго: вскоре сын её тихо угас, и снова остались лишь две дочери – Анна и Елизавета.
Анну уже сосватали за голштинского принца, и дело считалось решённым.
Как будто в противовес этим ужасным известиям, продолжались в Петербурге самые разные торжества – по случаю дня победы в Полтавской баталии состоялся грандиозный фейерверк, парадный обед на четыреста персон, на котором присутствовала и вся знать города.
Кантемир с женой и дочерью также были приглашены на эти празднества.
Мария чувствовала себя не совсем уютно: из памяти не изгладились события, предшествующие этим торжествам...
Во время парадного обеда, улучив момент, к Кантемиру подсел Пётр Андреевич Толстой и показал ему именной указ царя. «За показанную так великую службу не токмо мне, но и паче ко всему отечеству в привезении по рождению сына моего, а по делу злодея и губителя отца и отечества...» – так начинался он.
Царь пожаловал Толстому чин действительного тайного советника и в награду 1318 крестьянских дворов.
Толстой мог хвалиться – он начинал службу беспоместным дворянином, а теперь владел более чем пятью тысячами душ крепостных. Это было огромное богатство.
Но самым главным в возвышении Петра Андреевича было то, что он стал фактическим руководителем Тайной разыскной канцелярии. С тех пор как учреждена была эта канцелярия, ведавшая всеми тайными разыскными делами по государственной измене, заговорам и наговорам, Толстой сделался незаменимым лицом в свите царя, и теперь уже косо посматривали на него прежние любимцы и питомцы государя – и Меншиков, и Ягужинский, и адмирал Апраксин.
Толстой продолжал бывать в доме у Кантемиров, и все самые свежие новости Мария узнавала из первых уст.
Правда, Толстой не слишком-то распространялся о своей деятельности, но по отдельным словам, намёкам и вскользь брошенным репликам она многое знала о частной жизни Петра, а владело ею не простое любопытство, а тоска по Петру, страстное желание видеть его, говорить с ним...
Но Пётр после дела царевича редко заглядывал в дома своих приближённых – его ожидали уже новые дела и новые свершения...
А она ждала и ждала, когда же Пётр вспомнит про неё, когда приедет, когда снова возьмёт её на руки и отнесёт в постель.
Никому не сказала она о том, что девственность её сломил Пётр, никто в семье и не догадывался, что Мария страдает по одному лишь Петру.
И только Анастасия изредка взглядывала на Марию и загадочно бросала:
– Что-то с лица спала наша дочурка. Да и не пора ли найти, приискать ей хорошего жениха?
Дмитрий Константинович только отмахивался: девятнадцать, ещё не старая дева, да и найдётся хороший жених – теперь Кантемиры на виду, звание сенатора позволяет князю быть в курсе всех государственных и иных дел. Неужто не отыщется среди молодых людей тот человек, что захочет сделать счастливой такую красавицу, умницу и богатейшую наследницу, как Мария?
Сама Мария бежала от подобных разговоров, как чёрт от ладана.