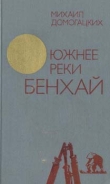Текст книги "Проклятие визиря. Мария Кантемир"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 31 страниц)
– Не верю я, – вдруг непоследовательно произнесла Мария, – что эти тончайшие фигуры выпилил сам государь.
При этом лицо её залилось такой краской, что Толстой опять изумлённо покосился на девушку.
– Наш государь – работник на троне, – важно произнёс он и, сам смутившись такой своей важностью, просто продолжил: – Государь бывал во многих краях, не сидел сиднем на престоле, обучился всему, чему только возможно, ремёслам многим, и научил своих подданных...
– Нигде, наверное, нет и не было такого государя, – прошептала Мария.
– Да уж это вам не французский король, который только и знает, что упражняться в танцах и изящных комплиментах, и не турецкий султан, который находит неизъяснимое наслаждение в том, чтобы отрубать головы своим подданным направо и налево, – опять с важностью проговорил Толстой. – Да вот, уж перед самым заключением Адрианопольского мира призвали нас во дворец султана, нас – это пленников, сына фельдмаршала Шереметева, меня, как посла, и вице-канцлера Шафирова, – мы уж в плену томились почти три года...
Мария и Дмитрий Константинович во все глаза глядели на Толстого.
А тот замолчал, подыскивая слова, чтобы описать невообразимую обстановку во время казни Балтаджи...
Рассказать ли им, как важно и торжественно сидел у стены, скрестив ноги, султан в неизменном своём тюрбане с павлиньим пером, пристёгнутым золотым аграфом с огромным алмазом, как не двигались на своих подушках его вельможи и приближённые, которым разрешалось сидеть в присутствии султана, как застыли слуги, чернокожие и желтолицые, вытянувшись и неотрывно глядя на него, как поднял свою страшную секиру палач в чёрном балахоне и с чёрной маской на лице и тоже застыл...
Прямо посреди громадной залы, устланной дорогими персидскими коврами, стояла плаха – большая колода, отполированная, окружённая пространством мраморного пола, лишь дальше окаймлённого зелёным персидским ковром...
Как рассказать о них, русских, стоящих почти у самой плахи, о тех чувствах, что волновали их, знающих, что в любой момент, по мановению пальца султана, могут и их головы положить на эту отполированную плаху?
– Странно, что султан позволил Балтаджи Мехмед-паше перед смертью сказать несколько слов, – задумчиво проговорил Толстой, – никогда, сколько я знаю, никому этого не позволялось... Но показалось султану или донесли ему, что подкуплен был Балтаджи русскими, потому и водили его по Стамбулу закованным в цепи и, словно собаку, тащили за цепь на шее...
Он опять запнулся, не зная, как облечь в слова проклятие Балтаджи.
– Только уж сказал он последние слова перед султаном и обвинил молдавского господаря в измене, сказал, что лишь он своей изменой султану избавил русских от позора поражения...
Толстой ещё что-то прибавлял к словам Балтаджи и всё никак не мог добраться до главного...
Мария и Кантемир впились глазами в лицо старика, всё подбирающего слова для передачи своих впечатлений.
– И проклял Балтаджи молдавского господаря за его измену османам, – продолжал Толстой.
– Сколько было их, этих проклятий от турок, – усмехнулся Кантемир, – я не изменил своему народу, вместе с ним боролся я за освобождение от позорного турецкого рабства...
– Зачем ты оправдываешься, отец, – тихо сказала Мария, – разве они могут понять твою боль и твои страдания за весь молдавский народ?
– Балтаджи проклинал молдавского господаря, грозил, что род его за такую измену пресечётся и не останется на земле ни одного из его потомков... Но деяния его навсегда останутся в памяти людей, – наконец закончил Толстой самую трудную часть своей речи и облегчённо вздохнул.
Как мог, смягчил он проклятие визиря, как можно мягче передал его слова.
Но всё равно суть проклятия дошла до слушателей.
Кантемир же только усмехнулся: он знал цену этим проклятиям, не верил в них по своей образованности и несуеверности, лишь Мария изменилась вдруг в лице, словно острая боль пронзила её сердце.
Но она сдержалась, ничего не сказала.
– Потом подошёл палач к Балтаджи, и визирь покорно положил свою голову на плаху. Взмахнул своим громадным топором палач, и отскочила голова великого визиря, но не туда, куда обычно падали головы казнённых, а на самый мягкий ворс большого персидского ковра – слишком уж силён был удар топора. И красная борода визиря окрасилась кровью, и лужа крови растекалась и растекалась под этой бородой, и казалось, что красная эта борода растёт и растёт и хочет дотянуться до самого султанского ложа...
Толстой опять передохнул, и слушатели его, потрясённые описанной Петром Андреевичем картиной, безмолвствовали.
– Нас живо увели, – уже свободнее произнёс Толстой, – но позже кое-кто нам рассказал, что султан тоже срочно ушёл к себе, не желая видеть эту растущую красную бороду – то ли знак в этом увидел, то ли пожалел, что казнил умного и хорошего человека, заботящегося об интересах Османской империи...
Все молчали, и никому не приходило в голову произнести какие-нибудь обычные слова, чтобы стереть из памяти эту страшную картину казни.
– Впрочем, – продолжил Толстой, – султан этим не ограничился, он казнил, и притом так жестоко и страшно, ещё одного – валашского князя Брынковяну...
– Но ведь Брынковяну до конца оставался верен султану! – с изумлением воскликнул Кантемир. – Он же все припасы, которые вроде бы готовил для Петра, русского царя, передал туркам, заманивал в ловушку русских, сербов не пропустил нам в помощь – он всё сделал, как велел султан. За что же было его казнить?
Толстой помолчал, словно бы опять собирая в памяти все факты, которым был свидетель.
– Нас уже там не было, – сказал он, – нас уже отпустили, потому как пришло известие, что Азов передан туркам и мир заключён. Но, как говорили мне свидетели этой казни, донос за доносом поступал султану на валашского князя – нашлись люди, которые будто бы знали тайные мысли Брынковяну: перед самой войной колебался он, на чью сторону встать – вот этого и не простил ему султан.
События многолетней давности вновь вставали перед Кантемиром, и он опять и опять убеждал себя, что поступил правильно, что он всё сделал для своего народа...
– Шестерых его сыновей и его самого привезли в султанский дворец. Брынковяну стоял на коленях перед султаном и смотрел, как отрубали головы его сыновьям. Говорят, что его чёрная шевелюра мгновенно покрылась белым инеем, когда отскочила голова его первого, старшего сына, и уже потом медленно седела на глазах... Шестерых сыновей казнил султан, а затем отрубил палач голову и самому Брынковяну. Это ли не мученическая смерть?
Толстой замолчал, и все за столом долго сидели в безмолвии, потрясённые страшной картиной этих событий, уже прочно отложившихся в памяти.
Как и всегда водилось в застолье, разговор переключился на политику.
Пётр Андреевич рассказывал все свежие новости, от которых далёк был Кантемир и о которых хорошо знал он сам, служа по-прежнему в Посольском приказе, Посольской канцелярии, которую не минула ни одна бумага государственного значения.
И прежде всего рассказал Пётр Андреевич, какова была дальнейшая судьба шведского короля Карла XII.
Русскому царю всё-таки удалось добиться от Порты высылки короля из турецких пределов, да и турки сами устали от присутствия капризного, непостоянного и плетущего интриги короля.
Он инкогнито вынужден был проехать через всю Польшу и явился в город Штральзунд, который уже осаждали союзники – к Петру примкнули Ганновер и Бранденбург.
Карл воодушевлял защитников, с пеной у рта утверждал, что город не может быть взят русской или, хуже того, союзнической армией, хотя в стане воинов было больше солдат из России, чем из Бранденбурга и Ганновера, вместе взятых.
Однако все хвастливые слова Карла оказались лишь пустой болтовнёй – город был взят, и Карлу опять пришлось бежать.
А когда был взят и Висмар, последний оплот шведского короля в Германии, Карл и вовсе приуныл: приходилось возвращаться в Швецию побеждённым, поднявшим руки...
Но союзники, как известно, никогда не бывают чересчур верными – в союзническом стане начались несогласия.
И Бранденбургу, и Ганноверу, маленьким немецким княжествам, сильно не нравилось всё усиливавшееся влияние русского царя.
А уж когда он выдал замуж свою вторую племянницу, Екатерину, дочку брата Ивана, за герцога Мекленбургского, тут и вовсе начались настоящие распри. Дело дошло до того, что союзники не впустили русские войска в Висмар...
Пётр предполагал осуществить морскую экспедицию в Швецию, высадить туда десант союзных войск, захватить часть территории и вынудить шведского короля к миру. Но союзники так долго и подозрительно спорили и упирались, что высадка расстроилась.
С этой минуты Пётр решил действовать самостоятельно...
Всё это Толстой излагал с лёгкой усмешкой, которая никогда не сходила с его уст.
Он словно бы просто рассказывал, но в этой его усмешке было всё: и презрение к низменным интересам мелких германских князьков, их нежеланию допустить Россию до возвышения, и осуждение Петра, всё ещё никак не решавшегося освободиться от тягостной опеки этих князьков.
Вместе с тем сообщил Толстой и новость: на пути в Европу, которую Пётр собирался объехать, чтобы снова и снова навести мосты между могущественными державами, заполучить более деятельных и дружественных союзников, хотел он заскочить в Москву на несколько дней, проведать старую московскую знать, узнать, как ленивая Москва выполняет его многочисленные указы.
А в Европу Пётр намеревался ехать ещё и потому, что уже шли переговоры о свадьбе его младшей дочери, Елизаветы, с французским королём Людовиком XV.
Ах, как лелеял Пётр эту мечту – дочку свою выдать за короля французского, чтобы получить и с этой стороны подкрепление и опору!
– Только вряд ли француз захочет иметь дело с нашей принцессой, – рассудительно заметил Толстой, – нос воротят они, французы, от нашей царицы, бывшей прачки, да и от незаконнорождённой Елизаветы, хоть она и красива, и умна, и ослепительна. Но подгадила её родословная: в Европе и слышать не хотят о незаконнорождённых невестах...
Во всей рассказах Толстого Кантемир уловил только одно: слишком занят русский царь войной на севере, слишком уж страдает он за битву со Швецией, и теперь уже не надо ждать, чтобы повернулся Пётр лицом к югу, к Чёрному морю, встал за освобождение Молдавии и всех Балкан от османского ига.
Печаль отразилась в его больших ясных глазах, веки приспустились над ними, и две морщины, глубокие и резкие, прорезали его высокий лоб.
Нет, не будет воевать царь за его страну – что ему какая-то крохотная Молдавия, когда её владетель, господарь молдавский, живёт в России в довольстве, богатстве, даже в роскоши...
Эти чёрные думы мешали Дмитрию высказать Петру Андреевичу все свои заботы – а хотелось ему поведать, что уже многое написал, ещё более задумал, что работа ждёт его с утра до позднего вечера, и не бывает для него лишнего, свободного от труда времени, что даже все домашние заботы переложил он на свою старшую дочь, и она, хранительница его очага, исправно и добросовестно несёт это бремя...
Но Пётр Андреевич и сам видел, что хозяйкой в доме стала Мария: ей на ухо шептали что-то слуги, и она властно распоряжалась, к ней подходил управитель имениями и всем домашним хозяйством, разодетый в шёлковую ливрею домоправитель и тоже о чём-то шептались с ней.
Долго не кончалась беседа за круглым обильным столом в саду Кантемира.
Вот уже и небо притухло, и первые неяркие звёздочки появились на тёмно-синем пологе небосвода, вот уже слуги внесли и факелы, и лампы, и закружилось вокруг огня несметное множество мошек и бабочек, мотыльков и комаров, и Мария несмело предложила отцу и его гостю пройти в дом, на мягкие диваны и кресла, в обширные и роскошные покои.
– Да ведь я так и не видел твоего дома, князь, – спохватился Толстой.
– Увидишь, Пётр Андреич, завтра, ты ж ведь ночуешь у нас.
– А и то, – просто согласился Толстой, – где ни спать, только бы не спать. Стариковский сон такой лёгкий: припал к подушке на полчаса-час – вот уж и сна ни в одном глазу.
– Мы и в новые шахматы поиграем, – предложил Кантемир, – так давно не сражался я с хорошим противником...
– А что, не с кем разве играть? – удивился Толстой.
Он прекрасно помнил, как интересно и весело играла в шахматы Мария ещё в Стамбуле.
– Дочке всё некогда, у неё хозяйских дел невпроворот, – смутился князь, – да и мне, признаться, не хочется ни с кем перекинуться партией: слишком уж много невзгод навалилось...
Но он прикусил язык: не стоит показывать Петру Андреевичу, что смутен он и невесел, что грызёт его тоска по прошлому, и хоть и некогда ему даже вздохнуть – всё время уходит на писанину, – а всё же не хватает живого, настоящего дела...
И это подметил Толстой.
Семисвечные канделябры ярко освещали покои Кантемира, когда они с Толстым уселись за маленький круглый столик в мягкие и широкие кресла.
Рядом, на другом столике, поставлены были кальян, кофе и сладкая вода, припорошённая лепестками розы.
– Обновим, князь, шахматы русского царя, – засмеялся Толстой, присаживаясь к столику.
Мария, которая держала свечу, сопровождая их через анфиладу комнат, чуть не упала: она вдруг возревновала, что не она первая станет играть в Петровы шахматы, не она первая будет переставлять их с места на место, держать в пальцах и любовно оглаживать.
– А вот это если разрешит хозяйка шахмат, – засмеялся и Кантемир.
– Только с условием, что первой буду играть я, – сурово, даже несколько отстранённо сказала Мария.
Толстой искоса взглянул на Кантемира, и тот поспешно ответил:
– Конечно, конечно, коли не возражает гость, что придётся играть с девицей...
– Девица-то девица, а ума – палата, – бормотнул про себя Толстой, – только уж не обессудьте, всё забыл в этом басурманском плену, проиграю – знайте, что это из-за Семибашенного замка...
– Нечего отговариваться, – рассмеялась наконец и Мария. – Знаю я, как вы умеете отшутиться, а сами, небось, с первых трёх ходов загоните меня в угол...
Они сели по обе стороны круглого маленького столика, а Кантемир поместился рядом, изредка взглядывая на доску, попивая кофе и потягивая сладостный дым кальяна.
С каким же трепетом, с какой любовью взяла Мария в руки удивительные, изящно выточенные тяжёлые фигуры! Как предельно точно были вырезаны густые гривы коней, обточены зубцы крепостей-ладей и обведены резцом тонкие зубчики королевских корон!
Каким же нужно быть умельцем и любителем прекрасного, чтобы так выточить эти резные фигуры, так их отшлифовать, чтобы они сверкали в неверном пламени свечей, отливали блеском и перламутром...
И всю игру она даже не думала о ходах, а просто любовалась этими фигурами, и всё время перед её глазами стояли большие и сильные руки Петра, державшего эти фигуры, обтачивающего их на станке...
Потому она и проиграла сразу же, едва Пётр Андреевич погрузился в раздумье по поводу очередного хода.
– Поддалась, – безошибочно определил Толстой, когда она вскочила со своего места, чтобы уступить его отцу, – и зря, раньше ты хорошо играла. Ну и что – гость, могла бы и уважить старика, а не поддаваться ему так сразу...
– Да что вы, Пётр Андреич, – смеялась Мария, – это вы играете хорошо, и я вовсе вам не поддавалась...
Она села рядом и стала наблюдать за игрой. Толстой и Кантемир играли сосредоточенно и долго, думали над каждым ходом и не мешали Марии снова и снова любоваться красивыми шахматными фигурами, выточенными руками её рыцаря из мечты...
Они долго сидели при свечах, и Мария изредка вставала, чтобы удалить с них нагар, приказать принести новые кувшины сладкой воды со льдом из погреба, сварить новые порции кофе и заправить чубуки свежим душистым табаком.
Мария всё ждала, когда отец и Толстой закончат игру, чтобы унести, спрятать подальше от посторонних глаз дорогой для неё подарок, в который раз рассматривать его, и любоваться, и уходить в мечты так далеко, что реальность не сразу могла ворваться в её сознание...
Изредка отец и Толстой перебрасывались словами, и из них узнала она многие новости, бывшие уже старыми при петербургском дворе.
– У царицы теперь свой штат, – бросил Толстой, – вот бы и Марию к ней во фрейлины определить...
Кантемир неопределённо пожал плечами – он весь был во власти игры, и новости доходили до него словно бы издалека и какие-то нереальные, а Мария сразу вспыхнула.
Ей вспомнилась широкая, неуклюжая фигура Екатерины, её толстые пальцы, вздёрнутый нос и томные карие глаза, единственной целью которых была одна лишь страсть.
«О нет, только не это, – сразу же подумала она, – не дай мне Бог быть фрейлиной при царицыном дворе. Мне ли, наследнице и потомку византийских императоров, поклоняться шведской прачке?»
Она даже вздрогнула от нелепости этой мысли и тихонько сказала:
– Мне слишком нравится моё уединение, чтобы я согласилась быть при дворе новой царицы...
Толстой едва взглянул на Марию, тоже ещё во власти игры, но всё же понял её затаённые мысли, и опять знакомая усмешка искривила его губы.
«Гнушается, – брезгливо подумал он, – как же, кровь византийских императоров в ней...»
Но мысль мелькнула и пропала, а затем и вовсе испарилась из памяти старика, занятого игрой с серьёзным и уравновешенным противником.
Мария то и дело вскакивала, чтобы проверить, улеглись ли братья, всё ли заперто во дворе, приготовлена ли постель для гостя, и снова возвращалась, и снова следила за перипетиями игры, и любовалась отполированными изящными шахматными фигурами.
– Ох-ох, – поднялся наконец из-за столика Толстой, – старые косточки требуют отдыха...
Он протянул руку Кантемиру – удобная, долгая и красивая ничья устроила обоих.
Потрясли руки, поулыбались, и Мария проводила Толстого в его покои – всё здесь было приготовлено для старика с удобством, любовью и заботой.
– Что, не замужем ещё? – осторожно спросил Толстой, когда она собралась уходить из его комнаты.
– Пётр Андреич, скажете тоже, – смутилась вдруг Мария, – на кого брошу я отца, братьев, как оставлю дом без женского пригляда, без женского глаза, одна ведь я осталась в этой семье из женщин...
Толстой долго смотрел немного подслеповатыми стариковскими глазами в лицо Марии.
– А молодость уходит, – вдруг напомнил он, – заботы заботами, а твоя жизнь – это твоя судьба, а не судьба твоего отца или твоих братьев. Надобно немного подумать и о себе. Или не сватают? – сощурился он. – Так быть того не может, сама ты красавица, да и приданое небось отец выделил бы богатейшее...
– Ах, Пётр Андреич, – расчувствовалась и Мария, – сватается тут грузинский царевич, тоже из этих, которых русский царь приветил.
– И что же? – заинтересованно спросил Толстой.
– А условие поставил, чтобы язык его выучила, прежде чем к венцу пойду. Сам-то он не может никакого другого постичь, кроме своего грузинского.
– И что ж ты? – опять спросил Толстой.
– Да отказала я ему. Что это ещё за условие, если ты такой тупица, что даже не можешь русского осилить, живя в России! Как же с тобой жить? Осёл ослом, – закончила она.
– А быть может, человек хороший, – сожалеючи отозвался Толстой.
Мария только передёрнула плечами.
– Ну, тебе жить, тебе и судить, – заключил старик и позвал слугу, чтобы помогли ему переодеться ко сну.
Мария ушла к себе, наконец-то обретя свой драгоценный подарок, и полночи, сидя у открытого в сад окна, всё вертела и вертела перед глазами эти удивительные фигурки из слоновой кости.
Они напомнили ей о далёком детстве, когда такой же вот драгоценный подарок Толстого – прелестную куклу из слоновой кости – изломали турецкие девчонки.
И она сказала себе, что уж этот подарок будет хранить до самой своей смерти и никому не позволит надругаться над его красотой...
Ярко светила луна, и в этом неверном перламутровом свете тускло светились шахматные фигуры, и Мария тайком прижимала их к губам, целовала и чувствовала, что как будто целует намозоленные грубые и тяжёлые руки Петра.
Её вдруг словно бы окатывало холодной волной: зачем так много думает она о самом могущественном из владетелей мира, почему не выходят из её памяти его руки, выпуклые яростные глаза, его усы над короткой верхней губой и нежный, беспомощный округлый подбородок?
«Не бывает так, – тогда думала она, – чтобы повелитель обращал внимание на самую последнюю из своих подданных, на изгнанницу, пусть даже она и императорского рода...»
И снова ревность и зависть сжигали её: как эта грубая, неуклюжая женщина могла покорить сердце такого рыцаря, как могла она приковать его к себе такими тяжёлыми цепями, что он даже женился на ней?
Она была не в состоянии постичь это, понять, как не видит он в Екатерине всех знаков её низкого происхождения, и горько думала, что ей, Марии, не дано, видимо, покорить сердце и разум мужчины, стоящего высоко и далеко...
Ранним утром, едва восток слегка покрылся розоватой дымкой, у крыльца уже стояла карета Толстого.
Он распрощался с гостеприимным домом Кантемиров, кинул лукавый взгляд на Марию, вышедшую на крыльцо в утреннем белом платье и плоёном чепчике, и умчался на своих вороных.
Долго с грустью смотрел ему вслед Кантемир: как-то не сошёлся он близко с московской знатью, и не было у него тут друзей и родных, и вот один только близкий друг, крестный отец Марии, побывал, посветил, как красное солнышко, и вот уже опять его нет, и на смену интересным разговорам и радости встречи пришли опять повседневные дела, будничные и однообразные заботы...
А Толстой встретил на дороге из Петербурга в Москву запылённую тройку Петра – царь ехал в Москву раньше, чем предполагал.
Он пригласил Толстого в свою кибитку без всяких знаков царского достоинства и принялся выспрашивать, зачем тот ездил в Москву, кого видел, с кем долго разговаривал.
– Скучает князь Кантемир, – сказал Толстой о своём посещении этого дома, – пишет, пишет, многие уж книги написал, а глаза скучные, совсем затосковал...
– Не дадим скучать сему учёному мужу, – весело откликнулся Пётр, – он нам зело пригодится...
– Супруга его преставилась, дочка вслед ушла, осталась из женского пола одна Мария – старшая, на неё и взвалил князь все заботы по имениям и по дому – управляется, и ах, хороша девка, – прищёлкнул Толстой языком. – Язык что бритва, с любым умеет говорить, да так, что опасаться приходится, как бы не обрезала...
Пётр покосился на Толстого.
– Уж не присмотрел ли ты её себе? – ядовито заметил он.
– Да что ж мне делать с молодой-то женой! – захохотал Толстой. – Годочки мои уже не те, что у Шереметева, ему-то всего шестьдесят было, когда он вновь оженился, а мне уже за семьдесят, того и гляди сойду в могилу...
– Ты мне нужен, и потому не сметь даже заводить такие разговоры.
Пётр призадумался.
– А княжне мы поможем, – вдруг весело сказал он, – присмотрим для князя деваху хорошую – вот и станет она хозяйкой вместо княжны. А Марию замуж выдадим...
Он расхохотался, довольный, что может осчастливить таким исходом и самого Кантемира, и его дочь, которую всё ещё помнил голенастой угловатой одиннадцатилетней девчонкой, хорошо игравшей в шахматы.
– И в Сенат введу князя, – задумчиво сказал Пётр, – умные люди мне сильно важны.