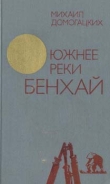Текст книги "Проклятие визиря. Мария Кантемир"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 31 страниц)
Долго вглядывалась княжна в своё отражение на гладком поле зеркала – неужели это с снова она, свежая, сияющая, смугловато-розовая, с весёлыми зелёными глазами, с пунцовыми, прихотливо изогнутыми губами? Где же тёмные пятна на щеках, где синие круги под глазами, где побледневшие губы и морщинки около рта?
Ничего этого не было – на неё смотрела спокойная красавица с роскошными локонами, выбивающимися из-под всегдашнего чепчика, с тёмными полукружиями бровей, вздымающихся над яркими зелёными глазами.
Мария не узнавала себя и то смеялась, то строила рожи своему отражению – не могла поверить, что опять стала той же красавицей, что и была три года назад.
И она распахнула окна в своём петербургском доме – хоть и пришла осень, и в самом разгаре листопад, и жёлтые листья падают в её открытое и продуваемое холодным ветром окно, но ей казалось, что снова наступила весна, что не зимняя скучная пора грядёт за этим жёлтым листопадом, а цветущее лето с яркими головками синих васильков и качающимися тонкими стебельками лютиков...
В душе её впервые за долгое время поселились покой, мир, она теперь жила в ладу с самой собой, старалась не вспоминать о вещах, для неё ушедших в даль времён, – о своей любви, о своём погибшем сыне и умершем отце, – она вновь стала весела и нарядна...
Однажды утром, широко распахнув окно, хоть и дул в него сильный северный ветер, княжна услышала равнодушные громкие слова глашатая, читавшего какой-то царский указ.
Едва разбирая слова, она высунулась из окна подальше и начала напряжённо вслушиваться в слова манифеста:
«1724 года, в пятнадцатый день, по указу Его Величества и Самодержца Императора Всероссийского объявляется во всенародное ведение: завтра, то есть 16-го числа сего ноября, в 10-м часу пред полуднем, будет на Троицкой площади экзекуция бывшему камергеру Виллиму Монсу, да сестре его Балкше, да подьячему Столетову Егору, камер-лакею Ивану Балакиреву – за их плутовство такое: что Монс, и его сестра, и Егор Столетов, будучи при дворе его величества, вступали в дела, противные указам Его Величества, не по своему чину укрывали винных плутов от обличения вин их и брали за то великие взятки – и Балакирев в том Монсу и прочим служил. А подлинное описание вин их будет объявлено при экзекуции...»
«Боже мой, – подумалось Марии, – я ведь знаю этого Монса, щёголь и фат, ещё спорила с ним в оценке литературных опусов европейских, и вот будет экзекуция». В чём провинился этот изящный дамский сердцеед? Она и сама получила от него нежную цидулку, написанную латинскими буквами, но русскими словами, и долго хохотала над ней, так и не ответив изящному поклоннику...
И тут же решила: надо пойти поглядеть на этого тощего франта, увидеть, как судьба распоряжается людьми...
Утром, едва только рассвело, она в сопровождении двух слуг отправилась на Троицкую площадь и безмерно удивилась: вся площадь была заполнена народом, её коляска не могла проехать, ей пришлось спуститься и прокладывать себе дорогу в толпе с помощью слуг.
Однако она пробралась возможно ближе к эшафоту, уже сооружённому на Троицкой площади. Высокий помост открывал собравшимся страшное зрелище палача-ката в красной, словно факел, рубахе, с острым топором за поясом, расхаживавшего по эшафоту. Тут же примостились трое его помощников, вытягивая из чана с солёной водой длинные заскорузлые кнуты, пропуская их ремни сквозь пальцы и стряхивая капли солёной воды прямо на помост.
Они горделиво выставляли себя напоказ – это был час их торжества, их работы, ими любовался и их страшился весь народ, собравшийся в такой ранний час на площади.
У края эшафота вытянулся длинный толстый шест с заострённым концом – на этот шест взденут голову казнённого, и она много месяцев будет пугать горожан.
Мария стояла долго и уже приготовилась к тому, чтобы покинуть эту площадь, и даже ругала себя: зачем пошла, стой вот теперь среди черни, среди грубых и любопытствующих людей, которым не в диковину эти мрачные зрелища.
Но раздались крики, всадники на конях замаячили в толпе, разгоняя её кнутами, и развалюха телега стала пробираться к месту казни. На скамейке посреди телеги сидел человек в нагольном тулупе, с обнажённой головой, он не смотрел на толпу, на эшафот и словно бы уже умер – настолько равнодушными были его взгляд и лицо.
Мария узнала Монса, но это было не напомаженное и надушенное лицо щёголя и франта, теперь это был измождённый и бледный лик мученика, прошедшего через все мыслимые унижения.
Она ахнула – нет, это вовсе не тот Монс, который написал ей любовную цидулку по-латыни, но русскими словами, не тот, кто сочинял стихи, не тот, кто безумно нравился всем дамам.
И Мария снова попыталась было уйти, но толпа так сдавила её и её слуг, что они не смогли выбраться и вынуждены были просмотреть всю церемонию экзекуции.
Следом за Монсом ехала такая же телега, в которой сидела простоволосая, в рваной шубейке всесильная Матрёна Балк, а за ней пешком шли ещё двое. Их Мария не знала...
Медленно, едва переставляя ноги, поднялся бывший камергер на высокий помост, следом взобрался протестантский пастор, отпустил ему грехи, перекрестил его и предоставил палачу делать своё дело.
Палач играючи подошёл к Монсу, когда тот передавал пастору последний подарок – драгоценные часы с бриллиантовым портретом Екатерины. Палач недовольно покосился на часы: не ему достались, а этому чёрному пастору, не нашей всё-таки веры...
Он сбросил нагольный тулуп с плеч Монса, и тот предстал перед толпой в длинной белой полотняной рубахе без воротника.
Телега с Матрёной Балк и двумя привязанными сзади осуждёнными остановилась перед самым помостом, и только тут узнала Мария, что вменялось в вину Монсу и его сообщникам. Монс руководил Вотчинной канцелярией, получал несметные богатства для неё и часть их утаивал, они растворялись в его бездонном кармане. Перечислялись взятки и казнокрадство, назывались такие суммы, что толпа заволновалась: она уже теперь жаждала сама расправиться с этими лихоимцами – на Руси никогда не любили богатых, а уж богатых за счёт их, бедных, вдвойне...
Царский указ вместе с судебным приговором был зачитан громко, и толпа внимала каждому слову.
И сразу после зачтения указа Монса подвели к плахе, заставили встать перед нею на колени и положить голову на высокий обрубок пня.
Палач взмахнул топором, и голова скатилась к краю помоста. Палач не дал ей упасть в толпу, он схватил отрубленную голову за волосы и показал всему народу, на все четыре стороны, потом взобрался по крохотным ступенькам и насадил её на шест.
Пенная струя крови текла по ошкуренному стволу шеста, затем на край помоста начали падать капли через равные промежутки времени, и все эти звуки слышала Мария и слышала вся толпа – всё замерло на огромной Троицкой площади, сплошь забитой телами...
Экзекуцию Матрёны Мария не видела – она всё слушала падение этих звонких капель крови на край помоста и невольно ждала следующую казнь.
А Матрёну, тоже в длинной белой рубахе, подвели к узкой, покрытой кожей скамье, положили на неё, задрали подол до самых плеч, стянули ремнями тело под мышками, привязали руки и ноги и только тогда стали отсчитывать удары кнута. С каждым ударом кровь брызгала во все стороны, и Мария отворачивалась, чтобы не видеть этого варварского зрелища...
Матрёна уже давно была без сознания, когда кончились эти сто лютых ударов. Её завернули в её же рубаху, отвязали от скамьи и бросили в телегу, прикрыв сверху тулупом Монса.
Матрёну отправили в Тобольск, в ссылку, а пособников её – Егора Столетова и Ивана Балакирева – отослали на каторжные работы в Сибирь. Едва живая доплелась Мария домой, ругала себя за то, что пошла на площадь, но тут же успокаивала себя тем, что должна знать, чем живёт, что переживает её кумир. Не верилось, что он так жесток, но оправдание этому видела она в том, что таков век, что жестокость ещё не ушла из душ людей. И знала, что безжалостен Пётр, знала, что положил горы трупов, по колено стоит в крови, и всё-таки любила его, восхищалась его делами, хотя и содрогалась от них...
Постепенно проникла она и в тайну разоблачения Монса – догадалась, что не сам камергер устраивал такое, что тут должна быть замешана императрица, что Пётр разочарован и в жене, и рвалась помочь ему, но пока что он не приходил к ней и не звал её во дворец.
Какую мучительную драму переживает он теперь, догадывалась она смутно и жалела лишь о том, что не может прийти ему на помощь...
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Ещё перед Персидским походом Пётр написал завещание, два пакета разослал он в Святейший Синод и в Сенат и один оставил в своём заветном бюро в конторке – комнате, где он обычно не только работал, но и часто ночевал.
Дело Монса перевернуло всю его душу, – Пётр убедился, что все люди лживы и думают лишь о своей выгоде. Подтвердило его теперешние воззрения и дело тобольского губернатора Гагарина, так воровавшего из казны, так обиравшего окрестных помещиков и крестьян, что даже они, всегда покорные, молчаливые, терпеливые, возмутились и отрядили ходоков к императору, рассказали, как лютует тобольский губернатор.
И снова вызвал Пётр Толстого, поручил ему дознание и дотошное расследование. Всё оказалось правдой, и Пётр приказал привезти Гагарина, устроить ему пыточные истязания, а потом повесить на площади, чтобы народ знал, за что казнён этот спесивый родовитый боярин.
Два месяца болтался на верёвке посреди площади Гагарин, и ужасом, ледяным страхом обливалось сердце каждого из власть имущих: никто не был чист, у всех рыльце оказывалось в пушку, и наказания ждали.
Уж на что малость как будто затребовал много сделавший для царя Шафиров, но и он не избежал наказания. Просто-напросто приписал брату своему не полагающееся тому жалованье, да уличили его свои же товарищи, и хоть и скор был на язык Шафиров, да не отговорился: царь приказал сослать его в Сибирь, лишив всего имущества...
Суров стал государь в последнее время, а после дела Монса и вовсе лютовал так, что все придворные прятались, едва тяжёлые его шаги слышались на бесконечных лестницах и в узких переходах дворца.
Дрожал даже всесильный Меншиков – обнаружились и у него такие хищения, что все другие меркли перед ними: приписал себе к городу Почепу, подаренному ему Петром, многие земли, завладел незаконно, отнимая у других дворян, не глядя ни на бедность, ни на знатность...
И вот теперь – измена Екатерины. Мало что спала с этим субтильным красавчиком, так ещё и счёт себе завела в Амстердамском банке, и Пётр понимал, чего ради собирала она деньги: не надеялась на мужа, надеялась на европейских банкиров. Приказал арестовать все её счета и подложные, на имена придворных статс-дам, и вышла очень даже кругленькая сумма – почти годовой бюджет огромной державы...
Казнил бы и её, да оказался связанным по рукам и ногам. 24 ноября должно было состояться обручение Анны, старшей дочери, с голштинским герцогом Карлом-Фридрихом, а союз этот очень важен был для России, и договаривались со многими европейскими престолами о замужестве Елизаветы.
Понимала Екатерина, что лишь эти соображения оставили её в живых, тряслась от страха и с ненавистью думала о стольких пережитых ею годах в обществе мужа. Понимала, что пройдёт время – и упечёт её в монастырь Пётр, загонит в монашескую келью, как загнал Евдокию, первую жену. И металась в поисках решения. Но лицо было, как всегда, весёлым и непроницаемым: научилась она скрывать свои мысли, свои чувства – знала, сколько шпионов вокруг и каждое слово может быть донесено и доложено Петру.
Не ведал Пётр, чем донять супругу, чем уязвить, чем пробить её беспримерное спокойствие. Возил на Троицкую площадь, где красовалась на высоком шесте сморщенная, почерневшая голова Монса, подвергшаяся нападению ворон: выклеваны были глаза и губы, и страшное зрелище представляла собой эта отрубленная голова.
– Смотри, смотри, – говорил Пётр, – видишь, что бывает с теми, кто...
Он не докончил фразу – спазмы ярости уже перехватили его горло.
Но Екатерина, выглянув в окошко кареты, спокойно повернулась к царю и нарочито равнодушным тоном сказала:
– Надо же, какие бывают придворные испорченные...
И ничего, ни малейшего волнения не уловил Пётр на её всё ещё свежем лице.
Он приказал снять голову с шеста, положить в спирт и поставить на прикроватный столик Екатерины.
И даже тут не проявила страха Екатерина – нельзя было показывать Петру ни малейшего признака взволнованности или слабости, она от всего отпиралась, сваливала всё на испорченного Монса, и Пётр так и остался в сомнениях, изменяла ли ему жена с этим кудрявым мальчишкой. По Монсу – да, по Толстому – да, спала с ним, а она отказывалась, хоть и твердила одно: «Прости, государь...»
Горестно думал про себя Пётр: подлое происхождение выдаёт себя на каждом шагу, низменность натуры всегда проявится. Вот и Алексашка Меншиков: озолотил ведь его, сделал князем Священной Римской империи, – как говорится, из грязи да в князи, – а алчность его с годами лишь возрастает – уже не разбирает где своё, а где казённое.
Убрал его из Военной коллегии, но пока оставил за ним все полки – Ингерманландский, Преображенский и другие, – пока ещё всесилен друг его детских лет, сподвижник, прошедший с ним огонь, и воду, и медные трубы. Но и ему не миновать кары...
И ох как понимал это Меншиков – тосковала душа его, готовилась к смертному часу. Царь больше не звал его во дворец, не судил с ним о планах и начинаниях и уже не поручал ему ни одного значительного дела.
Улучив момент, заехал к Екатерине – всегдашней своей заступнице, благодетельнице и сообщнице: старая любовь, видно, не ржавеет, а Екатерина хорошо помнила страстные ночи в постели у Меншикова.
Она пришла в свою приёмную залу глубоко взволнованная, хоть и старалась не показать виду. Только что Пётр разбил перед ней огромное венецианское зеркало, много лет назад привезённое из самой Венеции, украшенное резными бронзовыми амурчиками и тяжёлыми виноградными золотыми гроздьями, стоявшее на драгоценном столике из красного дерева, тоже изукрашенного самыми разными рисунками и позолотой.
Смотрел Пётр на жену, изучающе, словно пытаясь проникнуть в тайные её мысли. Она мельком увидела себя в зеркале и снова приняла вид спокойный и равнодушный.
Он не мог вынести этого спокойного и равнодушного вида, подскочил к зеркалу, тяжёлой табуреткой бахнул по чистому серебряному стеклу. Посыпались осколки, и в каждом отражалась Екатерина:
– Вот что будет с самым драгоценным в этом дворце! – крикнул он яростно.
Ему хотелось броситься на жену с кулаками, избить, истоптать ботфортами, но какая-то внутренняя тяжесть останавливала его...
Она глянула на осколки, торчащие с боков прекрасной рамы, – словно клинки острых ножей, впивались они в её сердце.
Пересилила себя, сказала бодрым и невозмутимым тоном:
– Разве от этого станет твой дворец красивее?
И эти спокойные слова враз утихомирили Петра. Размашистыми и твёрдыми шагами он поспешно ушёл в свою конторку – кабинет, где стоял его токарный станок, кружилось чудище глобуса, краснела широкая вогнутость бюро и громоздились предметы, которые всё ещё ждали его искусной руки...
Екатерина увидела в приёмной зале Меншикова и слегка кивнула ему головой: мол, пройдём дальше, в будуар, где нет лишних ушей.
– Худо, матушка, худо, – едва не заплакал Александр Данилович.
– Да уж хуже не бывает, – согласилась Екатерина.
Оба посмотрели друг на друга. И оба молча кивнули головами – поняли, что думают об одном и том же – рецептике Монса, что передал он ей в пору их высшего сближения.
Никто из них не произнёс ни слова. Но Меншиков и без того знал, что спать не ложился Пётр без успокоительного отвара, каждый вечер приготовляемого самой Екатериной.
– Пьёт? – нерешительно спросил Меншиков.
Она опять безмолвно кивнула головой. И снова замолчали, и снова думали об одном и том же.
Разошлись, каждый молчал о том, о чём думалось обоим...
Пётр потребовал пакеты со своим завещанием из Синода и Сената и вынул из конторки третий экземпляр завещания.
Он читал и перечитывал строки этого письма, которое составлял в надежде, что его любимая жена всегда будет так же покорна и верна ему. Конечно, он не был святым – перепробовал всех фрейлин из окружения Екатерины. А с Анной Гамильтон пришлось даже расправиться. Она делила ложе не только с Петром, но и с его денщиком Орловым. Забеременев неизвестно от кого из них двух, она твердо решила, что ребёнка у неё не будет, пусть даже это побочный сын Петра. И убила новорождённое дитя, и сумела похоронить его в саду. Но всегда тайное становится явным, если оно известно двоим, а не одному, умеющему глубоко спрятать тайну. Орлов знал об этом и проболтался...
Пётр пришёл в ярость: пусть это был внебрачный ребёнок, но убивать ни в чём не повинное дитя было, по его глубокому убеждению, самым отвратительным варварством.
И опять в дело вступил Пётр Андреевич Толстой – ему не надо было много времени, чтобы убедить Анну, фрейлину Екатерины, сознаться в великом грехе, даже пытки оказались не нужны. Анна призналась, и Пётр потребовал от судей самого жестокого наказания. Анну приговорили к отрубанию головы.
Осуждённая до самой последней минуты не верила, что Пётр, которого она так нежно ласкала, не простит её. На эшафот она оделась как на праздник – знала, что сам царь будет присутствовать при совершении казни, и была уверена, что в последнюю минуту он помилует её.
Но белое нарядное платье и узенькие белые туфельки не помогли: Пётр не помиловал Анну, и ей пришлось опуститься на колени и положить голову на плаху.
Кат взмахнул острым топором, и прелестная головка фрейлины скатилась к его ногам. Крови было немного, чудесные белокурые волосы Анны даже не испачкались в кровавой пене.
Пётр подошёл к отрубленной голове, поднял её за белокурые волосы, крепко поцеловал прямо в губы и бросил в корзину...
Он мог позволить себе всё, что угодно, даже короновать прачку ливонскую, иметь бесчисленное количество любовниц, к которым не привязывался нисколько душой, а всего лишь утолял свою плоть. Но его душа возмутилась, когда узнал он про измену Екатерины, – дух «Домостроя», который вышибал он много лет из своих бояр, оказался в нём крепче, чем наносная европейская культура, откуда брал он только то, что было ему нужно для работы, для практики, – математику, картографию, геодезию, корабельное строительство. И немало усмехался, когда говорили ему о какой-либо книге, не посвящённой этим предметам. Он отбрасывал в сторону всё, что не касалось дела...
Теперь он сидел перед горящим камином с тремя пакетами в руках, снова и снова перечитывал строчки своего давнего завещания, отрывал клочки прочитанного и бросал их в огонь. Как будто жёг своё прошлое, сгорала на огне его жаркая любовь к Екатерине, его всё ещё не остывшая привязанность к ней.
Пётр долго сидел в раздумье, мучительно обозревая будущее: что ждёт его страну, его флот, если он уйдёт из жизни? А завещание – это последняя ступенька перед смертью, но он не хотел умирать: ещё столько надо было сделать, столько построить кораблей, заводов для выплавки железа, столько отлить самых громадных пушек – сколько всего ещё ждало его...
Он чувствовал, что силы его не на исходе, он по-прежнему мог выковать трёхпудовую калёную полосу железа, по-прежнему мог держать галс на корабле, знал чётко названия всех парусов, он всё ещё жил своей трудовой жизнью.
Но Екатерина...
Последние дни он не входил к ней, не обедал вместе с ней, даже не разговаривал, и тяжёлые мысли не оставляли его.
Да, надо развязаться со всеми заботами, выдать девчонок замуж, а потом уж расправиться с Екатериной – неповадно было бы никому так ущемлять его сердце...
И умилительная мысль пришла ему в голову: сидит теперь в своём пустынном дворце его последняя любовь, его Мария Кантемир, и, верно, глаза всё проглядела, высматривая его в окошко. Но он не видел её нигде, она не показывалась при дворе, хоть и посылались ей приглашения и на балы, и на фейерверки, и на пиршества, – сидела сиднем в четырёх стенах, огорчённая, смущённая и подавленная его невниманием и забывчивостью. Как же мог он оставить её, пусть даже и родился мёртвый мальчик, как мог он позабыть её страстные, жаркие ласки, её нежное и гладкое тело, пенную волну пышных волос, её удивительные сверкающие зелёные глаза?! Она никогда не изменила бы ему, потому что любовь её была чистой, святой, она боготворила его, своего государя и своего любимого, а он просто забыл о ней: в последние месяцы навалилось столько огорчений, что ему вообще ни до кого не было дела...
Он натянул кафтан посвежее, приказал приготовить рогожный возок и незамеченным вышел из дворца. Денщики всё же увязались за царской повозкой, чтобы, не дай Господь, кто-нибудь не обидел царя...
Непритязательный дворец Кантемиров стоял несколько в стороне от величественных дворцов знати, зато позади него располагался тенистый зелёный сад с ухоженными аллеями лип и берёз, разноцветными цветниками и куртинами роз. Взор отдыхал на посыпанных битым кирпичом дорожках, на зелёных полях простой травы, ежедневно подстригаемой, на высоких и мощных стволах дуплистых лип. Но редко кто заглядывал на эту цветниковую и огородную часть усадьбы Кантемиров, только братья Марии носились по траве, изображая скачущих коней, да садовники ворчали, огромными ножницами ровняя кусты букса и боярышника.
Перед фасадом дворца большой двор венчала травянистая дорога, по которой можно было подъехать прямо к крыльцу и сойти лишь у самых ступеней.
Пётр тяжело спрыгнул у крыльца, где уже толпились, ожидая его, управители и слуги покойного князя, служившие теперь и его старшей дочери.
Выскочила на крылечко и она сама – с пышной причёской, заколотой костяными гребнями на макушке и с боков, в глухом траурном платье с высоким тесным воротом, окаймлённым белоснежными оборками, отчего голова её словно бы покоилась на блюде с высокой ножкой. Ни единого украшения, только и видно лицо, бледно-оливковое, с высокими дугами чёрных бровей и пунцовыми губами, яркость которых не притушило и время. И нежные длинные пальчики, на которых не было ни одного колечка...
Мария стояла высоко наверху, на площадке, к которой двумя маршами поднимались мраморные ступеньки, и Пётр видел, что она готова сбежать по лестнице, опуститься на колени перед ним, но он мрачно сдвинул брови, едва пошевелил пальцами и слегка качнул головой – и княжна поняла, что не надо этого делать, он сам поднимется к ней, на высоту её высокого крыльца.
Он и поднялся, широко шагая через две ступеньки, и тут же, на площадке, обнял её, прижал к себе податливое хрупкое тело, расцеловал в обе щеки, в глаза и губы и даже нос не забыл.
– Истосковался я по тебе, Марьюшка, – шепнул Пётр ей на ухо, и она едва не упала от этих слов – так и слышались они ей в её дневных и ночных видениях, эти резкие, чёткие, судорожно произнесённые слова.
– А я-то... – И она чуть не заплакала.
– Ну-ну, не разводи мокрядь, – пошутил он, взял её двумя пальцами за округлый твёрдый подбородок и вгляделся в её лицо.
Нет, не изменило её красоту время, прошедшее с Персидского похода, лишь суше стали губы, да слегка оттенили зелёные глаза голубоватые тени под веками.
И тут же увидел Пётр Толстого – тот стоял в дверях, низко кланяясь и держа руку у сердца, зашитого в золотые галуны.
– Ты-то как тут, Пётр Андреич? – удивился царь. – Аль часто заходишь?
– Часто не часто, а бываю, – сладко пропел Толстой, – крестница ведь моя Марья Дмитриевна, а крестникам положено не только помогать, но и любить их, советовать им. А уж теперь, когда нет князя, кто ж подскажет девице, взявшей на себя такую ношу?
– Какую такую ношу? – нахмурился Пётр.
– А вести дом, в котором четверо сорванцов, один другого озорнее? И быть им вместо родной матери, хоть и сама она сирота...
И с новым интересом взглянул Пётр на Марию – да, она и одета соответственно своему положению: тёмное платье, никаких красок на лице, никаких украшений на шее и в ушах...
– Ну что ж, принимай, хозяйка, гостя, коли мил, – пробасил царь и первым шагнул в высокие сени, из которых вели открытые арки в другие помещения дворца.
Едва мигнула Мария слугам, и вот уже готов стол, накрытый белоснежной скатертью, и уставлена его поверхность серебряными судками с высокими выпуклыми крышками, и расставлены хрустальные бокалы и тонконогие голландские рюмочки.
– А что ж не вижу тебя среди придворных на праздниках да фейерверках? – спросил Пётр между двумя громадными глотками вина и порциями заедок.
Толстой взглянул на Марию.
Она лишь пожала плечами, словно бы это не касалось её.
– Не доходят до неё приглашения твои, государь, – мягко ввернул Толстой, – знать, кому-то не по душе её бытование в царских чертогах.
– А ты, начальник Тайной канцелярии, как будто и не знаешь? – сурово усмехнулся Пётр.
– Знаю, государь-батюшка, да каждый раз всё по-разному: то на столе в почтовой забыли, то кто-то бросил не туда, куда надо, то слуги оказались нерасторопные.
– Не нужно только никого наказывать, – тихо произнесла Мария. – Бывает случайность, оплошность, да я и не рвусь ко двору – там надо во всём блеске быть, а я всё ещё в трауре по батюшке. Кому я такая унылая да печальная там нужна?
– А для блеску я тебе привёз подарочек.
Пётр торопливо полез в карман кафтана и вынул завёрнутый в тряпицу сувенир.
На свободном пространстве стола он раскинул тряпицу, и взглядам представилось странно сделанное ожерелье из больших плоских янтарных камней, окружённых серебряной вязью со сверкающими по сторонам крохотными алмазами. Тут же лежали тяжёлые подвески из того же янтаря, тоже окружённые искусной серебряной вязью с бриллиантами.
– Сам точил, – похвастал Пётр и указал на срединный камень – широкий и плоский, с вырезанным одной линией портретом царя.
– Не знаю, как и благодарить, – залепетала Мария.
– А не знаешь, так и не благодари, просто носи и помни обо мне, – развеселился Пётр, – помни, что был, мол, такой царь-государь мозолистые руки, сам сапоги тачал, сам кафтаны шил и между прочим и царством своим управлял не хуже других...
Мария вскочила с места, подошла к Петру и готова уже была упасть ему в ноги, но он удержал её, не дал ей опуститься на колени и печально рассматривал её милое лицо.
– Весь опутан, по рукам-ногам связан, – бормотал он едва слышно, – не то бы...
И кинул суровый взгляд на Толстого:
– А ты, старый греховодник, не слышал, чего я тут баю...
– Пётр Андреич составляет мне иногда партию в шахматы, – робко сказала Мария, не зная, как отнестись к царёвым словам.
Толстой дёрнул двойным подбородком.
– Посовестился бы, государь, так о крестном думать, – как будто вспыхнул он.
Хорошо знал царя Толстой, чуял, когда можно и нагрубить ему, чтоб за правду сошло, когда и шутку прибавить, а когда и мёдом да елеем полить...
– Да уж в твои восемьдесят только и бегать за молоденькими девицами, – усмехнулся Пётр.
Он словно бы помолодел. За пустыми разговорами забылись тягостные заботы и обиды, лицо разгладилось, и шустро топорщились неизменные усы над полной верхней губой.
– Пойдём-ка, княжна, примерим обновки, – тяжело встал со стула государь. – А ты, Пётр Андреевич, посиди ещё у стола, закуски и заедки зело хороши, отведай да меня дождись, вместе поедем домой...
Пётр Андреевич и глазом не моргнул, когда царь утащил Марию за руку на её половину, в женские хоромы...
Он и сам не ожидал от себя такого неистовства чувств. Нередко думалось ему: всё, кончился в нём мужик, мужчина, пятьдесят три года, – равнодушно разглядывал придворных красавиц, льстиво ему улыбавшихся, проходил мимо фрейлин и служанок, готовых по первому зову броситься в его постель. Думалось, остыл, с годами урезонился – слишком уж много было в его жизни этих постелей...
Оказалось, нет, но нужна была она, только она, одна-единственная женщина, способная вновь, как в юности, всколыхнуть всё его тело, зарядить всё его мужское естество огромной энергией, – она, одна-единственная, и другой больше было не нужно...
– Ах, какой бы ты была императрицей, – сказал он ей, разморённый и умиротворённый, когда насытил свою страсть и она улеглась, словно сытая кошка, свернувшись в клубок.
– Я и не мечтаю об этом, – тихонько ответила Мария, – на чужом несчастье своё счастье не построишь...
– Все люди думают лишь о себе, все люди хотят лишь себе добра, а ты о каком-то чужом несчастье говоришь, – едва не вспылил он. – Чем дольше я живу, тем больше презираю род людской, – злоба, ненависть, зависть, ложь сокрушают сердца людские и ох как мало праведников, как мало тех, кто несёт добро и свет. И приходится стоять с кнутом и палкой, чтобы вдолбить истины, которые уже столько тысячелетий пытается насадить в людские души сам Господь Бог...
– Слишком много горя пришлось познать тебе, государь, за последнее время, вот ты и ожесточился ко всем людям, – мягко сказала она, – а ведь в человеке всего понемногу намешано, и в самых разных обстоятельствах он самый разный – может быть нежен в одном случае, а в другом как лютый зверь, может быть рыцарем без страха и упрёка, а потом подлецом и вором... Всё зависит от того, в какие обстоятельства попадёт, какая судьба ему выпадет...
– Судьбу свою делать надобно своими руками, – жёстко отозвался Пётр.
– Не скажи, государь. Бог выбирает нам судьбу, но с мыслью тайной, узнать её, понимать её – вот счастье. Раз такова судьба, никуда от неё не денешься – надо страдать или радоваться, веселиться, значит, есть за что...
Он ласково посмотрел на неё.
– Разберусь с делами, – негромко сказал он, – улажу все свои домашние неурядицы и сделаю тебя императрицей. Всем ты взяла: и красотой, и разумом, и образованием. Почему судьба действительно так обошла тебя?
Она легонько приподнялась на локте и взъерошила остатки волос Петра.
– Я не могу жаловаться на свою судьбу. – В её голосе прозвучала и лёгкая печаль, и радость, и нестерпимая мука. – Она подарила мне величайшее счастье – любить самого лучшего из людей, самого достойного и самого красивого...
Она прильнула губами к его губам, и этот поцелуй был благодатным для Петра. Давно он так не отдыхал душой, как теперь, в постели с Марией...
Пётр Андреевич Толстой с удивлением и некоторым недоверием увидел, что государь как будто напитался свежей силой – так мягко было выражение его лица, даже морщинки возле глаз расправились, а голова стала реже трястись, руки спокойно лежали вдоль тела, а не перебирали мелко и часто бахрому кафтана.