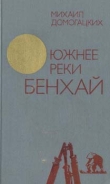Текст книги "Проклятие визиря. Мария Кантемир"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц)
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Ранним июльским утром, когда солнце ещё не позолотило верхушки окрестных холмов, когда на дворе ещё стояла свежая серая муть наступающего дня, словно вихрь ворвался в палаты господарского дома в Яссах, захлопал дверями и дверцами комнат и шкафов, крышками рундуков и укладок, взвинтил до визга голоса невольниц, рабов и самих хозяев дворца.
Вой и плач поднялись в палатах, вынеслись на широкий господарский двор, где спешно увязывались в тюки и тючки лучшие вещи из дома, где высокобортные каруцы[21]21
Каруца – арба, телега, повозка.
[Закрыть] жадно ждали поклажи и готовы были тронуться в путь хоть сию минуту.
Но надо было ждать – днём нельзя было показаться с большим обозом на дорогах, простреливаемых и окружённых турками – нужно было ждать темноты, а пока отбирать то, что могло пригодиться в дороге, то, что понадобится на новом месте жительства.
И второй раз за свою коротенькую жизнь бросала Мария ключи от всех шкафов, сундуков, укладок и палат, ключи, которые она уже привыкла носить на поясе оттягивающей связкой и приятной тяжестью.
Кассандра растерялась, металась по палатам, не зная, за что приняться, что делать, и лишь Мария, несмотря на свои молодые ещё годы – ей всего-то двенадцатый шёл, – сохраняла не только спокойствие и рассудительность, но и предусмотрительность и распоряжалась так, как распорядился бы сам отец, если бы смог приехать за семьёй.
За семьёй отправил он верный отряд своих и русских драгун, способных в случае чего и выдержать бой с турками, и провести обоз с вещами и детьми по тайным тропкам и не знаемым османами дорогам...
Пятеро малых были на совести Марии, и за всеми она присмотрела, всех так распределила по каруцам и возкам, распорядилась так ловко и умело, что даже гетман Некулче, присланный во главе отряда, лишь покачивал головой, глядя, как смело и умно распоряжается молодая госпожа.
Ничего не забыла Мария: ни лучших своих нарядов, ни целого сборника цветочных посланий, ни даже шахматной доски с турецкими абстрактными фигурами, вырезанными из слоновой кости.
Но это были только её вещи, её бережно хранимые реликвии, а детские вещи двухлетнего Антиоха, штаны и безрукавки пятилетнего Матвея и маленького Сергея, куклы и наряды сестры Смарагды – всё это тоже было в поле её зрения, ничего не забыла, всё приказала уложить и умело упаковать.
Лишь над мебелью и посудой задумалась: надо ли брать, громоздко и неудобно, можно ли будет перевезти.
Пришла к матери, лежавшей в неудобной позе на низкой постели и бездумно глядевшей в потолок, и засомневалась: сможет ли дать ей совет охрипшая от воя и плача Кассандра, сможет ли оторваться от отчаяния и горя и вернуться к простым, обыденным делам? Постояла над матерью, погладила её по сразу поседевшей голове и не стала докучать ей своими заботами...
Странно, думалось ей, почему так страдает и убивается мать, почему у неё нет сил даже на какие-либо распоряжения по дому? Ведь не куда-нибудь поедут они, а в Россию, поближе к царю Петру, и уж он-то позаботится о них...
И сердце её сладко замирало, когда вспоминала она, как расцеловал её царь после игры в шахматы, как ласково называл Дилорам, и она расцветала, когда думала о том, что поедет жить в Петрово царство.
Нет, ни одной минуты не горевала Мария, ни одной минуты не жалела о том, что покинет Молдавию: ещё не успела привыкнуть она к её мягким округлым холмам, к цветущим садам, к зелёному ковру полей – в прошлую осень уже всё пожухло, а ранней весной напала на землю эта отвратительная саранча, после которой оставалась лишь голая земля, – и Мария не успела полюбить свою родину, выстрадать эту любовь и привязанность.
Она всё ещё вспоминала счастливое время Стамбула, его городской шум и певучие зазывы муэдзинов, синюю гладь моря и бескрайность неба, и потому своей родиной считала именно этот турецкий город – там она родилась, там провела первые одиннадцать лет, там привязалась к неспешной и одновременно такой кипучей восточной жизни.
Нет, она не убивалась и не страдала так, как Кассандра, и даже не понимала, почему так плачет мать. Из-за того ли, что отец потерял воеводскую шапку, из-за того ли, что поедет в изгнание, из-за того ли, что ждёт неизвестность, незнакомые люди, чужой язык и чужая страна, чужие обычаи?
Ничего этого ещё не понимала Мария и потому только удивлялась да ещё строго поджимала губы, когда видела горе и отчаяние матери.
И пришлось ей, Марии, заменить мать во всех сборах, самой решать, что брать в дорогу, а что бросить здесь, в господарском дворце, который скоро займёт другой господарь.
Каждую минуту, каждое мгновение ждала Мария, что налетят османы, сомнут драгун, занявших круговую оборону в господарском дворе, и не понадобятся больше ни серебряная посуда, аккуратно уложенная в укладки и сундуки, ни красивые платья, завязанные в узел, ни фамильные драгоценности, упрятанные в самые потайные местечки, и этих каруц не нужно будет больше – сразу и навсегда полягут здесь и драгуны, и они, вся семья Кантемира, мал мала меньше.
И даже о гибели их отец узнает не скоро и не сможет оплакать их головы, отрубленные грубым и безжалостным турецким топором.
Ждала и всё-таки собиралась так, словно не было и тени этой грозной опасности, словно всё было мирно, тихо, спокойно.
Тоненькая двенадцатилетняя девчонка в пышном, уже взрослом платье господарской дочки, княжна, расхаживала по дому и двору хозяйкой, приказывала собрать и уложить вещи, накормить детей, приносила матери нюхательные соли, приподнимала её поседевшую голову и тихо, но властно распоряжалась...
До самой темноты ждала Мария страшной опасности, ждала стрельбы, турецкого завывания «алла!» и, только когда стали сереть голубые тени под деревьями, когда солнечный диск закатился за соседний холм и потух, облегчённо вздохнула и зарыдала вдруг, мгновенно окунувшись в спасительную солёность слёз.
Никто не увидел её слёз и не услышал её рыданий, сжала рот, сжала горло – не могла позволить себе проявить слабость.
С темнотой пришла и спасительная мысль: они доберутся до русского стана, Балтаджи Мехмед-паше не пришла в голову идея захватить семью молдавского господаря и вырезать её. Скрипя несмазанными колёсами, покатились тихонько молдавские каруцы, доверху заполненные наспех собранными вещами, закачался на ремённых рессорах рогожный возок с детьми и Кассандрой, и отряд драгун окружил небольшой обоз.
Надо было доставить обоз с семьёй Кантемира в целости и сохранности.
Сжав зубы, пригрозив детям карой, если хотя бы откроют рот, Мария не отрываясь вглядывалась в ночные тени за крохотным окошком возка.
Чудились верховые за каждым кустом и каждым деревом, чудилось сверкание острых ятаганов на каждом листе, осыпанном серебряными блестками луны, замирало дыхание от неожиданно выступившей тени.
Даже Кассандре, пребывавшей в угнетённо-пассивном состоянии, не могла передать Мария своих страхов и спокойной готовности к топору и смерти, мукам и крови.
«Только чудо может спасти нас, – думала девочка, – только Бог поможет нам, больше некому, если вдруг придёт в голову Балтаджи мысль о господарском доме в Яссах...»
Чудо свершилось: при свете факелов и костров загремели в русском лагере скрипучие колеса каруц, налетел на возок Дмитрий Кантемир, выхватывал из тёмного нутра то жену, то детей, счастливо смеялся и целовал их.
– Добрались, добрались, – то и дело повторял он.
Кассандра и тут не очнулась от своего подавленного и сумеречного состояния – ей уже больше не суждено было весело смеяться, улыбаться солнечному лучу и здоровью своих детей.
Она сломалась именно там, в господарском доме в Яссах, когда получила известие о переезде в русский лагерь и дальше, в Россию. Ей больше не было дела до жизни, она погрузилась в полусон-полудрёму, и все мелочи быта проходили мимо её сознания...
Словно растревоженный улей шумел и гудел русский лагерь. Никто не обращал никакого внимания ни на Кассандру, молча стоявшую перед возком и потом так же безропотно уведённую в шатёр Кантемира, ни на детей – целую стайку мал мала меньше, ни на Марию, растерянно взглядывающую по сторонам в надежде увидеть русского царя, завзятого шахматиста и такого благосклонного к ней, молдавской княжне. Суетились, бегали, шумели солдаты, выкрикивали какие-то слова офицеры, ржали кони, вздымавшиеся под расфранчёнными всадниками.
Кое-где ещё горели утренние костры, на которых солдаты варили неизменную перловую кашу и куски лошадиного мяса, да светились в посеревшем воздухе тусклые светильники.
Мария увидела, как из самой большой палатки главнокомандующего Шереметева вышла кучка офицеров, среди которых скромный тёмно-зелёный кафтан русского царя был просто тёмным пятном, как садился на коня сын Шереметева, молодой, безусый ещё генерал-майор, о чём она узнала уже значительно позднее – новые знаки отличия лишь недавно пожаловал ему Пётр, – как взбирался на лошадь, смирную и скромную конягу Пётр Павлович Шафиров в цивильном костюме с белыми пенистыми манжетами по сторонам роскошного голубого кафтана, с пышной пеной кружев в вырезе камзола.
Их окружили несколько всадников – то были толмачи, необходимые Шафирову в турецком плену, да офицеры для связи.
– Государь, – сказал тихо, но так, что расслышали все окружающие, Шафиров, – пожалей нас, детушек твоих, выполни все обещания по договору и нас верни из турецкой неволи...
– Не только вас, но Толстого мне надобно вернуть, – серьёзно и тоже тихо, но отчётливо произнёс Пётр. – Сделаю всё: срою Азов, уничтожу Таганрог, а уж о Каменном Затоне и говорить не стоит. Всё выполню, все условия договора, а вас верну...
Шафиров нагнулся с седла, и Пётр расцеловал его в обе круглые щеки, мелко и часто закрестил.
Всадники двинулись к турецким пикетам.
Мария видела, как уже издали крестил отъезжающих Пётр, каким озабоченным и грустным было его лицо, и впервые подумала о том, какие тяжёлые заботы лежат на плечах этого исполина...
Рядом с Петром стояла и Екатерина, и снова подивилась Мария свежести и прелести её немолодого уже лица, слегка тронутого гусиными лапками вокруг глаз и крохотными морщинками в углах губ.
А на другом конце лагеря увидела она выстроившихся в каре молдавских ополченцев и своего отца, вышедшего на середину этого войска.
Она подбежала поближе и услышала слова, которые говорил молдавский господарь своим людям:
– Братья молдаване! Вы сражались храбро, под рукой русского царя вы помогали освобождать нашу заплаканную и многострадальную землю! Не удалось на этот раз нам освободиться от Туретчины, не удалось вернуть нашей земле свободу. Русский царь взял нас под свою руку. Он приглашает всех нас переселиться в Россию, дарует нам земли и дома, пенсион и право жить по своим обычаям и дедовским заветам. Я никого не неволю, кто хочет, может остаться здесь, со своими семьями и своими домами, а те, кому некуда податься, кто знает, что только топор турецкий ждёт впереди, могут ехать со мной в русские пределы, в русские края. Никого не неволю, ещё раз говорю, решайте сами, к кому прибиваться, кому служить.
Он помолчал, оглядел своё небольшое войско – всего-то каких-нибудь шесть тысяч ополченцев, уже одетых в русскую форму, – и продолжил:
– Для решения нет времени, раздумывать не будем. Кто останется здесь, уйдёт в свои молдавские пределы, кому ещё дорога своя кроха молдавской земли – пусть перейдут сюда, направо. Кто последует за мной, молдавским господарем, князем русским светлейшим, – пусть станут налево.
Две трети солдат-ополченцев выстроились слева, две тысячи молдаван решили перейти направо.
– Братья, – обратился к ним Кантемир, – едва стемнеет, пробирайтесь своими тайными тропами на родную землю, чтобы не видели вас османы, чтобы не схватили и не отрубили головы. И вам дарую я те деньги, которые вы заслужили своим боевым делом, пусть они будут вам хоть небольшим, но подспорьем в вашей невольничьей жизни...
Казначеи раздали солдатам деньги, и постепенно эти две тысячи солдат, в основном самые бедные и неимущие, но имеющие семьи в молдавских сёлах, растворились в неяркой заре начинающегося июльского дня.
– А вас, братья, – обратился Кантемир к остающимся с ним, – благодарю за верность и преданность, ваш гетман Некулче поведёт вас вместе с русскими солдатами, и пусть благословение Божие будет на вас!
Мария гордилась своим отцом: в своей роскошной мантии, в высокой господарской шапке, он был молод и красив особой молдавской красотой.
Раздались команды, и молдавские полки влились в ряды русских солдат.
Уехали заложники. Долго ещё наблюдали русские, как отдаляются всадники от русского лагеря, как окружают их толпы турок, и только издали крестили и благословляли пленников, которым предстояло промучиться в османском плену три года, пока не срыт был Азов, не уведён гарнизон из Таганрога и Каменный Затон не превратился в кучу камней, руин и осколков кирпичных стен...
В тот же день, 12 июля 1711 года, русский лагерь тронулся в путь.
Впереди медленно шествовали священнослужители в своих чёрных рясах, держа икону Корсуньской Божьей Матери – это была любимая икона Петра Великого, перед нею он подолгу стоял на коленях, к ней обращал свои молитвы о спасении.
Молитвы и песнопения сопровождали этот ход священников, и турки с благоговением и молчаливым одобрением наблюдали это шествие.
Потом медленно, в такт шествию священников, шли солдаты охраны, держа наготове мушкеты и везя готовые к бою пушки. Шереметев приказал всему отряду быть настороже: мало ли что вздумают турки, коварство их могло быть отражено лишь полной боевой готовностью.
И только вслед за головным отрядом шли знаменосцы – несли штандарты и флаги русской армии.
Османы предупредили русских парламентёров: увидят, что русские выводят молдавского господаря, – нападут и отобьют, и потому в шатре Шереметева долго думали советники и сам Пётр, как сделать так, чтобы перехитрить турок.
Конечно, можно переодеть Кантемира, можно замешать его в группу солдат, но турки хорошо знают его в лицо, а по всей линии дороги выстроены их отряды, которые внимательно просматривают солдатские ряды...
И снова выручила Петра Екатерина.
– Вы говорили, – своим певучим голосом обратилась она к Борису Петровичу Шереметеву, – что для турок нет ничего более святого, чем гарем.
Борис Петрович непонимающе взглянул на будущую царицу.
А Пётр уже уловил нить её мысли и весело усмехнулся: ай да жёнка будет, настоящая солдатская жена, сумеет помочь в самую трудную минуту. «Слабая, – думал он, – рядом с тобой умрёт, а сильная поможет выжить, выстоять».
Он молчал всё то время, пока говорила Екатерина.
– Не будут они досматривать кареты и возки с гаремом, ведь так? – спросила она.
– Да нет, не принято у них заглядывать в лица женщин, особенно если гаремные...
– Ну так пусть и Кантемир, светлейший князь, побудет немного в роли гаремной женщины, – закончила Екатерина.
– Вы вольны, – низко поклонился Кантемир, – да только не пристало мне скрываться, пусть уж лучше погибну я, но в открытом и честном бою...
– И погубишь всю армию, – сурово возразил Пётр, – из-за тебя может такая заваруха начаться, что всех перебьют, никто не уйдёт.
Кантемир покраснел. Он хотел ещё что-то сказать о низменности своего положения, но Пётр не дал ему закончить.
– Дело говорит Екатерина, – сказал он, – всю семью свою посади в гаремные возки и кареты и сам среди женщин скройся. Незаметно провезём, обманем турок, обведём их вокруг пальца.
Возмущённый и взволнованный таким поворотом событий, Кантемир промолчал. Конечно, он понимал, что своим несогласием ставит под удар всю армию, которую турки согласились отпустить с миром и даже со всем вооружением и знамёнами, но камнем преткновения стал для них Кантемир, изменивший Османской империи, и они доискивались его, чтобы снять ему голову с плеч...
– Только уж переодеваться женщиной не стану, – угрюмо произнёс Кантемир: это позорное бегство он воспринимал как личную и незаживающую обиду.
– А и не надо, – легко согласилась Екатерина. – Спрячем тебя среди наших юбок, среди всех женщин, даже усы и борода сгодятся, будем амуриться по дороге, – весело смеялась она.
– Приготовиться надобно, – опять посерьёзнел Пётр, – и ожидать чего угодно. Турок коварен и смел, по-тихому всё следует сделать, чтобы и лазутчики не поняли. Их вон сколько вокруг лагеря шныряет...
Так и договорились, что Кантемир с несколькими молдаванами ускачет в соседний лес на виду у османов, а потом тихонько вернётся в лагерь, чтобы под покровом темноты никто из турок не увидел возвращения молдавского господаря.
Сильно волновался Пётр, волновался Шереметев, напряжённо сжимал зубы сам Кантемир, но затея удалась на славу.
Передовые пикетчики разглядели высокую шапку молдавского господаря и его горностаевую мантию, в которой садился на статного скакуна Кантемир, увидели и окружение – отряд хорошо вооружённых драгун. Но пока доложили Балтаджи Мехмед-паше, отдыхавшему после утреннего намаза, – строго запрещено было тревожить его во время утреннего приёма пищи, – пока он понял, что к чему, и распорядился выслать своих янычар, чтобы окружить Кантемира и отрезать ему путь в Яссы, молдавский господарь уже вернулся в русский лагерь в русском кафтане и камзоле, с нагрудным знаком русского офицера и трёхцветным шарфом, повязанным через плечо и заканчивающимся двумя большими серебряными кистями.
Так же тихо и скрытно удалось провести его в поместительную карету Екатерины, где собралась уже большая часть её приближённых женщин.
Другие жёны офицеров разместились в возках и кибитках, закрытых со всех сторон, в таком же возке поместилась и вся семья молдавского господаря.
Медленно, неспешно двинулся в путь русский лагерь. В день проходили немногим более мили, потому что всё время приходилось быть настороже, опасаться непредвиденных вылазок со стороны османов.
Останавливались на ночлег, разводили костры, ощетинивались пушками и мушкетами, выставляли большие сторожевые посты – никто не в силах предсказать, что может случиться...
Три дня добирались только до Прута – и снова и снова опасались, охраняли лагерь, на стоянках окапывались и возводили частоколы, но этот медленный марш дал свои плоды: спустя три дня переправились со всеми обозами, каретами и возками через Прут, ещё два дня занял переход до своих пределов, и лишь тут вздохнул Пётр свободно.
Армия в целости и сохранности вышла из окружения, невредимыми остались пушки и всё вооружение, сохранились все обозы и люди.
Все пошли дальше, а Пётр посчитал уже возможным оставить армию, которой ничто не угрожало, и умчался вместе с Екатериной в Торгау – там намечалась свадьба его старшего сына, Алексея, на принцессе Вольфенбюттельской.
В последний раз грустно проводила Мария взглядом высокую фигуру Петра, вместе с Екатериной садившегося в крытый потрёпанный возок, в последний раз увидела, как окружил возок царя отряд конных драгун и поднялась пыль на дороге, – и растаяли в летнем мареве и возок, и Пётр, и его будущая жена, пока что невеста, Екатерина.
Мария и сама не понимала, почему так сжалось её сердце, почему так больно и страшно было от поднявшейся пыли, от удаляющегося возка, от гарцующих драгун. Она прижала рукой своё маленькое сердечко, слёзы было выступили на её глазах, но Мария сказала себе, что отныне она старшая в семье, что мать её плоховата, что ей одной предстоит и поднимать детей, и следить за порядком в доме, и самой обустраиваться на новом месте.
Ей шёл всего тринадцатый год, а она уже чувствовала себя очень взрослой, потому что прошла и через страх, и через ужасы войны, и через детскую ещё, но такую больную любовь...
Безуспешно рыскали по окружавшим османский лагерь лесам янычары Балтаджи. Хватали всех, кто попадался на пути, врывались в крестьянские избы и боярские палаты, утаскивали с собой женщин и девочек, крепких крестьянских парней и дюжих мужиков.
Янычары уже и забыли о цели своей вылазки – найти и привести к Балтаджи изменника Кантемира, их увлекала сама лёгкая добыча.
Почти неделю гонялись они за Кантемиром, уходя всё дальше и дальше на землю молдавскую.
И только через неделю они поняли, что не найти им молдавского господаря, не принести его голову великому визирю, и покорно вернулись, ожидая самого страшного наказания.
Балтаджи уже и сам осознал, что русские обвели его вокруг пальца, что, несмотря на все договорённости и слова, они сумели вывезти Кантемира в русские пределы.
Впрочем, крохотная надежда на то, что Кантемир мог уйти и в Польшу или в Венгрию, всё ещё оставалась у великого визиря.
Нигде не нашли и семью Кантемира, нигде не было его четверых сыновей и двух дочерей.
И господарский дом в Яссах стоял пустой, обрывки бумаги и бечёвок, порожние разломанные ящики, громоздкие шкафы и укладки, совершенно неподъёмные для увоза, всё ещё оставались здесь.
Уже и новый господарь готовился в дорогу, получив султанский фирман на таких тяжёлых условиях, что выполнить их было не под силу никому.
И Николай Маврокордат продержался у власти всего лишь год с небольшим, и вот – новый правитель, могущий содрать ещё три шкуры с обнищавших крестьян...
Всегда невозмутимый Балтаджи и при известии о побеге Кантемира остался спокойным. Что ж, значит, не хочет Аллах, чтобы он, великий визирь, доставил к султанскому престолу голову предателя.
И только посещение шведского короля Карла XII вывело Балтаджи из себя.
Карл всё ещё сидел в Бендерах, в крохотном местечке Варница, и с упоением ждал, когда пленит Балтаджи русского царя. Ах, как жаждал он мести, как хотел увидеть героя Полтавской битвы на коленях!
И ни минуты не сомневался Карл, что Балтаджи при таком перевесе сил удастся захватить Петра.
Когда же граф Понятовский известил своего короля, что русская армия ушла из пределов Молдавии с развёрнутыми знамёнами, при всех пушках и в полном вооружении, тот взбеленился: никогда ещё не позволяли противнику заключить столь почётный договор.
Что там Азов, что там Таганрог! А все завоевания Петра в Прибалтике, всё отобранное у шведского короля – турки даже не вспомнили о его интересах, даже не подумали торговаться за эти завоевания!
И Карл примчался в лагерь Балтаджи взбешённый, едва ли не в истерике.
– Как вы могли дать уйти русскому царю с такой крошечной армией, как могли не пленить его, не поставить на колени? – кричал он, брызгая слюной и сжимая кулаки, которыми зря махал теперь, после самой драки. – Да я бы не позволил ему уйти, я бы поставил его на колени!
Хорошо ещё, толмачи Балтаджи старались не переводить великому визирю все те ругательные слова, которые король, не обращая внимания ни на что, адресовал тому, неподвижно сидевшему на высоких подушках.
– Дайте мне пятьдесят ваших янычар! – кричал между тем Карл. – Я догоню русскую армию, я разобью русского царя!
– У вас была армия значительно больше, – язвительно и спокойно отвечал Балтаджи Мехмед-паша, – однако вы её потеряли... Как же можно доверить вам хоть одного человека?
– Почему вы не дали мне знать, почему не поставили меня главнокомандующим над вашими янычарами?
– Разве может христианский вождь командовать правоверными, мусульманами, кто послушает его команды? – резонно возражал Балтаджи.
И думал, как же был прав Шереметев, когда писал в своём письме, что только посторонние ссорят Турцию и Россию.
А две эти страны далеки друг от друга – одна на севере, другая на юге, теперь и южные границы Османской империи будут ограждены от притязаний русских солдат.
И любовался собой в душе: это он, великий визирь, умный и проницательный человек, заключил такой позорный для России и выгодный для Турции мир.
Долго ещё метался по шатру великого визиря Карл XII, но и ему пришлось уехать ни с чем.
Балтаджи вежливо и по-восточному цветисто объяснил Карлу, что в одном из пунктов договора есть слова о безопасном переходе этого самого шведского короля из пределов Турции через Польшу в свою Швецию.
Так прозрачно намекнул Балтаджи Карлу, что ему пора уже перестать злоупотреблять гостеприимством турецкого султана, что пора и ему возвращаться домой...
Карл намёка не понял и не принял – он продолжал сидеть в Бендерах, снова и снова плетя интриги и привлекая европейские дворы к заговорам против России.
Балтаджи послал Карлу несколько подвод с провиантом, несколько десятков конных янычар, чтобы сопровождать его через границы европейских государств, но Карл упёрся, стоял на своём, не желал возвращаться домой – тепло ему жилось на хлебах у турецкого султана.
В конце концов Балтаджи пришлось выдворять Карла силой...
Два генерала с шестью тысячами турок и десять тысяч татар с десятью пушками направлены были в Бендеры. И это против находившихся там всего лишь трёхсот шведов!
Целая армия наводнила Бендеры, она проникла даже в королевский лагерь.
Но солдатам было приказано не причинять королю вреда, не убивать Карла и его людей.
А как было это исполнить, если король не желал подчиняться предписанию султанского фирмана!
Карл не смутился силой турок и татар – он приказал строить укрепления, баррикадировать окна и двери, подпирать их брёвнами и подходящей мебелью, чтобы не пустить чужаков в королевский дом.
Сам Карл, все его люди, камердинеры, канцлер, казначей, секретари, все слуги деятельно готовились к обороне.
Король важно обошёл свои владения, укреплённые и забаррикадированные, нашёл, что теперь он неуязвим, и спокойно уселся играть в шахматы со своим фаворитом Гротгаузеном...
Однако первые же выстрелы пушек разнесли все баррикады Карла, и ему пришлось спасаться бегством. Только уже при второй встрече с Балтаджи выторговал он себе право полной безопасности при проезде через границы к себе, в Швецию.
Но на это ушло несколько месяцев, и всё это время Балтаджи чувствовал себя так, словно во рту его сидел больной зуб – чем скорее его удалить, тем лучше будет чувствовать себя его хозяин.
Во всяком случае, Карлу пришлось-таки оставить Бендеры и возвращаться домой через Польшу, где уже сидел на троне ставленник Петра – саксонский курфюрст Август.
Ничего этого не знала и ни о чём этом так и не услышала Мария – скрипучие колеса коляски увозили её от места этих событий всё дальше и дальше.
Пыль проникала во все поры старой коляски, забивала рот и нос, дышать становилось трудно, и потому приходилось передвигаться или по ночам, или по утренним свежим росам...
Кантемир и Кассандра ехали теперь вместе – в гербовой карете, с молдавским гербом, и Кантемир всё время держал руки Кассандры в своих.
Он всё ещё пытался вернуть её из того забытья, в которое она погрузилась во время спешных и страшных сборов, целовал её холодные пальцы, говорил ей нежные слова, и постепенно мрак, нависший над Кассандрой, рассеивался, она снова чувствовала тепло рук мужа, видела его ласковые глаза, холёные усы и бородку, вглядывалась в его как будто забытое и запорошенное пылью лицо, и пробивалась на свет живая жилка её жизни.
И первые Кассандры слова после долгого пробуждения были такими:
– Куда мы едем?
Кантемир принялся объяснять ей, что русский царь подарил им и прекрасный дом в Москве, и много замечательной земли, и несколько десятков десятин с крестьянскими дворами в северных провинциях, что теперь они богаты, гораздо богаче, чем в Стамбуле и Яссах, у них есть хорошая сумма в шесть тысяч золотых червонцев ежегодно и они смогут отдать своих детей учиться в прекрасные школы и послать за границу – теперь они могут всё...
Кассандра не верила – ей всё чудилась верёвка у горла и кривой турецкий топор, и лишь выглянув в крохотное оконце кареты, она увидела пробегающие мимо поля и леса, вековые дубы и развесистые каштаны, белёные крестьянские хатки, синие блюдца маленьких прудов, серую воду пробегающих рек, и эта мирная и величавая природа начала возвращать её к прежнему спокойствию и душевному ладу.
– Давай подумаем, – втолковывал ей Кантемир, – где мы станем жить? Если ты хочешь деревенской тишины и покоя среди природы, полей и лесов, то остановимся в тех пределах, что определил нам русский царь: построим там свою церковь, построим себе такой дом, какой захотим, сделаем нашу жизнь там удобной и тихой. Тем более что все наши невольники с нами, и царь ещё выделил нам много крепостных с их хозяйством, жёнами и детьми.
Она вопросительно смотрела на него, и он переводил разговор на другое:
– Но если ты хочешь блистать в свете, поддерживать свою родословную, своё происхождение от греческих и византийских императоров, нам можно легко устроиться в Москве: прекрасный дом там уже полон и мебели, и всяких удобств, какие только можно себе вообразить. Ты станешь выезжать в свет, познакомишься со всеми знатными женщинами, ты будешь в своём кругу, развлечения станут для тебя обычными и привычными.
– А ты? – вдруг спросила Кассандра. – Что будешь делать ты?
Он потупил глаза, немного помолчал и ответил грустно:
– Разве я и в Стамбуле не занимался тем же, чем хочу заняться теперь? У меня много работы, я хочу написать...
Кантемир начал перечислять ей то, что ему хотелось бы запечатлеть на бумаге, но она зажала ему рот рукой:
– А живое дело, к которому ты всегда стремился, живая жизнь, которую ты с такой радостью вёл в Яссах, – с этим покончено?
Он печально покачал головой:
– Сначала надо освоиться, войти в жизнь русского края, потом будет видно. Пётр Алексеевич успел узнать меня коротко, и, наверное, у него ещё появится возможность использовать и мой опыт, и мои знания в своих государственных делах...
– Всё-таки это изгнание, – грустно подытожила Кассандра, – и теперь уже только наши дети станут родными в этой чужой земле...
– Я не теряю надежды, что когда-нибудь Россия всё-таки освободит нашу родину от владычества турок, я не перестаю на это уповать. – Кантемир прижал руку жены к своим губам. Рука была горячая и живая...
– Но пока мы в изгнании, нам необходимо как следует познакомиться с новой родиной, привыкнуть к её обычаям и укладу, – опять заговорила она, и Кантемир был счастлив, что в ней снова проснулась жилка её практического ума и она может к концу этой долгой и утомительной дороги рассуждать здраво обо всём, – и лишь потом, когда подрастут наши дети, когда девочек надо будет выдавать замуж, поедем в столицу. Представляешь, как будут смеяться над нашими обычаями люди, с ними незнакомые! Надо освоиться, перенять у этого народа всё, что есть у него хорошего и доброго, тогда уже можно будет не бояться насмешек и издевательств. Судачащие кумушки во всех странах мира одни и те же, – смеясь, закончила она.
И опять он прижал к губам её живую и горячую руку и вспомнил слова домашнего доктора Кантемиров – Поликала, грека, вывезенного ими ещё из Стамбула: «Она отойдёт: чересчур много обрушилось на её хрупкие плечи, голова её не выдержала стольких перемен...»