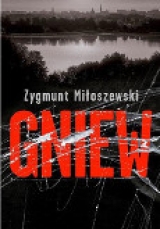
Текст книги "Ярость (ЛП)"
Автор книги: Зигмунт Милошевский
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
Шацкий размышлял. Найманы были в супружестве, начиная с восемьдесят восьмого года. Если предположить, что женщина родила где-то в это же время, тогда ребенок был уже подростком, когда он пережил смерть матери м брата. Сегодня такому человеку было бы, самое больше, двадцать с лишним лет. Так что? А ведь вся его группа подозреваемых – люди до тридцати? Что, снова врезался головой о стенку?
– А кто может ознакомиться с оригинальным свидетельством о рождении? – спросил прокурор.
– Практически никто, – ответил Мышлимир. – Ознакомления с документом может потребовать суд, но только лишь в весьма исключительных, обоснованных случаях. Если в ходатайстве он докажет, что это и вправду необходимо для дела. Понятное дело, что ни биологические, ни приемные родители к этому документу и приблизиться не могут. Собственно говоря, единственным человеком, кто это свидетельство может увидеть, это ребенок, к которому данный документ имеет отношение. Такое право он получает по достижению восемнадцати лет жизни.
И вдруг все неожиданно встало на свое место.
Шацкому было нужно лишь одно.
Прокурор наклонился к Мышлимиру и заговорщически улыбнулся. Он понимал то, как паршиво выглядит, и что у его собеседника прошел мороз по коже от гримасы, которая, по намерению прокурора должна была быть улыбкой.
– Так как, только начальник может ознакомиться с такими актами?
– Ну да. По самым различным причинам, это должны быть наиболее тщательно охраняемые персональные данные.
– Понял. Но давай договоримся так. Я чиновник, и вы тоже чиновник. Мы же прекрасно понимаем, как оно бывает на самом деле, что только начальник имеет доступ к чему-то. Ведь правда?
– Что только начальник имеет к чему-то доступ?…
– Теоретически. По закону. Но практически ведь нет ключика к тайной канцелярии, закрепленного наручниками к запястью. Роль начальника заключается в выдаче заданий. И ключик он вешает где-то в шкафчике, а когда выясняется, что он вновь не может заняться своими делами, потому что закон требует, что «только он один может», он делает вывод, что доверенный сотрудник так же хорош, как и он сам.
Эти слова Мышлимир не прокомментировал.
– И я думаю, что вы являетесь именно таким доверенным сотрудником. И что у вас имеется доступ к засекреченным актам.
Мышлимир опять не прокомментировал. Но вздохнул. Шацкий не понимал, почему в глазах чиновника неуверенность смешивается с гордостью.
Наконец Мышлимир поднялся с места.
– Так вы говорите, это вопрос жизни и смерти?
16
Вот уже два часа Хелена Шацкая не отметила хода времени над плинтусом, поскольку глубоко спала. Она не выглядела запуганной до границ озверения жертвой похищения, не спала с полуоткрытыми глазами, не срывалась ежеминутно, не вертелась, не свернулась в клубок, поскуливая сквозь сон.
Всего лишь спящий подросток. Выгнутая в странной позе, но в принципе – на животе, одна рука под телом, вторая свисает с кровати. Она тихо похрапывала, как человек, которого сморил сон после целого дня тяжелой физической активности. Только этот здоровый сон на сто процентов был искусственным, он был инициирован химикалиями, которыми щедро был приправлен шейк. Похитители правильно просчитали, что не бывает такой ситуации, при которой шестнадцатилетняя девчонка не вылакала бы шоколадный десерт.
Доза была подобрана под ее вес и рассчитана таким образом, чтобы девушка обрела сознание через пару часов.
Это давало достаточно много времени для тщательной подготовки, чтобы прокурор Теодор Шацкий в нужный момент и со всеми подробностями мог осмотреть смерть собственной дочери.
17
Четвертью часа ранее пробило пять вечера, и доктор Тереза Земста уже несколько минут должна быть в пути в в собственный дом под Йонково,[133] где, накормив кота, она ожидала бы мужа, чтобы тот приготовил ей желтое карри со шпинатом, ждущее ее с понедельника. Пан Земста, по профессии нотариус, в отличие от супруги, прекрасно готовил, и та, когда только могла склоняла его к занятиям любимым хобби. Лучше всего срабатывала лесть или обращения к жалости, особенно после дежурств. В этой штучке она никогда бы супругу не призналась, но она всегда смывала макияж перед выходом из больницы, чтобы дома выглядеть словно зомби. Тогда он сразу же спрашивал, а не хотела бы она съесть чего-нибудь вкусненького. Ну что же, как правило, она соглашалась. Совесть ее грызла, но тут она сама себе объясняла, что манипулирование людьми – это такое искусство, в котором хороший психиатр должен постоянно тренироваться, чтобы не выйти из навыка.
Она выслала мужу эсэмэску, что будет позднее, выключила телефон, закрыла дверь кабинета, вернулась за стол и глянула в стальные глаза своего посетителя. Яркая картинка нищеты и отчаяния, мужчина был настолько обессилен и опустошен, что ее Марчин сделал бы ему ужин из трех блюд и сабайон[134] на десерт.
– Большинство взрослых понятия не имеет, что существует нечто подобное, как детские отделения в психиатрических больницах, – сказала женщина. – Совершенно естественным образом всяческие заболевания ассоциируются у нас исключительно с взрослыми. Женщина не может встать с кровати. Мужчина ходит вокруг дома, потому что боится возвратиться вовнутрь и умереть в одиночестве. Другой, находясь в фазе мании, дает авансы на покупку всякий раз другой недвижимости. Кто-то считает себя Христом, кто-то другой целыми днями пересчитывает плитки в ванной. Понятное дело, психи. Когда я иногда спрашиваю у людей, так они считают, будто бы детское психиатрическое отделение – на самом деле какое-то место для временного содержания подростков, которые пережили несчастную любовь и порезали себе вены в ванной, либо же начали блевать сразу после еды.
Прокурор не молчал. Просто он выглядел словно человек, у которого нет сил на беседу.
– Тем временем, детские мозги тоже не свободны от ошибок. Депрессии, неврозы, биполярные расстройства, психозы…[135] Это может встретить человека в любом возрасте. Вы можете представить себе ребенка четырех лет, которого необходимо совать в смирительную рубашку и привязывать к кровати, поскольку он занимается изысканными членовредительствами?
Ее собеседник даже не дрогнул.
– А я такое видела. Это и другие вещи… Когда я выбирала специализацию, мне казалось, что тем самым помогу детям с их различными проблемами… ах, позитивистские бредни. Я сделалась надзирателем в преисподней. Мне еще не было тридцати, когда узнала о том, что пятилетняя девочка способна возбуждать панический страх. Я входила к ней с двумя санитарами, чтобы эта малявка ничего со мной не сделала. Вы фильм «Экзорцист»[136] видели? Бывали такие дни, когдя я мечтала, чтобы мои дни на работе выглядели столь же спокойно, как у священника Меррина.
– Сожалею, – отозвался, наконец-то, прокурор, только лишь затем, чтобы что-то сказать. – И как это лечится?
– Я должна была бы сказать, что мы применяем комбинации различных современных техник, в зависимости от конкретного случая, но на самом же деле мы фаршируем детей антипсихотическими препаратами словно откармливаемых гусей, чтобы они ничего не сделали себе плохого. И надеемся, что с возрастом это у них пройдет.
– А проходит?
– Иногда. Иногда – нет.
– И это как раз был случай юного Наймана?
Женщина глубоко вздохнула. И с удовлетворением поняла, что ее лекарство уже подействовало. Когда она узнала, с чем прибыл к ней прокурор, она тут же помчалась в сортир, чтобы принять двойную дозу ксанакса.
– Случай Павелка Наймана разрушил меня как специалиста. Я бросила психиатрию, в течение нескольких лет сделалась семейным врачом. Ведь я была его ведущим врачом, чувствовала себя ответственной.
Мужчина и вправду производил впечатление, словно бы речь представляла для него усилие, явно превышающее его нынешнее состояние. Он лишь вопросительно глянул.
– Помню, как будто бы все это было только вчера. Дежурство мое длилось уже двадцать второй час, близился четвертый час ночи, самая паршивая, собачья вахта. Мне позвонил полицейский, что привезет мне пятилетнего ребенка, оставшегося в живых после трагедии. Пожар где-то в провинции, мать умерла, отец ранен, ребенок впал в ступор. Минут через десять они уже были у меня в отделении. От мальчишки несло гарью, не дымом, а такой именно гарью от пожара, точно такой же запах, когда люди сжигают в печи мусор. В пижаме, завернутый в бурое одеяло, ножки в грязи. Мальчишка просто замечательный, есть такие дети, что все мамаши на них на улице оглядываются и жалеют, что это не их. Очень красивый, стройный, с тонкими чертами личика. Черные волосы с прической под пажа и все понимающие, очень смышленые глаза. Глаза мудрого, доброго человека. Такого, у кого есть сила изменять мир. Можете смеяться, но такое сразу видно.
Прокурор не засмеялся. Даже не моргнул. Он слушал.
– Случаются иногда такие исключительные дети, и исключительным ехидством судьбы я считаю, что они попадают в случайные семьи. То есть теория, гены – это я знаю. Но наука не затрагивает вопросы души. Я и сама никогда не затрагиваю проблем души, я атеистка. Только я насмотрелась на людей, отличающихся от нормы. И иногда мне кажется, что когда слепок генов собственных родителей уже готов, происходит некая магия, и каждый из нас получает нечто дополнительное. Это «что-то» может быть обыденным, может быть гадким, но может быть и очень-очень красивым. Этот мальчик получил нечто прекрасное, по-настоящему исключительное. Ему было всего пять лет, но если бы вдруг он начал объединять вокруг себя учеников, то наверняка бы нашел их очень и очень много. Я увидела это в нем и посчитала, что обязана ему помочь. В конце концов, именно ради таких мгновений я выбрала именно эту специализацию, чтобы помогать невинным существам с прекрасными душами. Но тогда я еще находилась на этапе позитивистских бредней, старая история…
– Насколько я понял, вам не удалось, – сказал прокурор. Тон голоса не холодный, не злорадный.
– Нет, не удалось, – подтвердила Земста. – Хотя я и делала все, что только было в моих силах. В течение двух недель я не вышла из больницы. В буквальном смысле, не в переносном. Здесь я ела, здесь мылась, здесь спала. Муж ежедневно привозил мне сменную одежду. Я хотела все время проводить рядом с Павлом или хотя бы поблизости, чтобы уловить тот момент, когда удастся к нему пробиться. Когда вдруг появится маленькая щелочка, в которую мне можно будет вставить ногу, пока проход не захлопнется. Или замечу что-то, что позволит мне найти ключ к нему. Чтобы каким-то образом открыть его.
– И каким был официальный диагноз?
– Реактивный психоз. Только, знаете ли, в психиатрии названия мало что значат. Почечный камень – это почечный камень, воспаление горла – это воспаление горла, физические заболевания в сумме очень похожи одно на другое. В случае же психических заболеваний определенный набор признаков, идентифицирующих расстройство, позволяет нам его назвать, только это бывает весьма условным, шизофрений на самом деле столько же, сколько и больных.
– Ну а как бы вы назвали то, что приключилось с парнишкой? Я не спрашиваю о медицинском термине. Как описали бы все это собственными словами?
Врач на мгновение задумалась. Столько раз она об этом думала, переживала по кругу одно и то же, анализировала под новым углом, прибавляла различные контексты. Но вот вопрос прокурора сбил ее с толку. Вот просто так что-то назвать? Разве не об этом писал Камю, что именно это бывает в жизни наибольшим, труднейшим вызовом. Чтобы называть вещи по имени.
– Он отключился, – ответила женщина наконец.
– В каким смысле? Покончил с собой?
– Скорее уже: перестал жить.
– Не понимаю.
– Человек – это очень сложный механизм. Даже, скорее, завод, работающий в три смены, без малейшего отдыха. В нем осуществляются химические, физические, энергетические, электрические процессы. На уровне систем, органов и отдельных клеток все время что-то происходит. Потому-то мы так быстро расходуемся. Это и так чудо, что нам удается дотянуть до восьмидесяти, вы только представьте себе какой-нибудь механизм, функционирующий несколько десятилетий беспрерывно. Мы уже неплохо понимаем действие отдельных подсистем, но вот управляющий орган… – постучала она себе по лбу, – …для нас все так же остается загадкой. И не верьте, когда какие-нибудь шарлатаны будут говорить вам иначе. Нам известно лишь то, что это управляющая единица, и что с точки зрения физиологии остальной части тела она обладает неограниченной властью. Маленький Павел Найман нажал соответствующие кнопки на собственной распределительной панели, воспользовался этой неограниченной властью и отключил собственный организм. Он перестал жить.
– В том смысле, что голодом довел себя до смерти?
– Вы меня не слушаете. Он не сделал ничего такого, что исчерпывает определение самоубийства. Он просто перестал жить. Отключая очередные подсистемы собственного тела. Мы были беспомощны. Понятное дело, что мы вводили ему различные психотропные лекарства, ставили капельницы, которые должны были выручить отказывающий организм, под конец занялись реанимацией. Безрезультатно, вся наша наука не могла победить решившийся мозг пятилетнего ребенка. Мне было стыдно за то, что мы делали. В его глазах я видела, что своими действиями мы доставляем ему боль. Нет, он не злился, но ему было за нас неприятно.
Ксанакс был хорош, но не настолько хорош. Руки у женщины сделались влажными, в горле стало сухо, срочно нужно было в туалет. Земста чувствовала, что начинает рассыпаться. Еще мгновение, и ее начнет трясти, этапы собственного невроза были известны ей даже слишком хорошо. Женщине хотелось как можно быстрее завершить эту беседу и вернуться домой.
– Но хоть какой-то контакт вы с ним установили?
– Вербальный? Нет. Под самый конец я сорвалась. Мы были одни, я стала плакать. Очень непрофессионально я умоляла его не делать этого, подождать еще хоть чуточку. Ведь у него еще может быть замечательная жизнь, что папа его выздоровеет, что такого мира было бы жалко. И тогда он произнес одно предложение. У меня сложилось впечатление, я и до сих пор так считаю, что он сделал это ради меня, что это мне было так неприятно, что это я нахожусь в таком вот состоянии, и ему хотелось как-то мне помочь.
– Что же он сказал?
– Он сказал, цитирую: «Я все понимаю, только я не хочу жить без маны». Пятилетний ребенок в чем-то похож на иностранца, который учит язык, разве нет? Не было такого дня, чтобы я хоть раз не слышала этой его смешной оговорки. «Маны» вместо «мамы».
Тело Земсты не справлялось с эмоциями. Ей срочно нужно было в туалет.
– Прошу прощения, но мне нужно выйти в туалет. Вы подождете?
Шацкий отрицательно покачал головой.
– Я тут уже договорился, рядом, по другой стороне парка. Буду бежать. Спасибо за все то, что вы мне рассказали. Должен признать, что я понимаю вашу боль, но… – снизил он голос.
Женщине не нравилось, что при этом мина у него была такая, которая как бы сомневалась: пощадить врача или нет.
– Что но? – начала допытывать Земста, даже вопреки самой себе.
– Но при всем моем сочувствии к пани, вам еще раз удалось доказать, что вся ваша психология и психиатрия – это далекая от действительности псевдонаука. Вы верили, что вам удастся все решить вот здесь, в стерильных помещениях, между козеткой и шкафчиком с лекарствами. Тем временем, как ответы, так и размышления, ждут снаружи, в реальной жизни.
– Что вы хотите мне этим сказать?
– Маленький Павел говорил не о маме. Когда он говорил, что не желает жить «без маны», он не сделал ошибку в польском языке, на самом деле он имел в виду Ману или же Марианну, свою старшую сестру.
Только что Земста говорила о мозге, как о всемогущем управляющем центре. ее собственный мозг, явно, был исключением, подтверждающим правило, поскольку он очень долго переваривал полученную от седоволосого прокурора информацию. Когда же мозг ее уже усвоил, когда до доктора Терезы Земсты дошел ее смысл – перед ее глазами начали свой полет черные и белые пятна. Она слышала голос аварийных сирен и голос из мегафона: потерять, потерять, потерять сознание, не думать обо всем этом!
– Но не хотите же вы сказать, что…
– Именно это я и хочу сказать. Что если бы вы вышли в реальный мир и нашли сестру маленького Павла, то вы спасли бы не только этого чудного мальчика, но и многие другие человеческие жизни, в том числе – мою дочь.
Он поднялся, надел черное пальто и старательно застегнул его.
– Надеюсь, что теперь вы станете думать об этом ежедневно, – устало сказал он и вышел.
18
В подобные минуты знаменитая ольштынская нейрохирург Агнешка Зюлко-Сендровская была благодарна своей покойной родительнице за то, что та все время повторяла: каждый приличный дом должен быть всегда готов к приему неожиданного гостя.
Сейчас она могла поставить на подносе кофейные чашки, порезанную на кусочки бабку, поломанный на кусочки новый шоколад Веделя[137] со вкусом конфет «Сказочные» и обычный горький. Хозяйка еще глянула в кухонное окно, хорошо ли она выглядит при это неожиданном визите. Очень даже ничего. Снова помогало мещанское воспитание, которое не позволяло шастать посреди дня в пижаме, растрепанной и без макияжа. Даже когда ей не нужно было идти на работу, и нечего было делать.
Она еще поправила длинные черные волосы, обтянула простое, синее платьице, чтобы оно не морщило между бюстом и тонким пояском, и направилась в салон.
После встречи в больнице, когда она случайно столкнулась с прокурором Теодором Шацким, Зюлко-Сендровская не могла простить себя за то, что не пригласила того к ним на чай и даже не представилась. Женщину беспокоило, что тот мог принять ее за какую-нибудь психованную особу, которая цепляется к незнакомым. А она попросту столько слышала о нем, столько читала, что чувствовала, как будто встретила знакомого. Даже просмотрела на Ютубе ролики с его участием, где он выступал на различных пресс-конференциях.
И все это по той причине, что у ее ребенка был бзик в отношении права и справедливости. Женщина улыбнулась собственным мыслям, это прозвучало политически двузначно. Как нечто такое, чего Мала, скорее всего, никогда бы не написала на своей футболке: «У меня бзик на пункте права и справедливости[138]».
Хозяйка поставила поднос на низеньком столике возле углового дивана, где уже стояли чайничек и кофейник.
Она улыбнулась прокурору, думая про себя, что тот выглядит не самым лучшим образом. Если цена сражения со злом и преступлением должна быть такой уж большой, она предпочла бы, чтобы Виктория подобной карьеры для себя не выбирала.
– Большое спасибо за то, что вы позвонили да еще позволили пригласить себя на полдник, – сказала она. – Не знаю, известно ли это вам, но для Виктории было весьма важно, чтобы диплом в школе вручал ей именно вы.
– Действительно? – изобразил вежливое удивление Шацкий, вкладывая в рот кусочек шоколада.
– Боже, надеюсь, что я не выгляжу какой-нибудь психованной поклонницей, – Виктория покраснела, нервно хихикнула, а ее мать испытала родительскую гордость.
Сколько же девичьего обаяния было в этой девушке, сколько привлекательности!
– Просто я интересуюсь правом, мне бы хотелось изучать юриспруденцию, вот я и проверяю для себя кое-чего… Господи, что-то все у меня путается. Да, в свою очередь, я ведь познакомилась с вами задолго до того, как вы начали здесь работать. Я читала про KSSIP,[139] про прокурорскую практику, потом, просто так, закинула в Ютуб запрос «прокурор», и тут вы и выскочили.
– И что? Как я вам показался?
– Откровенно? – Виктория скорчила смешную мину, щуря глаза. Ребенок, еще не уверенный в собственной взрослости, как будто бы этого немного стыдящийся.
– Понятное дело, что откровенно. Будущая пани прокурор не может лгать.
– Меня убило то, как вы выглядел. Этот ваш костюм!
– Вика! – Мать решила вмешаться, у нее не было желания разбирать дамско-мужские подтексты.
– Мама, успокойся, – Девушка произнесла это таким фарсовым тоном, что все рассмеялись. – В том смысле, что на вас этот костюм выглядел словно мундир. Даже больше скажу: словно костюм супергероя. Ведь у каждого супергероя есть свой костюм, правда? То ли трико, то ли плащ или что-то там.
– Вика, через мгновение мне станет стыдно за тебя.
– Ой, мама, я же ничего плохого не говорю. Я только хочу сказать, что вы не выглядели государственным чиновником. Кем-то большим… Кем-то таким, находящимся на стороне добра.
– Думаю, вам следует поговорить с моим асессором, – обратился прокурор Шацкий к Вике; Сендровская заметила, что ее дочери льстит эта взрослая беседа, когда к ней обращаются на «вы». Он недавно закончил краковскую школу, и, чего уж там, вам понравится. Он даже более супергероический, чем я. Вечно в костюме, всегда натянутый, всегда в роли. Иногда у меня складывается впечатление, что вместо совести у него уголовно-процессуальный кодекс. Его не интересуют мотивации, смягчающие обстоятельства, личные связи или травматические переживания из детства. Он не успокоится, если кто-то рядом нарушил закон.
– Звучит несколько прохладно, – вмешалась девушка.
– Мне кажется, что холод помогает справедливости, – заметил Шацкий. – Эмоции затемняют дело, они не позволяют объективно оценить ситуацию.
– А вы работаете парами, как полицейские? – заинтересовалась Виктория.
– Официально – нет, но мы сидим в одной конторе, помогаем друг другу. К примеру, с Эдмундом Фальком, так зовут моего асессора, мы сотрудничаем очень плотно. Обо всем друг другу рассказываем, и иногда у меня складывается впечатление, что он не только знает точно, над чем я работаю, но и всегда знает, где я нахожусь, и он знает все мои мысли. – Прокурор засмеялся, словно стыдился близости со своим коллегой. – Иногда я ловлю себя на том, что отношусь к нему не как к асессору или приятелю, но словно к младшему брату. А у вас, пани Виктория, брат или сестра есть?
Та застыла на месте. В доме никогда об этом не говорили. Эти слова настолько сильно застали ее врасплох, что она не знала, как поменять тему, быстро отставила чашку на блюдце, разлив кофе-латте, сильно разведенный молоком. Пустота, полнейшая пустота в голове, а ведь ей необходимо что-то сказать, тишина делалась все более заметной.
– А над чем вы работаете сейчас? – спросила в конце концов Виктория.
– Над делом похищения.
– О, это интересно. Трудное дело?
– Похищения всегда сложны. Нам не известно, ведем ли мы дело еще о похищении или уже убийства.
– Такая неопределенность может быть ужасной. У вас нет никакого влияния на то, что сделают похитители. Наверняка вы представляете, что где-то там похищенный человек находится во власти неизвестно кого. Тем более, если похищенный человек – это женщина, в игру входят самые мрачные сценарии. А еще, осознание того, что одно неосторожное движение с вашей стороны может все изменить.
Прокурор Теодор Шацкий задумчиво покачал головой, со всей серьезностью он был вовлечен в эту теоретическую беседу. Агнешка Зюлко-Сендровская была горда тем, что ее дочка, которая совсем недавно получила удостоверение личности, умеет так зрело вести разговор с опытным юристом. Может быть, и вправду, право – ее будущее? Даже если и так, она предпочла бы должность советника или нотариат, ведь сколько говорят о насилии в отношении к женщинам прокурорам. Нападения, обливания едкими веществами – ей даже не хотелось о подобном думать.
– Пани права. Наша цель, более чем для полиции в данном случае, является обнаружение и освобождение похищенного. Но если зло уже свершилось, тогда мы будем стремиться к тому, чтобы со всей силой применить справедливость.
– И удается?
– Практически всегда. Преступники нас неверно оценивают. Они смотрят слишком много кинофильмов, и они думают, что очень легко кого-нибудь шантажировать, оказать давление. А потом исчезнуть, раствориться в тумане. Что достаточно иметь немного хитрости и здравого смысла. Тем временем, мы не прощаем. В особенности, в случаях похищений. Ищем до получения результата. И находим. Тем более эффективно, чем более важным для нас является дело.
– Месть?
– В величии закона.
– А вас никогда не искушало действовать вне рамок закона?
Мать решила отреагировать.
– Виктория! Дитя мое! Да, напоминаю, что сегодня ты хотела выйти к Луизе!
Девушка испуганно дернулась, она мотнула головой так резко, что ее конский хвост чудом не хлестнул гостя по лицу.
– Мама, мы же не в суде. Просто разговариваем под сладкое.
– Дитя мое дорогое… – она на мгновение повернулась к Шацкому, – Прошу прощения, это на момент… – и вновь обратилась к дочери. – Пан прокурор у нас впервые, и, из того, что мне известно, его работа не заключается в действиях за рамками закона, совсем наоборот. Так что, если бы ты могла бы…
– Так что, если бы ты не одергивала меня при госте, я была бы тебе весьма благодарна, – гордо выпрямилась та.
Пани Агнешка закусила губу, но ничего не сказала. Она стыдилась того, что именно сейчас подумала о том, что гены не обманешь. Что она сама никогда бы не поступила так в отношении собственной матери. Никогда. Что, к сожалению, случаются моменты, когда гены Виктории и первые годы ее воспитания, прежде чем она к ним попала, отзываются.
– Не ссорьтесь, пожалуйста, дорогие мои дамы, – попытался смягчить ситуацию прокурор. – Я не верю в слишком сложные или неподходящие вопросы. Самое большее, не отвечу, но если в чем-то могу обратить внимание, то прошу вас прекратить сражение с любопытством этой юной женщины. Любопытство и жажда познания истины – это две ноги хорошего следователя. Без них он далеко не зайдет.
Мамаша посчитала сравнение не самым удачным, но покачала головой, как будто бы то были самые мудрые слова, слышанные ею за много лет.
– Я охотно отвечу, – сказал гость. – Поскольку пани Виктория коснулась крупнейшей этической дилеммы, сопровождающей нашу работу. Действительно, довольно часто мы бессильны. Мы ведем следствие, собираем неопровержимые доказательство, и из-за какой-то мелочи, весьма часто, формальной, все наши усилия делаются напрасными. Мало того, что нам приходится отпустить человека, в вине которого мы уверены, ба, у нас все доказательства этому имелись, так мы еще должны терпеть удары, наносимые обществом.
Пользуясь длительной речью прокурора, который, как ей казалось, выражался каким-то весьма претенциозным и цветистым образом, Виктория незаметно вытерла салфеткой залитое кофе блюдце. Ей хотелось вновь вылить эти несколько капель назад в чашку, но опасалась того, что тогда мать вернется из эмпирей и отругает при всех.
– И тогда появляется фантазия, чтобы, главное, исполнилась справедливость. Чтобы сделать хоть что-нибудь. Наказать, повредить… мы же понимаем, что у государственных органов имеется масса способов сделать гражданину нехорошо. И ни один из этих органов не откажет прокуратуре помочь в правом деле. Проблемы с налогами, с паспортами, визами, разрешениями, лицензиями, выполнением собственных профессиональных обязанностей, допросы, необходимость давать объяснения, вечное отвлечение от дел… Иногда, должен сказать, пани Виктория, подобное всевластие смущает. Если бы я уперся рогом, то мог бы навредить не только вам лично, но и всему вашему семейству до пятой степени родства так, что вы не могли бы и подняться.
Хозяйка дома громко кашлянула. Прокурор прервал выступление и поглядел на нее, в глазах у него была странная тень, а она впервые подумала, что Теодор Шацкий не обязан быть человеком добрым. Он носил в себе нечто такое, что она пыталась оформить словами. Не ненависть, не фрустрация, не агрессия – это уже было на кончике языка. Ярость, гнев – вот именно. Смешное, забытое слово, звучащее как-то по-библейски. Но гостю оно очень даже соответствовало.
– Вы сказали «вы»…
– Простите?…
– Вы оговорились. – Зюлко-Сендовская делано рассмеялась. – Вы сказали, что можете навредить моей дочери.
– Правда? В таком случае, прошу прощения, уже поздно, а день сегодня был тяжелый. Понятное дело, что это никак не объяснение, но еще раз извиняюсь. Похоже это знак, что мне следует бежать.
Виктория сорвалась резко, как-то по-детски, и взяла свой телефон, который, как обычно, подключенный к зарядному устройству лежал вместе с яблоками на буфете. Хороший телефон, подарок на восемнадцатый день рождения. Мать радовалась тому, что Виктория о нем заботится, все время держит в собственноручно связанном из пряжи футляре в бело-розовые полосы.
– Я вышлю вам эсэмэску, хорошо? Что угодно, лишь бы у вас был мой номер. С удовольствием встречусь с вами еще раз.
Мамаша улыбнулась про себя. Ее дочь может быть взрослой, может быть совершеннолетней, может высказываться словно взрослая женщина.
Но на самой деле, ее любимая доченька – это такой еще ребенок…
19
Шацкий вынул из кармана телефон, ожидая прихода сообщения. При этом он размышлял над тем: а что же дальше. Играть, как до сих пор, по правилам хитроумной лицеистки Виктории Сендровской, или перейти в наступление. Даже хотя он сам и не был в наилучшей форме, ненависть придавала ему достаточно сил, чтобы расхуярить башки одной и другой либо о мещанский дубовый буфет, либо о старинные, керамические радиаторы. Собственно говоря, было бы достаточно, разорвать на клочья уважаемую пани Агнешку Сендровскую на глазах ее приемной доченьки. Чтобы малолетка знала, как оно бывает, когда кто-то близкий страдает. А потом он бы задумался над тем, что дальше.
Он представил себе череп, бьющийся о радиатор. Представил себе трескающуюся кожу, вдавливающуюся в мозги кость. Из разбитой головы брызжет кровь, из разбитого калорифера шурует горячая вода и пар. Пани Агнешка еще в сознании, слишком неожиданно все случилось для нее, чтобы отреагировать, она даже понятия не имеет, что происходит. А он покрепче хватает ее за черные волосы, обкручивает прядь вокруг запястья и вновь херячит в радиатор. Еще больше пара, больше крови, кусочки костей на полу мало чем отличаются от кусков фаянсовых нагревателей. На их фоне хорошо заметно серое, желеобразное содержимое мозга. Сейчас доченька может видеть, как выглядит всемогущий аппарат управления ее мамочки. Временно находящийся в состоянии ликвидации.
Агнешка Сендровская улыбается ему над краем чашки. Шацкий улыбается в ответ.
Ярость заполняет его на все сто процентов. По ее причине любое действие превращалось в сверхчеловеческое усилие. Он пытался вести нормальную беседу, но чувствовал себя словно парализованный. Но прятался за словами, лишь бы не сотворить какой-нибудь глупости. Потому болтал словно слабоумный, словно провозглашал некий доклад по праву, сам понимая из сказанного, хорошо, если третье слово. Но это цежение слов, их подбор, концентрация на их грамматическом изменении, как будто он говорил на иностранном языке – это помогало ему сохранить относительное спокойствие.








