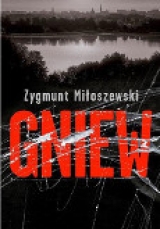
Текст книги "Ярость (ЛП)"
Автор книги: Зигмунт Милошевский
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
– Сорваны?
– Вы уж простите, но прокурор просто обязан иметь какие-то знания по анатомии. Голосовые связки – это не струны, которые можно сорвать, они представляют собой размещенные в гортани тонкие мышцы, они немного похожи на срамные губы. Их легко повредить, потому природа их хорошенько спрятала.
Шацкий поглядел на Фалька. У него были вопросы, но он посчитал, что выступает в роли патрона, и что асессор сам должен задавать вопросы в своем следствии.
– А у вас имеются какие-нибудь теории относительно того, каким образом появились такие ранения?
– Я много езжу на велосипеде, – сказала врач, и Шацкий подумал, что, возможно, это физические упражнения являются источником ее спокойствия, – и частенько останавливаюсь перед переходами. Понятно, это же Ольштын, вечно красный свет. И чтобы не сходить с велосипеда, я хватаюсь такой бело-красный столбик, который устанавливают перед переходами. И это было моей первой мыслью, когда я заглянула в горло этого человека. Что кто-то взял такой вот металлический столбик и его этим вот столбиком, прошу прощение за выражение, орально изнасиловал.
Все молчали. За окнами кабинет Земсты было уже темно, за мрачным пятном парка Шацкий видел огни в окнах дома радио, в котором утром давал интервью. Он узнал здание по характерным – очень узким и высоким – окнам.
– А возможно ли такое, чтобы он сделал это сам? – спросил Фальк. – Устроил себе увечье, поскольку пожелал наказать себя за то, что делал своей жене. Я видел разные вещи, на которые толкали людей угрызения совести.
– Я уже сотни раз повторяла различным людям, но повторю и вам: у домашних насильников нет угрызений совести, поскольку в их мире эти деяния не являются плохими. Они применяют собственное священное право на наведение дисциплинарного порядка, на воспитание, на наказание, на то, чтобы призывать к порядку. Они управляют своими двуногими недвижимостями таким образом, который посчитают самым правильным. Как правило, они этим горды, так что нет и речи об угрызениях совести или о стыде. Понятное дело, некоторые держат где-то в сознании то, что мир окончательно пошел псу под хвост, и что за побои жены могут быть неприятности. Но это ничего не меняет, просто теперь они бьют так, чтобы не было следов, или физическое насилие заменяют на психическое, вместо побоев устраивая сеансы унижения. Понятно?
Мужчины кивнули.
– Здесь срабатывает специфический механизм дегуманизации. Я не люблю сравнивать какие-либо явления с нацизмом, так как всегда это окончательный аргумент, но как и дискриминация национальных меньшинств, так и являющийся основой для домашнего насилия сексизм всегда назначен для системного насилия, разрешенного в результате идеологической пропаганды. Немцы, убивая евреев, никакого убийства не совершали, поскольку евреи не были людьми, а всего лишь евреями. Их научили этому и освободили от ответственности. Виновные в домашнем насилии тоже научены тому, что женщины – это не люди, а некий подвид, и представители этого вот подвида являются их собственностью. Потому, как психиатр, я гарантирую вам, что ни о каком самоувечии здесь не может быть и речи. Но даже если бы мы приняли фантастическое предположение, что это все он сделал себе сам, то сомневаюсь, чтобы он сделал сам себе перевязку.
– Перевязку? Вы же говорили, что у него все время кровотечение.
– Ну да, кровотечение имеется, кровь собирается и в легких, но по сравнению с масштабом поражений – это мелочь, порез. Ваш клиент не истек кровью до смерти, поскольку все наиболее важные сосуды были сшиты. Возможно, и не настолько профессионально, чтобы автора швов сразу же устроить в клинику пластической хирургии, но экзамен в институте засчитать можно.
9
Шесть часов вечера.
Он вошел в дом, повесил пальто и, к сожалению, в ноздри не проник запах горячих блюд. Шацкий направился в кухню и выкопал в холодильнике пакет томатного сока. Потряс. Полный или почти полный. Черт, он не помнил, открывал его или нет.
Теодор поставил стакан на столешницу и отвернул пробку, под ней цвела пушистая белая плесень. Выходит, открывал.
Он вылил сок в раковину, налил себе воды и уселся за кухонным столом.
И почувствовал себя голодным, и только тогда понял, что не чувствует запаха горячей пищи. Наученный опытом прошлой недели, Шацкий не стал вопить, а только проверил, нет ли от дочки каких-нибудь эсэмэсок, после чего позвонил Жене. Он узнал, что несносный ребенок ей не докладывался, ни в чем не оправдывался и не просил прощения. И вообще ничего.
А может оно и к лучшему, подумал Шацкий, на сей раз не избежит карающей десницы правосудия.
Он стал названивать Хеле, и никак не мог понять, что она, несмотря на все, вчерашний вечер восприняла как освобождение от единственной домашней обязанности. Она задала прямой вопрос, он напрямую отказал, только она и так все проигнорировала. Так в чем дело? Это что, какая-то разновидность обездоленности? Или натворила чего-то такого, о чем отец не знал, и теперь подсознательно делает все, чтобы заслужить и скандал, и наказание? Или это гормоны действуют, что она теряет контроль над собой до такой степени?
Понятное дело, что Хеля не отвечала. Невероятно. Шацкий отослал ей неприятный SMS, решил приготовить лапшу, обязательный пункт меню всех тех, кто терпеть не могут готовить, но и не желают помирать голодной смертью.
Семь часов вечера.
Женя возвратилась перед самыми «Фактами», что Шацкий воспринял с облегчением, поскольку не мог справиться с нарастающим беспокойством. Перед этим, в рамках отвлекающих действий немного убрал, немного готовил.
В морозилке нашелся пучок зеленой спаржи, он отварил ее на пару, порезал и прибавил к лапше. Ко всему этому, немного старого «янтарного» сыра, который Шацкий ценил выше пармезана, из чулана была выкопана бутвлка испанского вина на черный день… и voilà, эксклюзивный ужин готов.
– Позвони ей, пускай поужинает с нами, – сказала Женя, садясь за стол.
– Здесь всего лишь две порции.
– Перестань, позвони.
– Нет.
– Тогда позвони, чтобы, по крайней мере, знать, что все в порядке.
– Я звонил, она не отвечает.
Понятное дело, тут же бровь поехала кверху, словно в мультфильме.
– Ага. И как ты думаешь, почему?
Шацкий какое-то время размышлял, перемешивая лапшу. Это было не слишком-то по-светски, но он любил, чтобы в лапше растворилось как можно больше сыра.
– Погоди, попробую вспомнить несколько самых популярных отговорок. В Варшаве, как правило, она не могла ответить, так как находилась в метро, наверняка шла по туннелям пешком. Но здесь даже трамвая нет, так что штучка отпадает. Остается разряженный аккумулятор, или переключила телефон на беззвучный режим, как хорошая ученица, и забыла об этом, или же спрятала поглубже в сумочку, чтобы нехорошие ольштынцы не напали и не украли цацку. Довольно часто еще случаются различные аварии. В последнее время довольно популярна была отговорка «из-за мороси», мол, если звонишь с улицы, так телефон «подвешивается». И всегда, когда я это слушаю, меня удивляет одно.
– Ну?
– Неужели она не знает, чем я занимаюсь? Что после двух десятков лет, в течение которых я выслушиваю различных преступников и разбойников, она, по крайней мере, из уважения к отцу должна приготовить какую-нибудь продуманную ложь? Больше всего меня обижает то, что она желает меня обмануть на «отъебись». Тогда я думаю, что она не уважает меня как прокурора.
Лежащая рядом мобилка зазвенела. Шацкий глянул на экран.
Это не Хеля, ни кто-то другой из его адресной книжки, но и не из черного списка.
– Ну вот, пожалуйста, – сказал он, беря аппарат. – Я переключу на динамик, чтобы ты сама слышала, как она выкручивается, что ее телефон разрядился, что поначалу искала зарядку, не нашла, и вот только теперь звонит от подружки, а раньше не хотела, потому что у подружки мало средств на счету. Сама увидишь.
Он нажал кнопку приема.
– Да?
– Это пан прокурор Шацкий? – спросил женский голос. Молодой, но и не слишком молодой.
Теодор Шацкий сглотнул слюну. В голову пришла чудовищная мысль, что звонить может кто-то из полиции или скорой помощи.
– Слушаю.
– Меня зовут Наташа Кветневская, звоню из журнала «Дэбата». Во-первых, я хотела бы представиться, потому что, наверняка, мы будем долго сотрудничать…
– Я уже не работаю.
– Не понимаю.
– Уже начало восьмого. Я сижу дома и ужинаю. Не работаю.
Женя вздохнула и устроила подбородок на сомкнутых пальцах, сладко улыбаясь, явно довольная тем, что может послушать эту беседу.
– Тогда знайте, что мы работаем. В средствах массовой информации рабочее время понятие относительное. Я хотела бы вас прокомментировать сегодняшнее судебное рассмотрение дела пана Адамаса. Что вы скажете по факту того, что художника преследуют, а его работы проходят цензуру функционерами юстиции под предлогом нарушения общественного пространства.
Шацкий глянул на Женю и пожал плечами. Он понятия не имел, о чем идет речь. Та прошептала ему: «И-винь-ский». Тут что-то начало проясняться, по радио прокурор слышал, будто кто-то упоминал Ивиньскому о его прошлом в ПОРП, повесив табличку с соответствующим текстом на депутатском кабинете политика.
Вообще-то говоря, следовало бы попросить позвонить завтра. Вообще-то…
– Поймите верно, что содержание упомянутой работы здесь с делом никак не связано, поэтому наши действия трудно назвать цензурой, – очень серьезным тоном заявил Шацкий в трубку. – Речь исключительно связана с ее эстетикой. Наше учреждение было обязано, что следует из директив Сообщества, преследовать лиц, которые своими действиями делают неэстетичным общественное пространство. Произведение пана Адамаса, по нашему мнению, критериям эстетики соответствует недостаточно.
– Но как вы считаете, какими последствиями могут обладать ограничивающие применения этой директивы?
– Мы оцениваем, что в Ольштыне это будет связано с плановым разрушением около двадцати процентов городской застройки, – сказал Шацкий и отключился.
Женя постучала себя по лбу.
Восемь часов вечера.
Калории, спиртное и компания Жени, хотя все это, возможно, следовало бы выставить и в другой очередности, привели к тому, что его беспокойство несколько стихло. Шацкий не мог вернуться к рутинному нетерпению или, как вчера замечательно выразила его дочь, к ярости. Он посчитал, что еще подождет Хелю, чтобы отругать хорошенько, и только потом отправится спать.
– Ты считаешь, я должен назначить ей какое-то наказание? – крикнул он из большой комнаты Жене, которая отогревалась в ванне.
Та не услышала, поэтому Шацкий взял бокал с вином и отправился в ванную.
– Можно?
– Нет.
– Почему? Я хотел поглядеть на тебя голенькую.
– Представь себе, что не всякий раз, когда я здесь, то обкладываю себе сиськи пеной и нетерпеливо ожидаю моего похотливого любовника.
– Так ведь туалет у нас отдельно.
– Ну что я могу поделать, раз уж мне нравиться посрать в ванну. Не глупи, я провожу косметические мероприятия, в ходе которых выгляжу ужасно непривлекательно. Сейчас никакой мужчина не может меня видеть.
Шацкий уселся на полу возле двери.
– Тебе не кажется, что я обязан назначить ей какое-то наказание?
– Не вмешивай меня в это.
– Я серьезно спрашиваю.
– А я тебе серьезно отвечаю: меня не вмешивай.
Шацкий вздохнул. Наказания никогда не были его сильной стороной. Он прекрасно понимал, как это звучит, и что, будучи прокурором, просто не имеет права иметь подобного эпиграфа, вышитого на салфеточке над своим рабочим столом. Будучи прокурором, он четырежды требовал пожизненного заключения, и у него даже веко не шевельнулось. Но он понятия не имел, как наказать шестнадцатилетнюю девицу. Ну что, никуда не пускать из дому? Она над ним просто посмеется, будет сидеть у себя в комнате и, пользуясь компьютером и телефоном, зависнет в социальных сетях. Отобрать деньги, так тогда она чего-нибудь словчит, и тогда либо мать переведет, либо даст Женя.
– Выдумай чего-нибудь, в конце концов, это же ты злая мачеха.
– Женись на мне, тогда я сделаюсь злой мачехой. Пока же что я злая сожительница. Джизес, как же это звучит, словно какая-нибудь криминальная хроника.
– Попробую еще раз до нее дозвониться, – буркнул он, лишь бы поменять тему.
Девять часов вечера.
Совместно они посчитали, что это перестает быть веселым. Несмотря на позднее время, Шацкий нашел телефон классного руководителя Хели, позвонил и получил контакты родителей детей, которых назвал. Классный, который на родительских собраниях произвел на Шацкого совершенно никакое впечатление, оказался весьма компетентным, а прежде всего, помог совместить несколько прозвищ с именами и фамилиями. Еще он попросил отослать эсэмэс, когда ребенок уже найдется, вне зависимости от времени дня и ночи. В связи с чем Шацкий пообещал себе поменять мнение об этом преподавателе немецкого языка.
Десять вечера.
Они разделили знакомых Хели и обзвонили всех, разговаривая сначала с родителями, а потом и с детьми. Женю беспокоило то, что по причине подобной истерической акции ровесники потом будут издеваться над несчастной девчонкой. Как следил за ней отец-прокурор, допрашивая ночью одноклассниц. Шацкий, в свою очередь, черпал из этого злорадное удовлетворение, считая, что наделать стыда – это тоже неплохое наказание. Ведь все подростки преувеличенно чувствительны в плане собственной любви и позиции в группе.
Во-во, размышлял он, ожидая очередного соединения, будет тебя и другое наказание. Ежедневно он станет ожидать ее возле школы. Белые носочки, сандалеты, турецкий свитерок и берет с хвостиком. А как только она появится в двери, он будет кричать: «Хеля! Хеля! Я здесь!». Три дня подобного спектакля, и она приклеит телефон к виску, чтобы уже не пропустить звонок от любимого папочки.
Разговоры со знакомыми Хели были бесплодными. Часть одноклассниц могла лишь вспомнить, что Хеля в школе была. Две другие утверждали, что после уроков втроем еще отправились на замороженный йогурт (по мнению одной из них) или на кофе (по мнению другой). Что, наверняка, означало, что они сидели где-то и курили сигареты, пили пивко или принимали наркотики каким-то модным теперь образом. Шацкий прижал обеих, но они согласно утверждали, что расстались около пяти вечера под ратушей, и что Хеля направилась в сторону почты, то есть – в сторону дома.
Эта информация Шацкому не понравилась. Она означала, что вместо чуточку более длинной, зато людной и хорошо освещенной дороги возле «Альфы», девушка выбрала более короткую – пустоватую улицу между задами торгового центра и темной, зеленой дырой. Неожиданно ему вспомнились все старые дела, которые начинались с того, что молодая привлекательная брюнетка шла ночью мимо заброшенного парка. Прокурор быстро отогнал подобные картины, так как они мешали ему четко рассуждать. Но в этот момент он впервые испытал неподдельный страх за Хелю. Несколько секунд не удавалось нормально вздохнуть.
Обеих девиц он допросил относительно наличия парня, но обе довольно откровенно это отрицали. Вопреки тому, что могло казаться, это тоже не было хорошей новостью. Гуляние с провожаниями с обожателем, одноклассником или студентом из Кортово[101] означало бы, что его дочка не приходит домой и не отвечает на телефонные звонки, поскольку именно сейчас, напичканная гормонами теряет девственность (если, конечно, ее еще имеет) в каком-то из студенческих общежитий. В этом оптимистическом варианте, обедневшая на девственную плеву, но обогащенная жизненным опытом, она садится потом в автобус, возможно – заказывает такси или звонит отцу.
С парнями разговоры шли труднее, у всех у них были замедленные, несколько отсутствующие голоса, как будто бы они только-только оторвали головы от подушки, и кровь еще не успела проникнуть в мозг. Хелю они вспоминали, но сегодня видели ее только в школе. Ни о каких ее поклонниках и вообще связях они понятия не имели. Но некий Марчин при этом тяжко вздохнул. Наверняка Хеля ему нравилась.
Вместе с Женей они отработали весь список, но так ничего и не узнали.
Одиннадцать вечера.
Те шестьдесят минут между десятью и одиннадцатью вечера были переполнены напряжением. Закончив со знакомыми Хели, они вместе проверяли, не случилось ли в городе чего плохого, в чем Хеля могла принимать участие. Шацкий позвонил Беруту и попросил его воспользоваться всеми полицейскими каналами, прежде всего – в дорожной полиции. Женя запустила свои старые врачебные связи и нашла знакомую на дежурстве в воеводском госпитале. Та обещала навести справки как в их SOR,[102] так и в остальных приемных покоях и на станциях скорой помощи.
Отец Теодор Шацкий чувствовал себя паршиво. Он заставлял себя размышлять по делу, не отвлекаясь на мелочи, но никак не мог привести к порядку суматоху мыслей и картин, производимых его возбужденным мозгом. Выброс адреналина привел к тому, что он все воспринимал излишне пластично, он не столько думал о событиях, сколько их видел. Да будет проклята профессия, по причине которой всю жизнь наблюдал он картины, которые сейчас мог спроецировать на дочку.
Хелена Шацкая, сбитая одним из пьяных водителей. Валяющаяся в кустах, сапоги отдельно, поломанные ноги, согнутые под невозможными углами в местах, где никаких суставов и нет. Проваленный череп, обнаженная нижняя челюсть, пена из крови и слюны.
Хелена Шацкая в отделении скорой помощи, врачи беспомощно глядят один на другого, после удара об дерево нет грудины, на которую можно было бы нажимать, чтобы реанимировать девушку.
Хелена Шацкая в отделении интенсивной терапии, интубированная, оплетенная проводами и трубками. Он сидит рядом с дочкой, на столе рядом решение о передаче органов для трансплантации; он не может поверить в то, что именно сейчас должен принять решение об отключении аппаратуры. Пока что Хеля жива и, возможно, слышит, как он ей постоянно твердит, что она самая замечательная на свете дочка. Одна подпись отделяет его от высказывания данных слов до ее надгробия.
Хелена Шацкая и ее похороны. Он удивляется тому, что гроб такой большой и взрослый, в конце концов, его дочка еще ребенок.
Ему было легче представлять смерть Хели, чем то, что она пала жертвой насилия. Что ее затащили в какую-то квартиру, бросили на старую софу или на дизайнерский диван. И явно, что это сделал коллега, знакомый, который мило улыбался и пригласил к себе на бокал вина. Казалось бы, что это лучше соударения с разогнавшимся грузовиком, наверняка лучше, чем смерть. Только прокурор Теодор Шацкий неоднократно вел дела о насилиях, и он знал, что происходит с жертвами. После кражи автомобиля человек приходит в себя и покупает новый. Жертва нападения в темной улочке какое-то время боится гулять после наступления темноты, но жизнь, в конце концов, возвращается в свои колеи. Даже жертвы попытки убийства становились на ноги, когда им помогала ярость и желание мести.
Жертвы насилия в себя уже никогда не приходили. Теория была ему знакома. Он знал, что такое состояние было описано как синдром посттравматического стресса, что часто случалось: травма полностью исключала женщин из семейной, общественной, профессиональной жизни. Неоднократно жертвы насилия попадали в психиатрические отделения, где их лечили таким же образом, как возвратившихся из зарубежных миссий солдат, которые вдели, как мина-ловушка разрывает их коллег в клочья.
Шацкий никогда не слышал о женщинах, которым бы удалось насилие переварить в себе, которые бы потом жили нормально, которые бы забыли. Всякое преступление против жизни и здоровья оставляет свой след, только вот насилие, самое грубое вторжение в человека, нарушение всяческого уровня его приватности и свободы, сведение до состояния куска теплого мяса, в который некто способен запихнуть свой член, это было то же самое, что и выжигание тавра. Не нанесение, а постоянное выжигание. Эхо этого события возвращалось к жертвам не иногда, не временами, но беспрерывно. Все время кто-то держал палку с раскаленным куском железа и прикладывал им к душе. Привыкнуть можно было, но нельзя было не чувствовать.
Первым позвонил Берут. Нет, ничего не произошло. Патруль прошел сквозь черную зеленую дыру с камерой тепловизора, ничего найдено не было. Территория еще раз будет обследована, когда рассветет.
Потом позвонила знакомая Жени. Шацкий чутко следил за лицом своей сожительницы.
– Нигде ее нет, – сообщила та после завершения разговора. Ни ее самой, никого такого, кто мог бы, более менее, соответствовать. Баська на дежурстве до утра, пообещала, что будет регулярно проверять.
Шацкий согласно кивнул.
– И что теперь? – спросила Женя.
– Ничего, – ответил он. – Ожидаем. Еще слишком рано, чтобы заявлять о пропаже, наверняка рано и для начала поисков. Это не четырехлетняя пацанка, а практически взрослая женщина. Статистика на нашей стороне. Самое позднее, утром Хеля должна постучаться в двери, с ужасной головной болью и раскаявшаяся, как обычно и заканчиваются пропажи подростков.
– А если нет?
– А если нет, тогда начнутся лучше всего скоординированные, за всю истории Польши, поиски пропавшего человека, – спокойно ответил Теодор.
Полночь.
Они сидели за кухонным столом, не говоря ни слова. Шацкий уловил себя на том, что прислушивается к шорохам у подъезда, к тихому скрипу старых ворот, выискивает в звуках характерные шаги собственной дочери. Но снаружи царила тишина.
– А нет ли такой возможности, что она сбежала? – спросила Женя.
Шацкий пожал плечами. Он прекрасно понимал, что когда родители упираются в том, будто бы они знают своих детей, это проявление ужасной наивности с их стороны.
– Первая мысль, сомнительно, но когда мы объективно поглядим на ее ситуацию, то такие причины у нее имеются. Сейчас у нее сложный возраст, из Варшавы ее забрали вопреки ее желаниям, вырвали из привычной среды. Она вынуждена жить с новой партнершей своего отца, с нуля выстраивать контакты в школе, у ровесников, искать друзей. Нам казалось, что девочка держится, но ведь это могло быть и позой. И вдруг что-то произошло, что-то лопнуло.
– Сообщила бы она матери?
– Не знаю. Если до восьми Хеля не найдется, позвоню ей, обзвоню всех родственников, доберусь до ее варшавских знакомых.
– А почему не сейчас?
– Сейчас это еще не так важно. Если она пала жертвой преступления или несчастного случая, то никто из семьи ничего не знает. Разве что начнут истерику среди ночи. А если поехала к кому-то знакомому, тогда она в безопасности. С людьми лучше разговаривать днем, чем в данный момент.
Дальше они сидели в тишине. И потому Шацкий буквально подскочил, когда зажужжал лежащий на столе телефон. Он глянул на экран и почувствовал физическое облегчение, как будто бы некое сказочное средство расслабило все его напряженные до границ боли мышцы.
– От Хели, – сообщил он.
Женя крепко сжала его руку, было видно, что она в любой момент готова расплакаться.
– Интересно, и откуда необходимо забрать эту паршивку, – буркнул Шацкий, не имея возможности сдержать дрожь в голосе.
Он открыл сообщение. Никакого текста, только снимок. Странный, практически монохроматический. Строго посреди квадрата фотографии находилась ржавая окружность. Пространство за пределами окружности было серым, пространство внутри – абсолютно черным. Все это выглядело словно открытка из музея современного искусства.
– Это что, какая-то шутка? – спросила Женя. – Или какой-то ваш код?
– Я должен идти на работу, – очень спокойно сообщил Шацкий.
Он спрятал телефон в карман и встал. Снял пиджак со спинки стула, надел, инстинктивно застегнул верхнюю пуговицу.
– Тео, что на этом снимке?
– Честное слово, сейчас не могу. Расскажу все потом. Буду напротив. Доверься мне.
У его любимой Жени был страх в глазах, но сейчас он никак не мог ею заняться.
Теодор Шацкий прекрасно знал, что изображено на этом нерезком, серо-буром снимке.
Это было устье чугунной трубы.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
среда, 4 декабря 2013 года
Барбурка [103] . Выпивают все Барбары, выпивают и все горняки. Возможно, что выпивают и Джей Зи с Кассандрой Уилсон [104] , поскольку сегодня у них день рождения. Празднует еще и Ярослав Говин [105] , но он, похоже, не пьет. Протесты на Украине продолжаются. Янукович уехал в Китай и рассчитывает на то, что дело рассосется само собой. В Хорватии объявляют результаты референдума, в котором большинство граждан высказалась за то, чтобы прибавить в конституцию запись, говорящую о том, что супружество – это «союз только лишь мужчины и женщины». Польская эмоциональная статистика: отец является близким лицом только лишь для 16 процентов опрошенных; секс ассоциируется с близостью для 8 процентов респондентов. Экономическая статистика: 57 процентов поляков тратит все зарабатываемы деньги. Экономические факты: правительство забирает деньги граждан из OFE [106] . В Ольштыне ПКП [107] сражаются с чумой кражи путей (пропало уже 8 км), а в новом здании клинической больницы проходит первая операция: вставляли выпавший поясничный диск, пациент чувствует себя хорошо. Хорошо чувствует себя и учитель физкультуры из Джвержут, который выиграл плебисцит на лучшего учителя. Он получил диплом и путевку на курорт. Природа не может терпеть пустоты, поэтому сразу же объявляется плебисцит на лучший снимок в шапке святого Миколая.
Елка перед ратушей действует, все гирлянды горят. Два градуса, пахнет зимой; люди поглядывают в небо и ожидают снега. Скоро он уже посыплется, но пока что день как день: туман и замерзающая морось.
1
Час ночи.
Странно, но он, в конце концов, испытывал спокойствие. А ведь не должен был, поскольку узнал, что его дочь может погибнуть чудовищным образом, растворенная каким-то психом в чугунной трубе с помощью пары кружек «крота». Но ведь он не получил сообщение с кучей костей, плавающих в щелочном «вареве», а всего лишь с нерезким снимком трубы. Это означало приглашение в игру, а в любой игре можно выиграть. Даже если карты крапленые, и одна сторона диктует правила по своему разумению – все равно, выиграть можно. Потому у него сейчас не было никакого иного выхода, как подумать. А потом победить.
Это был логичный выбор.
Шацкий прибрал на столе, сделал себе большую кружку заварного кофе, положил перед собой материалы следствия по делу Наймана и начал думать.
Два часа ночи.
Ему было сложно преодолеть желание незамедлительно действовать. После каждой мысли возникало желание хвататься за телефон, вытаскивать из кроватей Берута, Фалька и Франкенштейна. Беседовать с ними, указывать, что делать, громким голосом отдавать приказы. И всякий раз, чуть ли не физическим усилием он убеждал себя не делать этого, сначала необходимо все разложить в голове, составить план, пересмотреть его раза четыре и только потом внедрять. Комбинировать следовало быстро, на все про все у него было, самое большее, часа четыре, может, пять.
Прежде всего, он предположил, что следует написать собственные правила игры. Смухлевать, и, благодаря этому, победить. Как в той знаменитой сцене с Индианой Джонсом. Противник размахивает саблей, уверенный, что через миг порубит археолога на кусочки, на что тот вытаскивает пистолет и завершает дело одним выстрелом. Его ситуация была аналогичной. Противник размахивает инкрустированной саблей, крутит пируэты, хвастает всем своим добытым за многие годы фехтовальным мастерством, планирует, как он в последующих перемещениях и ударах станет унижать, показывать свое превосходство – и получает маленькую пулю прямо между глаз. Бах.
Вот какова была стратегия Шацкого: бах.
Она означала, что ему следовало действовать непредсказуемо, чуть ли не иррационально. Этот способ должен быть совершенно иным, чем предусмотрел противник. Только так сможет он вставить ему палку в колеса.
Шацкий пришел к такому выводу и понял, что если он сам желает действовать таким образом, необходимо принять самое трудное решение в жизни. Не только профессиональной, но и жизни вообще. Преступник наверняка предусматривал, что сейчас Шацкий воспользуется своим положением звезды прокуратуры, чтобы развернуть операцию, которая станет темой дня номер один не только польских, но и мировых информационных агентств. Эксперты будут анализировать фотографию трубы, информатики своими путями будут устанавливать, откуда было передано сообщение. Любая запись с камер на трассе «школа – Эбдо[108]» будет просмотрена и проанализирована. В дело вступят проводники с собаками. Вся полиция будет брошена на то, чтобы допросить всех, кому в тот день не посчастливилось пребывать в центре, и которые чего-то там могли видеть. Самые обычные действия, реализуемые в случае похищения, только доведенные до абсурда: портреты Хели круглосуточно по всем телевизионным каналам, репортеры, в режиме реального времени ведущие передачи из-под ее школы.
У Шацкого было огромное желание начать действовать именно этим классическим образом, каждый нейрон в его голове вопил, чтобы хозяин поступил именно так. Каждый? Почти что каждый. Горстка защищалась, утверждая, будто бы преступник просто обязан был предвидеть подобные рутинные действия. Более того: он наверняка их ожидал. И как раз потому он должен был поступить наоборот. Укрыть перед всем миром факт похищения, не сообщать никому, загадку решить самостоятельно и только лишь после того наносить удар.
Он размышлял о споре Фалька и Клейноцкого. Асессор утверждал, будто бы данную ситуацию нельзя сравнивать с аутодафе, убийства, совершенного в какой-то лесной хижине – с публичной экзекуцией, которая должна была привлекать толпы и информировать, чего делать можно, а чего – нет. Клейноцкий аргументировал, что, возможно, все дело должно стать публичным и видимым лишь тогда, когда движущая делом личность посчитает это необходимым. И, похоже на то, что он был прав. Постройку места для сожжения они преждевременно приняли за экзекуцию.
Огонь должен был вспыхнуть, когда публика будет соответствующим образом возбуждена и надлежащим образом подготовлена. Вот в этом был смысл. Костер следует поджигать тогда, когда толпа заполнит рыночную площадь, и нужно быть уверенным что она не разойдется до тех пор, пока не получит своей доли крови и сенсаций. Разве кто-нибудь, находящийся в здравом уме, спалил бы колдунью походя, без рекламы, в связи с чем большая часть горожан оставалась бы в уверенности, что где-то в центре вспыхнул небольшой пожар, но его, похоже, тут же и погасили.
Вопрос, как поведет себя преступник, если увидит, что, вопреки его ожиданиям, безграничная истерика в связи с исчезновением дочки прокурора начата не будет.
Да, это был хороший вопрос. Шацкий встал и начал ходить вокруг своего письменного стола. А за окном царила чернейшая из всех черных ночей. В черной зеленой дыре не мигали желтые огни строительных машин, давным-давно отключили иллюминацию собора. Чернота, и ничего более.








