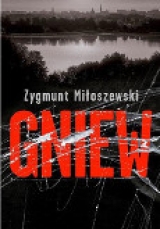
Текст книги "Ярость (ЛП)"
Автор книги: Зигмунт Милошевский
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
– Вы им ничего не можете сделать.
– Я – не могу. Но вот другие – могут.
– Наймете мафию, чтобы их избили? Не будьте смешным!
– Можно было бы и так. Но я знаю лучшие способы.
Он склонился к Кивиту и с мельчайшими подробностями описал ужасную судьбу, которая может стать уделом его сыновей.
Предприниматель глянул на Шацкого с омерзением.
– Ну вы, блин, и перец, – сказал он. – Ну да ладно. У меня имеется предприятие, изготовляющее тенты, но еще и баннеры, впрочем, вы наверняка знаете. На подъезде к Барщево. Там с одной стороны такая рощица с небольшими сосенками, а с другой стороны – дом на большом участке. Самый обычный, односемейный, с маленькими колоннами спереди. Семья самая нормальная.
Всегда это выглядит одинаково, подумал Шацкий, чувствуя усталость и скуку. Все сами себя считают исключительными, единственными в своем роде, а как только необходимо исключительность у других, вечно: «на первый взгляд, самая нормальная семья».
– И? – глянул прокурор на часы. К сожалению, время не стояло на месте, наоборот, стрелки, казалось, перемещались с заметной скоростью.
– Полгода назад весной случилось несчастье. Он отправился на работу, она осталась с ребенком, маленьким. Сломалась печка, окись углерода. Трагедия, в газетах постоянно об этом пишут, что это тихий убийца. А потом люди говорили, что это не несчастный случай, что там вообще нехорошее происходило.
– И она искала у вас помощи, правда?
Кивит замолчал, долго глядел в окно, как будто бы в сером тумане прятались ответы.
– Я был с сыном, старшим. – Хозяин кивнул в сторону холла, давая понять, что речь идет о пареньке, которого Шацкий только что видел. – Вот он принял это близко к сердцу, а я приказал ему не вмешиваться, потому что там все семейные дела, на кой ляд ему полиция, прокуратура, сплошные тебе неприятности. Сын не послушал, пошел туда к ним переговорить с тем типом. А тот над ним посмеялся, а потом как раз тот несчастный случай с печкой, странное такое стечение обстоятельств. – Кивит откашлялся. – Самые обычные люди, никакой патологии. На дворе горка для малого, прыгалка, небольшой бассейн. Нормальный дом. Несколько раз я беседовал с мужиком через ограду, нормально все, то ли про машины, то ли про то, как косить траву, не помню. Абсолютно нормальный мужик. Вы понимаете?
Шацкому не хотелось согласно кивать. Он ждал информации, которая бы ему помогла, а все трагедии всего мира ему были до лампочки.
– И вот кто бы по верил, что в подобной ситуации женщина просто не заберет детей и не хлопнет дверью. Прошу прощения, но я всегда, как слышу подобные истории, то вы же сами понимаете, значит – сама была виновата. В подвале е засов он же ее не закрывал. Ну да, иногда я слышал крики, когда до ночи сидел с бухгалтерией, но вы сами скажите, а кто дома не ссорится? Вот какая семья не ссорится?
– Вам известно, что с ним случилось?
– Вроде как у него суд в Сувалках, он там теперь у матери проживает, – сообщил Кивит. – Мать взяла над ним опеку после несчастного случая, пьяный водитель его сбил, теперь сидит в коляске и до конца жизни ссать будет в мещочек.
Он сообщил об этом совершенно естественным тоном, «ну, вы же знаете, разное бывает», а Шацкий понял, что даже нет смысла спрашивать, задержали ли водителя. Он вопросительно глянул.
– Пан прокурор, – продолжал Кивит, неожиданно сделавшийся старше лет на пятнадцать. – Я понятия не имею, кто это был, и где они меня держали. Недолго, неполный день. Я сам ни с кем не разговаривал, да и мне никто слова не сказал.
– Где?
– Дом на лесной опушке. В Польше таких миллионы. Не новый, не старый – просто дом. Я даже не мог бы сказать, здесь это или где-то под Мальборком или Остролэнкой. Мне весьма жаль.
– Особые приметы?
– Телевизор на стене, – произнес Кивит настолько тихо, что Шацкий не был даже уверен, правильно ли расслышал.
– Что на стене?
– Телевизор. И операционная.
Кивит инстинктивно коснулся правого уха.
6
Она лежала навзничь, положив руки под голову, но вдруг в голову пришла мысль, что, возможно, за ней следят посредством камер, после чего села в позе жертвы похищения. Коленки подтянуты под подбородок, ноги охвачены руками, голова опушена. Ей не хотелось, чтобы какой-то псих увидел ее лежащей на кровати, из-за чего у него могли появиться дурацкие мысли. Больше всего Хеля боялась, что ее изнасилуют.
Она настолько боялась этого, что даже не могла об этом думать; мысли о насилии совершенно не клеились, не вели к придуманным образам и звукам, они просто шастали в голове, отражаясь от черепа, иногда какая-то из них цеплялась за нейроны, и тогда Хелю словно парализовало, она не была способной что-либо сделать или подумать о чем-то другом.
Она читала газеты, смотрела телепередачи. Она понимала, что может означать изнасилование, что в течение долгого времени многие люди будут считать ее просто куском живого мяса. Что они сделают ей ужасную неприятность, что никогда уже она не будет такой же, какой была. С изумлением она открыла в себе мысль, что легче представить свою смерть. Смерть была чем-то вроде перехода в неизвестное, да, она вне всякого сомнения означала конец, но могла быть и неожиданностью. А вот в изнасиловании неожиданности не было. Попросту, ей придется жить дальше, может быть, коротко, может – очень долго, и всю эту жизнь она проживет как женщина, которая свое взрослое существование начала с того, что была куском живого мяса.
И она решила, что если что, она попробует еще немного выдержать, а потом спровоцирует их к тому, чтобы ее убили.
7
Ошибся он ненамного. Шацкий был уверен, что Моника Найман будет ожидать его в холле, женщина же нервно мерила шагами подъездную дорожку. Когда он неуклюже выбрался из патрульной машины марки «киа», женщина уже стояла рядом. Она подождала, пока прокурор захлопнет дверь и выпалила:
– Пан еще об этом пожалеет.
Дуновение холодного ветра, но другого, чем до сих пор, теперь сухого, морозного. Это был ветер, который обещает начало зимы. Шацкий застегнул пальто, глянул на Монику Найман, глянул на стоящий за ней серый дом, немного неухоженный, в самый раз для центра общественной помощи и центра терапии зависимостей. И действительно, оба центра размещались именно здесь, вместе несколькими иными учреждениями, которых здоровые, счастливые и богатые люди никогда не посещают.
Шацкий понимал бешенство пани Найман. Он не оставил ей выбора, когда послал к ней Берута с информацией, что либо та согласится на срочный допрос своего пятилетнего сына, либо прокурор перестанет принимать ее признания за достоверные. Прокуратура потребует принятие превентивных мер, передаст дело в суд по вопросам семьи, и ей придется объясняться перед кураторами, может ли она, будучи особой, подлежащей полицейскому надзору, обеспечить ребенку соответствующие условия. Все это Шацкий написал Беруту на листочке, чтобы тот прочитал женщине, он опасался того, что полицейский окажется мягким, чтобы эффективно шантажировать мать привлечением государственной машины, с целью отобрать у нее ребенка.
Женщину он понимал, но на нее ему было наплевать. Необходимо было действовать не так, как обычно, это был единственный его шанс. А раз от супруги Наймана не удавалось ничего вытянуть, он вытянет это из ее ребенка. Дошкольникам гораздо труднее удается скрывать правду, чем их мамашам.
– У вас был шанс. Нужно было говорить правду, – заявил прокурор.
Какое-то время он еще глядел на нее, надеясь, что та передумает и расскажет ему все, что знает. Он чувствовал, что та раздумывает. Наверняка думает о том, а знает ли ребенок что-то такое, что бы могло стать для нее опасным. В конце концов, женщина отодвинулась, позволяя Шацкому войти в здание.
Тот прошел по темному коридору, украшенному мрачными плакатами, предостерегающими от зависимостей, прежде всего – от алкоголя («Самогон – причина слепоты»), поскольку в здании размещался терапевтический центр по работе с алкоголиками и наркоманами, думая, что дорога к дружественной комнате допросов должна выглядеть все же по-другому. Или это было сделано сознательно. Когда ребенок уже сойдет с глаз жертвы самогоноварения, допрос для него будет, словно любимые занятия в детском садике.
В конце коридора ожидала очередная женщина, не менее взбешенная, чем предыдущая.
– Если бы не Женя, – она в обвинительном жесте нацелила палец в Шацкого. – Если бы не то, что провела с ней в общежитии несколько лет, зубря анатомию…
– Я тоже рад видеть тебя, дорогая Аделя, – произнес Шацкий, неуклюже изображая радость от чистого сердца. Та у него никогда не выходила хорошо.
– Ладно, по крайней мере, окажи уж мне такую услугу: не старайся, – процедила та. – Мне нужно две недели для подготовки такого допроса, а не пару часов. Если бы не Женя, я только бы рассмеялась тебе в лицо, а может даже донесла о том, что тебе подобная мысль вообще пришла в голову.
Но ты согласилась, потому что в голосе старой подруги услышала нечто такое, что тебя убедило, подумал прокурор.
– Ты даже понятия не имеешь… – начал было он ее благодарить, но та его перебила.
– Не надо уже. У тебя имеются какие-то вопросы помимо тех, что передал мне твой мрачный типус?
Вопросы у него были.
Дружественная комната для допросов состояла из двух помещений. Первое представляло собой место для расспросов, устроено оно было словно небольшая детская комната. Пастельные цвета, детская мебель, плюшевые животные, игрушки, карандаши. Все камеры и микрофоны для тщательной регистрации прослушивания были спрятаны. Не было кровати, не было и шкафа, зато дополнительным, необычным элементом оснащения комнаты было зеркало на полстены.
За зеркалом находилось другое помещение, называемое техническим. Там следили за регистрацией допроса, там за беседой психолога с ребенком следили участники дела. В данном случае это были: подкомиссар Ян Павел Берут, Моника Найман, прокурор Теодор Шацкий и судья Юстына Грабовская. Судья была обязана присутствовать, поскольку, в соответствии с новейшими процедурами, ребенка можно было допросить всего лишь раз, а речь шла о том, чтобы допрос обладал доказательной силой в суде.
Шацкий, на первый взгляд, с безразличием прислушивался к необязательной беседе (она касалась героев мультиков) с маленьким Петром Найианом. Одним ухом он слушал какую-то чушь про слона в клеточку, не спуская глаз с монитора, на который техник переключал виды с разных камер. Общий план, оба собеседника в профиль, приближение на Аделю, крупный план маленького Петра. Над монитором электронные часы отмеряли время с точностью до сотых долей секунд, две последние цифры менялись быстро, сливаясь в пульсирующую точку, напоминая Шацкому о том, что каждая вспышка приближает смерть Хели.
11:23:42:пульсации.
Тем временем слон в клеточку ходил в гости к тете, история, похоже, была веселой, потому что из динамиков зазвучал громкий смех мальчишки и Адели. Шацкому очень хотелось зайти вовнутрь и усмирить компанию. Понятное дело, что он знал теорию допроса ребенка. Что необходимо применить техники собеседования, по мере возможности ребенка расслабить и выяснить ситуацию, объяснив, что он и не должен знать все ответы на вопросы, и что все это в порядке, просто нужно поиграть во взрослого, который совсем ничего не знает, и вот ему объяснить нужно. Да, теорию он знал, только сейчас его доводило до белого каления то, что все это тянется так долго.
– А ведь я так и не знаю, как же выглядит твой дом. – Аделя комично разложила руки, и малыш рассмеялся. – Расскажи, как выглядит то место, в котором ты играешься.
– Играюсь я в своей комнате. Там у меня и игрушки, и книжки, и паззлы. А еще такой ковер, как улица, чтобы можно было гоняться на машинках. А еще у меня есть лампа, в которой плавают пузыри.
– Цветные?
– Желтые, то есть yellow.
– Вот это да! Ты знаешь английский язык. А какие-нибудь другие цвета знаешь?
– Orange. Это будет оранжевый.
Аделя задохнулась от впечатления, а мальчонка покраснел от гордости. Тем временем Шацкий согласился с тем, что малолетний наследник туристического бизнеса более похож на отца, чем на мать. Физически. Это настолько, насколько мог оценить, помня фотографии Наймана: широкое лицо, темные глаза, темные волосы, четко очерченные брови. А вот какого-либо подобия с материю видно не было. Разве что только вырез губ. Если бы та сказала, что мальчик приемный, ни у кого не было бы сомнений.
– А ты где больше любишь играть игрушками: в детском саду или дома?
– В детском саду.
– А почему? Ты мне расскажешь?
Все вопросы должны были быть открытыми, нельзя было задавать вопросов, на которые ребенок мог ответить «да» или «нет». Это не гарантировало, что маленький свидетель понял вопрос; кроме того, в стрессовых ситуациях у детей наблюдалась тенденция соглашаться со взрослыми, если они не понимали вопроса. Или же не соглашаться, если у них спрашивали про неприятные вещи.
– В детский сад мы можем приносить свою игрушку, но это только в понедельник. А я тогда ссорюсь с Игорем, потому что мы хотим играться своими игрушками, а когда мы кричим, то получаем тучку.
Как и большинство малолетних детей, Петр Найман не мог поддерживать рассказа больше, чем в двух-трех предложениях.
– Ага, выходит, тучку получаешь в наказание. А что получают в награду?
– Солнышко.
– А дома какие-нибудь наказания и награды имеются?
– Я не люблю, когда мама на меня кричит. Тогда я даю ей тучку.
Супруга Наймана в глубине темного помещения откашлялась.
– А папа?
– Папа мой уехал, а когда вернется – никто не знает.
Супруга Наймана снова откашлялась, но на сей раз продолжила словесно:
– Пока что я не говорила ему, что отца нет в живых, подготавливаю постепенно. Неизвестно ведь даже, когда плхороны, когда отдадите мне останки мужа. С этим вообще скандал, я хотела сказать, что подам жалобу.
Эти ее слова никто комментировать не стал.
– А вот скажи мне, часто бывает, что ты даешь папе и маме солнышки и тучки?
– Чаще всего – тучки.
– Я понимаю, это тогда, когда они ведут себя нехорошо. А что делают папа с мамой, когда ведут себя нехорошо?
– Кричат.
– А как тогда чувствуешь себя ты?
– Я злюсь.
– И что т делаешь?
– Я не кричу, потому что кричать нельзя. Я должен быть вежливым и вести себя тихо.
– А что случается, когда ты все же не выдерживаешь и ве ведешь себя тихо?
– Тогда меня наказывают.
Мальчишка посмурнел. Он опустил голову, сполз со стульчика на ковер и начал рисовать.
– Мне можно сесть рядом с тобой? – мягким тоном спросила Аделя.
Мальчик кивнул, и психолог уселась рядом с ним.
– Тебе нужно сделать ноги в бантик, – маленький Петр показал взрослой тете, как садятся по-турецки.
Аделя села в соответствии с его указаниями.
– Очень хорошо, – похвалил ее парнишка.
– Никто ведь не любит, когда его наказывают, правда?
Мальчик согласно кивнул.
– А вот скажи мне, какие наказания ты не любишь более всего?
В техническом помещении все затаили дыхание.
Маленький Петр взял лист бумаги и начал что-то рисовать на нем карандашами. Аделя взяла желтый карандаш и пририсовала на его рисунке солнце.
– Я не люблю быть самому, – в конце концов буркнул малыш.
– А что это означает, что ты сам?
– Я должен быть в своей комнате, и мама, и я не могу выходить. Это когда меня наказали.
– Я не поняла. Ты хочешь мне сказать, что когда тебя наказывают, ты должен сидеть в комнате вместе с мамой?
Мальчишка недовольно засопел из-за того, что взрослая тетя не понимает его слов.
– Ты ничего не понимаешь. Когда наказывают, я должен сидеть в комнате сам.
Шацкий стиснул кулаки. Умоляю, просил он про себя, пускай эта ниточка хоть к чему-нибудь приведет. Пускай даст мне какой-нибудь рычаг, чтобы я мог прижать жену Наймана и выдавить из нее правду.
– Я затем и спрашиваю, чтобы понять. Мне просто было интересно, а где была тогда мама.
– Дома, – пацан пожал плечами, продолжая увлеченно рисовать.
Шацкий подумал, что все дети, похоже, одинаковы. Маленькая Хеля тоже всегда называла их большую комнату «домом».
– Но если ее наказали, она тоже сидит в своей комнате. Но в ее комнате есть телевизор, а в моей – нет. И я не могу смотреть сказки про то, как Франклин боится темноты.[111]
– А почему мама наказана?
– Это когда папа дает ей тучку.
– И что тогда происходит?
– Она должна сидеть у себя в комнате, я же говорю.
– А что тогда делаешь ты?
– Играюсь с папой.
– А как вы играетесь?
– Тебе нравится? – малыш показал Аделе рисунок: обычный детский рисунок, никаких черных дыр или багровых туч, никаких тебе мужчин с огромными членами или страшными рожами, которых обычно рисовали жертвы педофилии и домашнего насилия – семейство на фоне дома, оранжевые облачка, желтое солнце.
– Красиво! Мне очень нравятся облака цвета orange.
– Так это же по-английски! – мальчик весело рассмеялся.
– Ну, я ведь тоже знаю английский язык. Могу даже сказать: blue.
– Это синий! А в кино есть такой попугай блю, так он тоже весь синий.
Шацкий вознес глаза к потолку. Боже, дай мне силы не разорвать этого болтливого короеда.
11:47:18:пульсация.
– Я знаю это кино. Это ведь «Рио», правда?
– Ну да, «Рио». Я с папой в кино ходил.
Потому что мама получила тучку, подумал Шацкий и глянул на вдову Наймана.
Та, казалось, расспросами ребенка совершенно не была обеспокоена.
– А ты мне расскажешь, как еще играешься с папой?
– Мы читаем книжечки про Элмера.
– Про слова в клеточку?
– И про Вимбура.[112] Вимбур тоже в клеточку, только не цветную.
– А что вы еще делаете?
– Человечков из пластилина. Или сказки смотрим. Только когда идут новости, сказки я смотреть не могу.
– А что ты любишь больше всего?
– Когда еду с папой в бассейн на велосипеде, а папа шутит, включает ускорители и устраивает быстрый рейд.
– А есть какие-нибудь игры с папой, которые тебе не нравятся?
– Папа классный, – убежденно заявил маленький Петр.
Аделя глянула в сторону зеркала. В ее взгляде было: мы понапрасну теряем время.
Нормальный мальчишка, нормальная семья. Конечно, родители как-то странно общаются, но это еше не патология, опять же, может пацан неправильно воспринимает их ссоры. И говорит, что маму наказали, кгда разъяренная женщина закрывается у себя в комнате.
– А мама ходит с вами в бассейн?
– Мама не любит мочиться.
Техник у компьютера тихо фыркнул и тут же глянул на них, извиняясь.
– А часто ее наказывают, что ей нужно сидеть в своей комнате?
– Не знаю.
Рисовал он все более размашисто. Шацкий помнил, как оно бывает с маленькими детьми, и знал, что это восе не признак стресса. Просто малыш не может сконцентрироваться на чем-то, удержать внимания, его несет.
– Будем уже заканчивать, хорошо? – Аделя безошибочно разгадала язык тела мальчика. Еще только три вопроса про маму и папу, и можешь бежать. Договорились?
– Согласен, – очень серьезно ответил тот.
– А получает ли мама какие-нибудь другие наказания, кроме сидения в комнате, как ты?
– Когда она ведет себя совсем нехорошо, ей надо идти на чердак. Там телевизора нет.
Шацкий с Берутом обменялись взглядами. Как можно быстрее провести обыск.
– А как там, на чердаке?
– Там воняет и пыль.
Нехорошо, подумал Шацкий. Если бы там было по-настоящему паршиво, пацану не разрешили бы туда пойти.
– А тебя не посылают в наказание на чердак?
– Я туда ходить не могу. Потому что от пыли делаюсь больной.
– А ты не знаешь случайно, почему мама получает от папы тучку?
– Наверное, плохо себя ведет. А нужно вести себя хорошо.
Прокурор Теодор Шацкий повернулся так, чтобы видеть одновременно и сцену за полупрозрачным стеклом, так и стоящую за ними Монику Найман. Женщина была совершенно расслаблена, она даже слегка улыбалась. И Шацкий, к своему испугу, понял, что Аделя задает неправильные вопросы. Поначалу, женщина была зажатой, поскольку понимала, что-то может стать явным. А теперь она спокойна, раз никто неудобной темы не затронул.
Чертово обновление УПК. И ведь второй раз допросить пацана будет нельзя. Никогда. Шацкий взвыл про себя.
– А если мама плохо себя ведет, что случается тогда?
– Я не люблю крика.
– А не происходит ли что-то еще, когда папа с мамой нервничают? Такое, что тебе не нравится.
– Мне не нравится, когда кричат.
– А что еще тебе не нравится?
– Когда кусаются и толкаются. Мориц меня всегда толкает в садике.
– А дома тебя кто-нибудь толкает?
– Если я толкаю папу, тогда папа говорит, что толкаться нельзя.
– А папа с мамой толкаются?
– Ну ты чего? – мальчик рассмеялся. – Они же взрослые.
Аделя снова поглядела в сторону зеркала. Допросу конец.
Шацкий гадко выругался про себя.
– Могу ли я уже забрать ребенка, пан прокурор? – обратилась к нему Моника Найман сильным, уверенным голосом, таким не похожим на тот, который он слышал в ходе их первой встречи. – Или вы собираетесь посадить Петруся в КПЗ на три месяца, чтобы выдавить из пятилетнего ребенка ценные показания?
11:59:48:пульсации.
Техник остановил запись через несколько секунд, ровно с наступлением полудня, и зажег свет. Судья потянулась за своей сумочкой в знак того, что действие считает законченным. Шацкий не сделал ничего. Говоря откровенно, он понятия не имел, что мог бы сделать. И он чувствовал, что в окружающем воздухе маловато кислорода.
– И правда, – вдова Наймана никак не могла сдержаться, – я от всего сердца надеюсь на то, что у вас имеются какие-то другие способы схватить убийцу моего мужа, чем преследование пятилетнего сироты. Что вы на это?
Появление Адели защитило того от необходимости отвечать. Не говоря ни слова, прокурор повернулся в сторону дружелюбной комнаты, где маленький Найман безуспешно пытался починить сломанный карандаш. Какое-то время он боролся с точилкой, та поддалась, и мальчик вернулся к рисованию.
Когда мать забрала мальчишку, Шацкий в поисках кислорода очутился в коридоре, а поскольку никакой более существенной идеи не было, зашел в дружелюбную комнату. Внутри было душно, пахло пыльным напольным покрытием, потом пятилетнего ребенка и тонкими цветочными духами Адели, слишком даже тонкими для ее решительной личности и для этого времени года.
И Шацкому сделалось нехорошо, по-настоящему нехорошо, словно бы еще немного, и он потеряет сознание. Прокурор присел на голубой стульчик и инстинктивно стал просматривать рисунки пацана, которые Аделя собрала с пола и положила на столик.
Домик, тучки, солнышко, счастливое семейство. Какой же провал!
Счастливое семейство. Нечто такое, чего у него, возможно, уже никогда не будет.
Голова сделалась ужасно тяжелой, Шацкий положил локти на столик, лоб опустил на скрещенные пальцы. Крупный мужик в сером костюме и черном пальто, сгорбившийся так, что чуть ли не переломавшийся наполовину, втиснутый в пластиковый предмет мебели, предназначенный для дошкольников. Шацкий прекрасно отдавал себе отчет в том, как все это выглядит, но силы, чтобы подняться, просто не было.
Перед самым носом был рисунок маленького Петра Наймана, даже довольно радостный в своих пастельных цветах. Нарисованное Аделей солнце было красивым и симметричным, остальные элементы несли черты дошкольного рисования. Оранжевые тучки больше походили на лужи, чем на облака. Деревья состояли в одинаковой степени из коричневого ствола и зеленой кроны: двухцветные прямоугольники. Домик, широкий и приземистый, до боли походил на недвижимость Найманов в Ставигудах. А перед домом вся семья: мама, папа, сынок.
И еще одна женщина, держащая сынка за руку.
Шацкий резко выпрямился.
Пятилетний Найман уже мог ухватить важнейшие черты фигуры. У него самого были коричневые волосы и коричневые глаза. И какая-то синенькая одежка, может быть, любимая рубашечка. Рядом стояли родители. Покойного Наймана можно было распознать по лысине, черным бровям и по тому, что на руке не хватало двух пальцев. Для ребенка это должно было представлять важную отличительную черту. Найман держал на поводке удивительного, угловатого пса без головы и красного цвета, Шацкий какое-то время всматривался в монстра, пока до него не дошло, что это чемодан на колесиках. Папа-путешественник, все понятно. Мамаша Найман была худенькая, волосы коричневые, на ней было зеленое платье, в руке она держала букет цветов. Может быть она любит цветы? Или копаться в земле в их садике? Мальчонка ухватил даже то, что мама чуточку выше папы.
Папа и мама Найманы не держались за руки, хотя стояли рядом друг с другом. Мама и папа. Отец не держал за руку стоящего рядом мальчика, впрочем, от сына его отделал красный чемодан. Маленький Петр стоял по другую сторону от чемодана и держал за руку женщину, взрослую, хотя и не такую высокую, как его мать. У женщины черным карандашом были нарисованы длинные волосы, темно-синие глаза, карикатурно громадные, глаза, собственно, занимали все ее лицо. Это производило довольно жуткое впечатление. На ней было длинное платье того же цвета.
Шацкий разложил рисунки маленького Петра Наймана на столе. Не на каждом из них были мама с папой. Зато на каждом маленький мальчик стоял и держал за руку черноволосую женщину с громадными синими глазами.
Прокурор захватил все рисунки со стола и бегом бросился к выходу.
Моника Найман как раз пыталась включиться в дорожное движение по Аллее Войска Польского в сторону центра, когда Шацкий встал перед капотом и загородил ей дорогу.
Женщина опустила стекло.
– А вы не перегибаете палку? – рявкнула вдова Наймана. – Это вам не Советский Союз, где людей можно было безнаказанно преследовать.
– Кто эта женщина? – спросил тот в ответ, показывая ей рисунки.
Маленький Найман уже спал в детском кресле, утомленный приключениями в мире права и справедливости.
– А мне откуда знать?
– Ваш сын ее нарисовал. Это какая-то его тетка? Няня? Бабушка?
Шацкий специально говорил очень громко, надеясь на то, что разбудит пацана, но тот спал крепко.
– Во-первых, нечего орать. Во-вторых, понятия не имею. В-третьих, мне на это насрать. И последнее, отойдите, а не то я вас перееду.
– Она имеется на каждом рисунке. И она единственная, кто держит его за руку. Это должно что-то означать. Скажите мне, кто она такая!
Женщина улыбнулась ему, в этой улыбке одновременно присутствовал сахарный сироп и лед.
– У вас был шанс, – заявила она. – Нужно было задавать соответствующие вопросы.
И вдова Наймана резко тронула с места, забрызгивая Шацкого черной холодной грязью, собравшейся на неровном паркинге, выложенном старой тротуарной плиткой. Еще перед глазами мелькнули стоп-огни шкоды, и водительница энергично протиснулась перед автобусом, а через пару секунд машину уже не было видно.
Прокурор стоял в ходящей волнами луже, с ног до головы покрытый черными каплями грязи, сжима в рукедетские рисунки. Разноцветные пятна выглядели сюрреалистично на фоне Шацкого, тротуара, грязи, дома, в котором только что происходил допрос мальчишки, и декабрьского Ольштына вообще.
Он понятия не имел, что же теперь делать. И решил, что можно позволить себе заплакать. И тут кто-то положил ему руку на плечо.
Ян Павел Берут. Как всегда смурной. Сообщение просто не могло быть добрым.
– Мы нашли мужика без ладони, – сообщил полицейский.
8
Огонек у двери сменил свой цвет на красный. Девушка сидела тихо, но звуков с другой стороны не слышала, сложно было сказать, забрал кто-то мусор после завтрака или нет. Быть может, этот «кто-то» делал все тихо, а может, это двери были звукоизолирующими. Хкля вздрогнула, ей совсем не хотелось представлять, для чего похитителям могла бы понадобиться звукоизолированная комната.
Прошло полчаса с момента процарапывания черточки, означавшей двенадцать, и Хеля решила вздремнуть, как вдруг впервые с момента подачи завтрака что-то изменилось.
Включился телевизор.
Интересно, подумала девушка, следя за черно-белыми помехами.
Кто-то по другой стороне, похоже, нажал на соответствующие кнопки, потому что помехи пропали, их заменила картинка помещения. Выглядело оно как незавершенный первый этаж домика на одну семью без следов отделки. Стены из бетонных блоков, цементный пол, на потолке видны балки. Помещение было освещено несколькими яркими лампами.
Посредине стояла какая-то труба, толстая, похоже – металлическая. Может быть, для канализации. Или это была какая-то колонна? Цветом и толщиной она напоминала колонну Зыгмунта в Варшаве.[113]
К трубе была приставлена лестница как для маляров, с площадкой.
Общий план изменился, теперь Хеля могла заглянуть вовнутрь трубы.
Она тут же вздрогнула от неприятного чувства.
Внутри трубы находился голый тип. Может быть спящий, может – без сознания, а может и вообще мертвый. Голова слегка опала на плечо, так что видно было ухо, фрагмент щеки с темной щетиной и блестящая лысина.
Девушка какой-то момент глядела на эту необычную, беспокоящую картинку. Но ничего не происходило. Ей захотелось писать, но она посчитала, что будет лучше не двигаться, чтобы чего-нибудь не пропустить. Но ничего не происходило, а она не могла выдержать, поэтому быстро сбегала в туалет и вернулась, не помыв рук.
На экране все так же ничего не происходило.
Хеля уже начала было подозревать, что какой-то безумец сделал видеозапись разлагающегося трупа, и теперь он заставит глядеть на это в течение пары недель, чтобы она знала, что ее ждет. Она не могла сдержать настырной мысли, что если все эти две недели будет торчать здесь в помещении два на два и лопать нездоровую пищу из Макдональдса, то нет ни малейшего шанса, чтобы не потолстеть.
Вдруг к видео присоединился еще и звук. Ничего особенного. Шум фона. Шаги, сигнал поступившей эсэмэски, кто-то что-то поставил, кто-то чего-то передвинул, кто-то громко хлопнул дверью.
Кадр еще раз сменился на общий план: бетонные блоки, труба, лампы. Тень, как будто бы кто-то прошелся за камерой. И снова наезд на труп.
Картинка была очень высококачественная. В хорошо освещенном помещении девушка прекрасно видела, что ухо покойника было слегка деформировано. Поначалу ей показалось, что это признак разложения, но быстро пришла к выводу, что это шрам, как будто после ожога.
И в тот самый момент, когда она почти что сунула нос в телевизор, чтобы получше присмотреться к шраму, труп пошевелился.
Хеля вскрикнула и отскочила от экрана.
– Как в фильме ужасов, бли-ин, нормально, – произнесла она вслух, чтобы прибавить себе смелости, и инстинктивно вернулась на свое место на кровати.
Приход в себя занял у «трупа» несколько секунд. Он покашлял, огляделся, увидел, что ничего интересного в трубе нет, после чего задрал голову, глядя в камеру, то есть, прямо в глаза Хеле.
Взрослый мужчина с самым обыкновенным лицом, ни уродливым, ни особо красивым. Лицо квадратное, мужское самым пещерным образом, который в Хеле всегда будил отвращение, ей казалось, что подобные мужчины гораздо сильнее потеют, и от них больше воняет. Брови у него были толстые, черные, как будто в чем-то искусственные.








