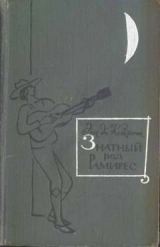
Текст книги "Знатный род Рамирес"
Автор книги: Жозе Мария Эса де Кейрош
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
– Очень просто! – воспользовался Гонсало: – У него их нет!
Гоувейя церемонно поклонился.
– Здесь только не хватало шпилек сеньора Гонсало Мендеса Рамиреса! Давай не будем начинать… Экое несносное создание твой шурин, Барроло! Вечно лезет в драку!
Добряк Барроло, расстроившись, пробормотал, что когда дело доходит до политики, Гонсалиньо – сущий черт…
– Так имей в виду, – отчеканил Гоувейя, тыкая пальцем в сторону Гонсало, – безмозглый Андре Кавалейро не далее как сегодня утром, в конторе, расхваливал, и весьма дружелюбно, мозги сеньора Гонсало Мендеса Рамиреса!
Гонсало отвечал без тени улыбки:
– Естественно! Если бы ваш губернатор считал меня тупицей, ему пришлось бы записать самого себя в круглые дураки.
– Прошу прощения! – вскинулся Гоувейя, вставая и расстегивая сюртук, чтобы удобнее было спорить.
Огорченный Барроло подбежал к гостю и надавил ему на плечи, чтобы снова усадить на канапе:
– Полно вам, господа, ей-богу! Довольно политики! Надоел этот Кавалейро… Перейдем к делу. Ты обедаешь у нас, Жоан Гоувейя?
– Нет, благодарствуй. Я обещал Кавалейро обедать с ним. И с Инасио Вильеной. Он прочтет нам свою статью, написанную для «Вестника Гимараэнса», о некоторых способах изготовлять мощи святых – их обнаружили во время работ в монастыре Сан-Бенто. Любопытно… А как поживает сеньора дона Граса? Здорова? Кого я давно не видел, это вас, падре Соейро. Редко вы бываете в «Башне»! Но все так же крепки, все такой же молодец. Признайтесь, падре Соейро, вы владеете секретом вечной молодости!
Капеллан застенчиво улыбнулся. Секрет молодости? Щадить силы, не расточая их на надежды и разочарования. Его жизнь течет тихо, неприметно. Если бы не ревматизм…
Затем, розовея от смущения за евангельские истины, он прибавил:
– Но и ревматизм не пропадает зря… Господь, посылая нам испытания, знает, что делает… Страдания умудряют. Только страдая, мы научаемся думать о страданиях ближних.
– Странно, – ввернул с веселым неверием Гоувейя, – когда у меня воспаляются миндалины, я совсем не могу думать о чужом горле! Только о своем! Оно причиняет мне слишком много хлопот. А сейчас я его промочу этим дивным крюшоном…
Перед ним склонился лакей со сверкающим серебряным подносом, уставленным бокалами, в которых плавали ломтики лимона. Остальные тоже соблазнились; все взяли по бокалу, даже падре Соейро, желавший доказать сеньору Антонио Виллалобосу, что и он не презирает вино, сей благодатный дар божий, ибо, как справедливо указывает Тибулл *, хоть он и язычник: vinus facit dites animos, mollia corda dat… – «вино дарует нам богатство духа и мягкость сердца…»
Жоан Гоувейя, блаженно вздохнув, поставил на поднос пустой бокал и обратился к Гонсало:
– А интересно узнать: что означала давешняя выдумка об ужине в «Башне», с дамами, с доной Аной Лусеной? Когда мальчик от Гаго рассказал мне об этом, я сначала не поверил. Но потом…
Из-за гардины снова загремел голос Тито, допивавшего крюшон:
– Послушай, брат Гонсало. Что это Барроло говорил, будто ты в Африку собираешься?
Жоан Гоувейя удивился, даже испугался. Как так в Африку?.. Служить в Африке?
– Зачем? Сажать кокосовые пальмы, какао, кофе! – хохотал Барроло, хлопая себя по ляжкам.
Что ж! Тито одобрил эту идею. Если бы у него набралось тысяч десять – пятнадцать, он сам попытал бы счастья в Африке, торговал бы с неграми… Конечно, для этого надо быть поменьше ростом и похудощавей. Люди вроде него, которые много едят и еще больше пьют, не годятся для Африки: мрут там как мухи. Гонсало – дело другое! Крепкий, поджарый, водки не пьет – он прямо-таки создан жить в колониях… Вот это настоящее дело!.. Куда лучше, чем его вторая мания – стать депутатом. Что это за занятие? Шататься под Аркадами, лебезить перед господами советниками…
Барроло разразился шумным одобрением. Он тоже не понимает, с чего Гонсало забрал себе в голову стать депутатом. Тоска! Вечные интриги, перебранка в газетах, взаимное обливание грязью. Да еще улещивай избирателей!
– Я бы ни за что! Пусть даже мне посулят в награду должность губернатора и большой крест, как Фрейшомилу!
Гонсало слушал с молчаливой улыбкой превосходства, тщательно свертывая сигарету из накрошенного зятем табака.
– Вы не понимаете сути вещей. Вы не отдаете себе отчета в том, как устроена Португалия. Пусть Гоувейя вам объяснит… Португалия – это поместье, богатейшее поместье, принадлежащее некоему акционерному товариществу. Как известно, товарищества бывают торговые, земледельческие и всякие другие… Лиссабоном же владеет политическое акционерное товарищество; оно-то и управляет имением, называемым Португалией. Мы, португальцы, делимся на два класса: от пяти до шести миллионов португальцев – работники в этом имении; в числе их есть лишь единицы, которые живут праздно, как Барроло. Эти люди платят, А над ними тридцать акционеров: они сидят в Лиссабоне, получают деньги и правят страной. Это политические монополисты. Так вот, и по личным вкусам, и по праву рождения, и по долгу перед собой я желаю быть в числе акционеров. Но чтобы войти в политическую монополию, гражданин Португалии должен получить официальное признание своей правоспособности, а именно – быть депутатом. Совершенно так же, как гражданин, желающий работать в юстиции, должен получить признание своей правоспособности, то есть быть бакалавром. Поэтому я хочу начать с депутата, чтобы потом стать членом акционерного товарищества и управлять страной… Разве я не прав, Жоан Гоувейя?
Председатель вилла-кларской палаты вновь подошел к подносу, взял второй бокал крюшона и стал медленно пить, смакуя каждый глоток:
– Да, в общем, это верно… Кандидат, депутат, политик, советник, министр, властитель. Так оно и есть. Это верный путь, куда более верный, чем Африка. В конце концов, под Аркадами в Лиссабоне тоже есть какао, и к тому же там гораздо прохладней!
Барроло отошел к балконной двери, чтобы быть поближе к Тито, в знак солидарности с ним; обняв великана за плечи, он весело заявил:
– Я не принадлежу к числу твоих «акционеров», а все-таки тоже управляю некой частицей Португалии, и самой для меня интересной, ибо она принадлежит мне. Хотел бы я видеть, как ваш Сан-Фулженсио, или Браз Викторино, или еще кто-нибудь с Дворцовой площади сунется командовать у меня в «Рибейринье» или в «Муртозе»! Не поздоровится ему!
Тито, прислонясь к стеклянной двери, задумчиво тер подбородок. Слова Гоувейи произвели на него впечатление.
– Так-то оно так, Барроло! А все же и в «Рибейринье» и в «Муртозе» ты вынужден платить налоги по распоряжению лиссабонских заправил. В местном муниципалитете сидят поставленные ими власти. Ты будешь пользоваться дорогами лишь в том случае, если эти господа соблаговолят их для тебя проложить, и продашь воз зерна и бочку вина дороже или дешевле, смотря по тому, какие они примут законы… И так во всем. Гонсало отчасти прав; и, черт подери, кто управляет, тот и пользуется! Приведу пример: мой мошенник-домохозяин заявил, что со дня святого Михаила поднимет квартирную плату, а ведь моя квартира – скверная дыра, где никто не хочет жить, потому что там убили палача и он является в виде привидения. А вот Кавалейро, как член политической монополии, живет совершенно бесплатно в прекрасном особняке Сан-Домингос, пользуется конюшнями, цветником, плодовым садом…
– Ч-ш! – зашипел Барроло и закрыл ладонью рот Тито: он боялся, что столь громкие речи о привилегиях Кавалейро вызовут у Гонсало новую вспышку ярости. Но фидалго пропустил их мимо ушей: он внимательно слушал, что говорил в эту минуту Жоан Гоувейя. Выпив бокал крюшона, тот развалился на канапе и стал рассказывать, как рассыльный от Гаго встретил его на Фонтанной площади в Вилла-Кларе и передал поручение фидалго насчет банкета в «Башне».
– Я даже подумал, что ты и в самом деле даешь ужин: пробило уже девять, полдесятого, а Тито все нет, хотя мы условились пойти вместе к доне Казимире. Что ж, думаю, он тоже узнал, что у Гонсало к ужину будут дамы, и отправился в «Башню». Наконец он является в куртке и полуплаще с капюшоном, и я узнаю, что все это шутки сеньора Гонсало!
Странное подозрение мелькнуло в голове фидалго.
– Как? Как? В куртке и полуплаще с капюшоном? В тот вечер на Тито был полуплащ с капюшоном?
Но Барроло вдруг закричал с балкона не своим голосом:
– Ой, господа! Караул! Сюда идут старухи Лоузада!
Жоан Гоувейя вскочил с канапе и стал лихорадочно застегивать сюртук. Гонсало, заметавшись, наткнулся на Тито и Барроло, которые пятились подальше от балкона, чтобы их не успели заметить через широкие стекла. Даже падре Соейро предусмотрительно вышел из своего угла, где, надев очки, просматривал «Портский вестник». Затем все столпились у балконной двери и, прячась за гардиной, точно солдаты у бойницы, стали следить за площадью, позлащенной вечерним солнцем, которое стояло уже над самой кровлей Канатной мануфактуры. Со стороны Сорочьей улицы надвигались старухи Лоузада, обе тощие и вертлявые, обе в черных шелковых накидках, расшитых стеклярусом, обе под выгоревшими клетчатыми зонтами; их острые тени скользили по выложенной плитами мостовой. Сестры Лоузада! Сухие, черные, крикливые, точно галки, они издавна наводили трепет на всю Оливейру. Именно они вынюхивали чужие тайны, разносили сплетни, плели интриги. Не было в несчастном городе ссоры, грешка, треснувшего чайника, разбитого сердца, опустевшего кармана, приоткрытого окна, паутинки в углу, незнакомого лица на перекрестке, новой шляпки, надетой к мессе, торта, заказанного в кондитерской у Матильды, чтобы этого не приметили две пары беспокойно рыщущих, тускло-агатовых глазок и не обсудили, сопроводив язвительными комментариями, два длинных языка. От них исходили все анонимные письма, наводнявшие округ; набожные дамы принимали визит зловещих сестер как ниспосланную за грехи кару. В гостях они сидели часами, треща языком и жестикулируя костлявыми руками. Где ни появлялись эти старухи, они сеяли ядовитые семена вражды и подозрений. Но кто посмел бы выставить за дверь сестер Лоузада, дочерей покойного генерала Лоузада? Они в родстве с епископом! Они пользуются влиянием в могущественном братстве «Господа крестного пути в Пенье»! За их спиной – девство, столь суровое, столь закоренелое, столь изнурительное, столь устрашающе показное, что Марколино из «Независимого оливейранца» дал им прозвище: «Две тысячи дев»,
– Пронесло! – выдохнул с облегчением Тито.
И действительно, посреди Королевской площади, возле решетки, ограждающей старинные солнечные часы, сестры остановились и подняли свои черные мордочки к церкви св. Матфея, как бы что-то там вынюхивая или выслеживая. Колокола зазвонили – в церкви совершался обряд крещения.
– Проклятье! Они идут сюда!
Видимо, приняв окончательное решение, старухи двинулись прямиком к. подъезду «Углового дома». Поднялось всеобщее смятение. Толстые ноги Барроло, обратившегося в паническое бегство, так сотрясали пол, что с поставцов чуть не попадали пузатые индийские вазы. Гонсало срывающимся голосом призывал укрыться в яблоневом саду, растерявшийся Гоувейя в отчаянии искал по всей комнате свой цилиндр. Только Тито, который открыто враждовал с обеими старухами, за что получил от них прозвище «Полифем»*, спокойно удалялся из залы, прикрывая своим телом падре Соейро. Вспугнутое общество уже толпилось у двери, когда в гостиную вошла Грасинья в свежем шелковом платье земляничного цвета; она удивленно, с улыбкой оглядела бегущих в панике гостей.
– Что случилось? Что с вами?
Единодушный сдавленный вопль уведомил молодую хозяйку об опасности,
– Старухи Лоузада!
– Ах!
Тито и Жоан Гоувейя торопливо пожали ее похолодевшую руку. Колокольчик у подъезда грозно звякнул! Таща на буксире кругленького падре Соейро, мужчины беспорядочной толпой поспешили прочь, в библиотеку; запершись изнутри на засов, Барроло крикнул жене:
– Убери крюшон!
Бедная Грасинья! Ей некогда было даже позвонить слуге!
Собрав все силы, она схватила тяжелый поднос и вынесла в коридор. Если бы старухи его заметили, то сплетня о диких попойках в «Угловом доме» вознеслась бы над городом, как колокольня св. Матфея. Затем, едва переводя дух, она бросилась к зеркалу, проверить, в порядке ли прическа, и, наконец выпрямившись, точно боец на ристалище, со спокойным и улыбчивым бесстрашием древних Рамиресов, остановилась посреди гостиной и стала ждать натиска ужасных сестер.
* * *
В следующее воскресенье, после завтрака, Гонсало проводил сестру к тете Арминде Вьегас: накануне вечером, принимая (как обычно, по субботам) ножную ванну, старушка ошпарилась и от испуга слегла, а затем потребовала консилиума в составе всех пяти хирургов Оливейры. Выйдя от нее, Гонсало выкурил сигару под акациями на Посудной площади, размышляя о своей заброшенной повести, и особенно о главе второй. Глава эта и пугала его и притягивала: в ней предстояло описать роковую встречу Лоуренсо Рамиреса с Лопо Байоном, «Бастардом», в долине Канта-Педры. Фидалго шел уже по дороге к «Угловому дому» (Барроло упросил его съездить вместе с ним верхом в Пиньял-де-Эстевинья, чтобы насладиться прохладой серенького воскресного дня), как вдруг на Сторожевой улице увидел нотариуса Гедеса, выходившего из кондитерской Матильды с огромным пакетом пирожных. Легко шагая, фидалго перешел к нему на другую сторону улицы. Пузатенький, неповоротливый Гедес ждал его на краю тротуара, учтиво сняв шляпу и обнажив лысину, посреди которой красовался седоватый хохолок, снискавший ему кличку «Удод»; от нетерпения он привставал на цыпочки, поблескивая лаковыми носиками щегольских ботинок.
– Прошу вас, дорогой мой Гедес, не снимайте шляпы. Как поживаете? А вы молодцом! Да, говорил с вами вчера падре Соейро? Оказывается, Перейра из Риозы приедет в город только в среду.
Да, да, падре Соейро заходил в контору и говорил об этом! А он, со своей стороны, спешит поздравить фидалго с новым арендатором…
– Перейра – большой дока по своей части! Я его знаю больше двадцати лет. Достаточно взглянуть на поместье Монте-Агры. Я же помню, что там было: заросший пустырь. А теперь! Какая роскошь! Одни виноградники чего стоят! Да, это мастер своего дела… А ваша милость еще долго пробудете в Оливейре?
– Дня два или три. Я плохо переношу здешнюю жару. Слава богу, хоть сегодня немножко попрохладней. А что у вас тут нового? Как обстоит с политикой? Вы все такой же убежденный, последовательный возрожденец?
Нотариус вдруг прижал пирожные к своему черному шелковому жилету, вскинул коротенькую руку; от негодования его бритые щеки налились кровью, волосатые уши покраснели, побагровел затылок, запылала вся голова, вплоть до полей белой шляпы, повязанной траурным крепом.
– Да как же тут не будешь возрожденцем, сеньор Гонсало Мендес Рамирес? Да кем же еще прикажете тут быть?! После недавнего-то скандала!
Веселые глаза фидалго стали серьезными и широко раскрылись.
– Какого скандала?
Нотариус попятился. Как, фидалго не слыхал о последней выходке нашего губернатора, сеньора Андре Кавалейро?
– Друг мой, а что случилось?
Гедес так и вытянулся вверх, привстал на носки, набрал полную грудь воздуха, весь надулся и выкрикнул:
– Перевод Нороньи!.. Перевод несчастного Нороньи!
Тут какая-то тучная дама с густыми темными усиками, тащившая за руку зареванного мальчишку, подошла к ним, скрипя шелковым платьем, остановилась и грозно взглянула на Гедеса: нотариус загораживал своим брюшком, пакетом и коротенькой рукой вход в кондитерскую Матильды. Торопясь скорей пропустить ее, фидалго приподнял щеколду застекленной двери, потом взволнованно проговорил:
– Друг мой Гедес, вы, конечно, идете домой. Мне с вами по дороге. Пойдемте вместе и потолкуем. Так вы сказали… Но этот Норонья… Какой Норонья?
– Рикардо Норонья. Вы его, безусловно, знаете, сеньор Гонсало. Счетовод из отдела общественных работ.
– Ах да! Да! Так его перевели в другой отдел? Перевели противозаконно?
Они шли по тихой, пустынной Сверлильной улице. Гневный голос Гедеса неистово загремел, эхом отдаваясь от гулкой каменной мостовой:
– Противозаконно?! Бесчестно, сеньор Гонсало Мендес Рамирес, позорно! И куда? В Алмодувар, в глушь, на самую окраину Алентежо!.. Ни доходов, ни развлечений, ни порядочного общества!
Он умолк и, прижимая к сердцу пирожные, смотрел на фидалго выпученными, сверкающими глазами. И с кем же так поступили? С Нороньей! Честным, исполнительным служакой! С человеком, совершенно чуждым политике; да он знать не знал ни историков, ни возрожденцев! Жил исключительно для семьи, для своих юных сестер, трех девушек, оставшихся на его попечении… Бедного Норонью все в городе любили за его достоинства и таланты. Во-первых, огромное музыкальное дарование… Как? Сеньор Гонсало Рамирес не знал? Норонья сочинял премилые пьески для рояля! Он незаменимый участник всех праздников, всех именин, ему Оливейра обязана своими любительскими спектаклями.
– А какой режиссер! Да что, ваша милость! Таких в столице поискать! Второго Нороньи нет и не было! И вдруг – бац! – в Алмодовар, в преисподнюю, с сестрами, со всеми пожитками… Рояль! Вообразите, сеньор Гонсало, во что станет перевозка одного рояля!
Гонсало блаженствовал.
– Отличный скандал. Какое счастье, что я вас встретил, дорогой мой Гедес!.. А не знаете, что послужило поводом?
Они шли по узкому переулку. Нотариус с горечью пожал плечами. Повод? Для отвода глаз это злоупотребление, как и всегда в подобных случаях, прикрывают ссылкой на пользу дела. Но все друзья Нороньи знают настоящую причину… Тайну, глубоко личную, чудовищную тайну!
– Что же?
Гедес опасливо огляделся. Никого. Только какая-то старушонка ковыляла с кувшином через дорогу. Нотариус глухо зашептал, дыша прямо в разгоревшееся лицо фидалго: все дело в том, что этот низкий человек, Андре Кавалейро, увлекся старшей из барышень Норонья, доной Аделиной, – не девушка, а картинка! Рослая, смуглая красавица! И вот, получив отпор (барышня эта – девица рассудительная, этакая умница, сразу его раскусила), господин губернатор с досады начинает мстить. Кому же? Счетоводу. Ссылает его в Алмодовар, с барышнями, со всем домашним скарбом… Счетовод расплатился по счету!
– Отличнейший скандал! – пробормотал Гонсало, сияя и едва удерживаясь от смеха.
– И подумайте, ваша милость, – восклицал Гедес, придерживая дрожащей рукой шляпу. – Подумайте: бедный Норонья, который по своей доброте и невинности всегда рад сделать приятное начальнику, всего неделю тому назад посвятил Кавалейро прелестный вальс собственного сочинения!.. Прелестнейший вальс под названием «Мотылек»!
Гонсало не выдержал и стал ликующе потирать руки:
– Прелесть что за скандал!.. Но неужели никто не посмел заговорить? А что же ваша оппозиционная газета «Фанфары Оливейры»? Неужели ни одной статьи, ни одного даже намека?
Гедес сокрушенно повесил голову. Сеньор Гонсало Рамирес сам знает этих прохвостов из «Фанфар»… Одно краснобайство. Пышные слова, литературные красоты… Но чтобы сказать прямо в лицо горькую, неприкрашенную правду – где им! Кишка тонка! И к тому же Бискаиньо, их главный редактор, втихомолку перебежал на сторону историков. Как? Сеньор Гонсало Рамирес и этого не знал? Эта флюгарка Бискаиньо держит нос по ветру. Видимо, Кавалейро посулил ему хороший куш… И, кроме того, легко ли доказать, что тут злоупотребление? Дело щекотливое, семейное… Нельзя же трепать в газетах имя доны Аделины, скромнейшей барышни, и с такими красивыми глазками! Да… Нет больше Мануэле Жустино и его «Оливейранской зари»! Вот был человек! Он-то не постеснялся бы напечатать черным по белому на первой полосе, под аршинным заголовком: «Внимание! Представитель власти в округе пытается развратить сестер Норонья!»
– Да, был человек! Лежит, бедный, на кладбище святого Михаила!.. А в городе, сеньор Гонсало Рамирес, воцарился разнузданный деспотизм!
Гедес пыхтел, утомившись от пламенной речи. Они как раз сворачивали со Сверлильной улицы на нарядную, недавно заново вымощенную улицу Принцессы Амелии. У второго от угла подъезда нотариус остановился, поискал в кармане ключ и, все еще пыхтя, предложил его милости сеньору Гонсало зайти передохнуть.
– Нет, нет, спасибо, дорогой друг. Я весьма, весьма рад, что встретился с вами… История Нороньи – нечто потрясающее! Впрочем, от нашего губернатора можно чего угодно ожидать. Удивительно только, что его еще не выдворили из Оливейры взашей, как он того заслужил… Ничего! Не все настоящие люди лежат на кладбище святого Михаила… До завтра, милейший Гедес! Большое вам спасибо!
От улицы Принцессы Амелии до Королевской площади Гонсало бежал бегом, вне себя от восторга, точно нес под плащом найденный клад. И в самом деле, он добыл наконец скандал, долгожданный скандал. Наконец-то найден рычаг, который низвергнет с высот сеньора губернатора в оплоте его могущества – Оливейры, где ему возводят триумфальные арки из букса! И по особому благоволению божию этот же скандал поможет изгнать Кавалейро из сердца Грасиньи, где, несмотря на старую обиду, он продолжает гнездиться, точно червь в сердцевине плода… Фидалго ни минуты не сомневался в действии скандала. Весь город ополчится на губернатора-юбочника, который преследует и удаляет в изгнание безупречного чиновника только за то, что сестра этого несчастного не пожелала терпеть поцелуев тирана. А Грасинья? Конечно, ее любовь не вынесет нового разочарования: покинувший ее Андре пылает стратью к девице Нороньи и отвергнут с гадливостью и насмешкой! Нет! Лучше нельзя и придумать! Остается лишь устроить так, чтобы гром грянул не только над крышами Оливейры, но и над сердцем Грасиньи, разразился бы благодатным ливнем над всей северной Португалией, очистил бы от грязи оскверненный воздух! Об этой очистительной грозе позаботится он, Гонсало, и с великой радостью. Он избавит город от скверного губернатора, а Грасинью от ложного обольщения. Перо его потрудится разом pro patria et pro domo![2]2
Для родины и для дома! (лат.)
[Закрыть]Вернувшись в «Угловой дом», он первым делом направился в комнату Барроло. Тот одевался, мурлыкая себе под нос «Фадо о Рамиресах». Фидалго крикнул ему через дверь с непреклонной решимостью:
– Я не поеду в Эстевинью. Нужно кое-что срочно написать. Не стучись в дверь, не мешай. Мне необходима тишина.
Он даже не стал слушать протестов Барроло, выскочившего в коридор в одном белье, и взбежал по лестнице, прыгая через несколько ступенек. В комнате он сбросил сюртук, опрыскал для бодрости голову одеколоном и сел к столу, куда Грасинья всегда ставила рядом с цветами монументальную серебряную чернильницу, некогда принадлежавшую дяде Мелшиору. Без помарок, без поправок, в порыве подлинного вдохновения, рожденного страстью, он написал язвительную корреспонденцию в «Портский вестник» о губернаторе Оливейре. Одно лишь заглавие поражало как удар грома: «Гнусное посягательство!» Не называя имени Нороньи, фидалго подробно излагал, как факт достоверный и лично им засвидетельствованный, «грязное и подлое покушение первого во всем округе лица на целомудрие, чистоту и честь невинной девушки, едва видевшей шестнадцать весен!». Затем описывалось гордое пренебрежение, каким «благородное дитя ответило на домогательства этого донжуана из мэрии, чьи пышные усы призваны повергать народы в изумление».
Наконец, разоблачался дикий, неслыханный произвол над усердным чиновником и талантливым музыкантом, допущенный по вине правительства (столь гибельного для страны): несчастного чиновника переводят, а вернее изгоняют, вместе с семьей, состоящей из трех хрупких женщин, на границу королевства, в самую бесплодную и нищую из наших провинций – да и то лишь потому, что господин губернатор не может сослать их в Африку, погрузив в грязный корабельный трюм! Затем следовало несколько тирад о политической агонии Португалии, со скорбью вспоминались худшие времена абсолютизма, когда невинность погибала в застенках, когда разнузданные желания властелина заменяли закон! В заключение правительству задавался вопрос: намерено ли оно покрывать темные дела своего ставленника, «этого новоявленного Нерона, который в подражание настоящему Нерону задумал посеять разврат в лучших семействах, совершая в угоду низменной похоти такие злоупотребления, какие издревле, во все времена и у всех цивилизованных народов, вызывали негодование честных граждан!». И подпись: «Ювенал».
Было уже почти шесть часов, когда Гонсало спустился в гостиную с чувством исполненного долга. Грасинья терпеливо стучала по клавишам, разбирая «Фадо о Рамиресах». Барроло (убоявшийся прогулки в одиночестве) листал, развалясь на канапе, «Историю преступлений инквизиции», которую начал еще в бытность холостяком.
– Я не отходил от стола с двух часов! – воскликнул Гонсало, распахивая балконную дверь. – Устал. Но зато, слава богу, мною совершено дело правосудия. На сей раз сеньору Андре Кавалейро придется-таки вылететь из седла!
Барроло захлопнул книгу и, приподнявшись на локте, тревожно спросил:
– Что-нибудь случилось?
Гонсало стал над ним, позвякивая в кармане ключами и мелочью, и отвечал с легким, но свирепым смешком:
– Да нет, почти ничего. Пустяк. Всего лишь очередная подлость… Ведь для нашего губернатора сделать подлость – это пустяк.
«Фадо о Рамиресах» замерло под пальцами Грасиньи, превратившись в едва слышное бренчанье. Барроло ждал в страхе.
– Да что случилось? Гонсало гневно загремел:
– Неслыханное безобразие, дорогой мой! Норонья, несчастный Норонья – жертва гонений, растоптан, выслан! С семьей… в адскую дыру, в Алентежо.
– Какой Норонья? Счетовод?
– Да! Норонья-счетовод! Бедный счетовод расплатился по счету!
И Гонсало, смакуя подробности, стал излагать эту прискорбную историю. Сеньор Андре Кавалейро влюбился, влюбился без памяти в старшую сестру Нороньи. Он преследовал несчастную девушку букетами, письмами, стихами, которые во всеуслышанье декламировал под ее окнами, проезжая мимо на своем одре. Говорят, подсылал к ней сводню, гнусную старуху… Но эта девушка – ангел; она полна чувства собственного достоинства; она была выше всех обольщений! Дона Аделина даже не сердилась, ей было просто смешно! В доме Нороньи за чаем для смеха читали вслух пламенные вирши, в которых сеньор Андре называл свой предмет «нимфой и вечерней звездой»… Словом, невообразимейшая грязь!
Бедное «Фадо о Рамиресах» потонуло в хаосе нестройных дребезжащих звуков.
– А я ничего такого не слыхал! – бормотал ошарашенный Барроло. – Ни в клубе, ни под аркадой…
– Ты, голубчик, не слыхал, а вот бедный Норонья услыхал, – услыхал, когда над его головой грянул гром! Его высылают в алентежанскую глухомань, в нездоровую, болотистую местность. Это верная смерть. Смертный приговор!
Услышав про болота и про верную смерть, Барроло стукнул себя по колену и недоверчиво вскричал:
– Да кто тебе все это наплел?
Фидалго из Башни смерил зятя презрительным, надменным взглядом.
– Кто наплел? А кто мне наплел, что король дон Себастьян погиб в Алкасар-Кибире! Это общеизвестный факт. Исторический факт. Вся Оливейра знает. Не далее как сегодня утром мы с Гедесом беседовали об этом случае. Но я и раньше знал!.. И даже жалел сеньора губернатора. Черт возьми! Ведь это не преступление – влюбиться! Бедный Андре! Он обезумел, пропал! Даже плакал у себя в кабинете в присутствии ответственного секретаря! А девушка только смеется!.. Но преступление, и гнусное преступление – травить за это ее брата, счетовода, прекрасного чиновника с большими дарованиями!.. Долг каждого честного человека, которому дороги достоинство государства и чистота нравов, – разоблачать низкие происки… Я со своей стороны исполнил этот священный долг. И не без таланта, по милости божией!
– Что ты натворил?
– Вонзил сеньору губернатору в некое место славное толедское острие моего пера, и по самую рукоять!
Барроло подавленно щипал себя за волоски на затылке. Рояль смолк. Грасинья не трогалась с табурета-вертушки; пальцы ее застыли на клавишах, словно она задумалась, глядя на большой лист, где теснились аккуратно выписанные Видейриньей четверостишия во славу Рамиресов. И вдруг по этой неподвижности Гонсало понял все отчаяние Грасиньи. Охваченный острой жалостью, чувствуя, что надо выручить сестру, помочь ей удержаться от слез, он поспешил к роялю и ласково положил руки на бедные склоненные плечи, вздрогнувшие от его прикосновения.
– У тебя ничего не получается, дружок. Дай-ка я спою какой-нибудь куплет, ты увидишь, как делает Видейринья… Но сначала будь ангелом: крикни там, чтобы мне принесли стакан холодной водички «Посо-Вельо»,
Он попробовал клавиатуру и запел напряженным фальцетом первую попавшуюся строфу:
Вот на смертный бой выходят
Пять Рамиресов отважных…
Грасинья бесшумно исчезла за портьерой. Тогда добряк Барроло, сворачивавший с глубокомысленным видом сигарету над японской вазой, вскочил с места и торжествующе выпалил:
– Ну, брат, должен тебе сказать… Сестра Нороньи – лакомый кусочек, это правда. Но что-то не верится, чтобы она заартачилась! Кавалейро – губернатор округа, красавец собой… Нет, не верится! Он таки добился своего!
Его толстые щеки разгорелись от восхищения.
– Каков! Объезжать лошадей и покорять женщин – никто как он во всей Оливейре!









