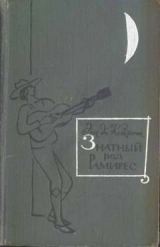
Текст книги "Знатный род Рамирес"
Автор книги: Жозе Мария Эса де Кейрош
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Гонсало спокойно положил в карман письмо, которое днем раньше повергло бы его в пучину отчаяния и гнева.
– Старухи Лоузада… Неужели ты придаешь значение такому вздору?
Барроло залился краской.
– Тебе хорошо говорить! Я всегда питал отвращение к подметным письмам… И потом, этот наглый намек, что будто друзья зовут меня «Жозе без Роли»! Какая гадость, а? Ты веришь? Я не верю. Однако, что ни говори, это бросает тень на моих друзей… Я даже не пошел в клуб. Без роли! Почему? Потому что я не кривлю душой, всем рад, со всеми прост? Нет, если они в клубе зовут меня за глаза «Жозе без Роли» – это просто черная неблагодарность… Но я не верю!
Он огорченно крутился по комнате, сцепив руки за жирной спиной; потом остановился перед Гонсало, который сочувственно смотрел на него:
– Все прочее – такая глупость, такая чушь, что я сначала даже не понял. Только постепенно до меня дошло… Они хотят сказать, что у Грасиньи роман с Кавалейро. Вот что, мне кажется, они хотят сказать! Подумай, какая чушь! И совсем он к нам не часто ходит. С того обеда зашел раза три с Мендонсой, в карты поиграть… А теперь уехал в Лиссабон.
Фидалго чуть не подскочил на месте:
– Как? Кавалейро уехал в Лиссабон?
– Уже три дня!
– Надолго?
– Да, очень надолго… Он вернется только к выборам, к середине октября…
– Так, так…
В комнату ворвался все еще взбудораженный Бенто с кувшином горячей воды и двумя полотенцами. Барроло перед зеркалом не спеша застегивал куртку.
– Ну, Гонсалиньо, я схожу на конюшню, посмотрю, как там мои лошадки. Не поверишь – от самой Оливейры шли рысью, и хоть бы капля пота! Письмо себе оставишь?
– Да, хочу изучить почерк.
Едва Барроло закрыл за собой дверь, фидалго снова принялся рассказывать слуге упоительную историю схватки. Он вспомнил заново все перипетии, изображал прыжки кобылы, показывал взмахами руки, как разил хлыст, сея ужас и гибель… Наконец, раздевшись до нижнего белья, он прервал свой рассказ.
– Бенто, принеси-ка шляпу… Мне кажется, пуля ее пробила.
Они внимательно осмотрели шляпу. Пристрастный Бенто нашел на тулье вмятины и даже подпалины.
– Пуля ее задела, сеньор доктор!
Фидалго скромно отрицал, как и подобает сильным:
– Нет, Бенто, не задела!.. Когда негодяй стрелял, у него дрогнула рука… Возблагодарим господа, Бенто. Особой опасности не было.
Одевшись, он снова взял письмо и перечитал его, шагая по комнате. Да, без сомнения, это работа старух Лоузада. Но на этот раз их злоречие, направленное против бедного Жозе без Роли, не причинило вреда – напротив, принесло пользу, как раскаленное железо, прижигающее рану. Бедняга обратил внимание только на обидное прозвище, данное ему злоречивыми остряками клуба и бульваров. Другую же сплетню, страшную, – о том, как расцвела Грасинья под жаркими лучами любви, – он почти не понял, отмахнулся от нее небрежно, по своему простодушию. Стрела угодила мимо цели; но, пронесшись над головой Барроло, она вонзилась в Грасинью, ранила ее уязвимую гордость, ее чуткое чувство чести и показала бедной глупышке, что имя ее и даже сердце топчут на уличной мостовой грязные ноги старух! Конечно, ее любовь не угаснет от этого унижения – устояла же она перед лицом куда более тяжкой обиды, но, будем надеяться, Грасинья станет осмотрительней, осторожней; теперь, когда Андре уехал и исчезло роковое искушение, в ее душе исподволь, тайком возобладают благоразумие и скромность. Так подлая анонимка окажет Грасинье услугу, послужит ей предупреждением, как грозные письмена на стене. Две злобные старухи думали посеять в «Угловом доме» горе и разлад, а их письмо, быть может, восстановит исчезнувшее было согласие, и (при этой мысли Гонсало потер руки), – такое уж счастливое сегодня утро – зло обернется добром!
– Бенто, где сеньора дона Граса?
– Барышня к себе пошла, сеньор доктор.
Девичья комнатка Грасиньи – светлая, окнами в сад – ни в чем не изменилась за эти годы. Там по-прежнему стояла кровать изящной работы с инкрустацией, прелестный туалет, принадлежавший некогда королеве Марии Франциске Савойской, диван и кресла, крытые бледных тонов кашемиром, на котором прилежная Грасинья много лет вышивала черных ястребов. Наезжая в «Башню», Грасинья любила вспомнить в этой комнатке свои девичьи годы, роясь в ящиках, листая английские романы, стоявшие в застекленном шкафике, или просто глядя с балкона на милые места, на зеленеющие земли, уходящие к холмам Валверде, столь тесно связанные с ее жизнью, что каждое дерево говорило сердцу и каждый укромный уголок был уголком души.
Гонсало поднялся к ней и постучал в дверь старым условным стуком – «это я, брат». Она прибежала с балкона, где поливала цветы (Роза никогда не забывала ее любимые вазоны), и снова воскликнула, не в силах сдержать переполнявшее душу чувство:
– Ах, Гонсало, как хорошо, что мы тут, вместе, сегодня, в такой страшный день!
– Правда твоя, Грасинья, это хорошо. Знаешь, я совсем не удивился, когда увидел тебя… Как будто ты все еще живешь тут и просто выбежала мне навстречу… Вот Барроло я не ожидал! В первую минуту я даже подумал: «Какого черта здесь делает Барроло?» Смешно, а? Наверное, после этой битвы я помолодел, обновился, и мне показалось, что вернулись прежние времена, когда мы с тобой мечтали о войне, об осаде, о том, как мы под знаменем «Башни» поливаем испанцев огнем…
Она смеялась, припомнив героические мечты; потом, придерживая коленями платье, снова принялась за свои вазоны, а Гонсало, прислонившись к перилам, смотрел на башню и думал о том, что с этого дня он теснее связан со славным замком Санта-Иренеи, словно сила, таившаяся под спудом, слилась наконец с древней силой рода.
– Ты устал, должно быть! Ведь это было настоящее сраженье.
– Нет, я не устал… А вот есть хочу. Есть, а главное – пить!
Она сразу опустила лейку и весело отряхнула руки.
– Обед скоро будет!.. Я возилась на кухне с Розой, мы стряпали рыбу по-испански. Это новый рецепт барона дас Маржес.
– Такой же пресный, как он?
– Нет, блюдо острое! Барон узнал рецепт от сеньора викария.
Она стала торопливо поправлять прическу перед зеркалом королевы, и Гонсало решил – хоть это трудно – воспользоваться уединением и заговорить о деле, так сильно тревожившем его:
– Ну, как Оливейра? Что там?
– Ничего… Жарко очень!
Медленно проведя пальцами по резным лилиям и лаврам, украшавшим раму зеркала, Гонсало пробормотал:
– Я слышал кое-что о твоих приятельницах, сеньорах Лоузада… Они по-прежнему неутомимы…
– Нет, – простодушно откликнулась Грасинья. – Они давно у нас не были.
– Однако сплетни распускают.
Зеленые глаза сестры удивленно расширились, и он поспешил вынуть письмо из кармана. Сейчас оно показалось ему тяжелым, как свинец.
– Грасинья, послушай… Лучше говорить начистоту! Вот что они написали твоему мужу…
Грасинья единым духом прочитала ужасные строки. Кровь бросилась ей в лицо, пальцы сжались, комкая бумагу.
– О, Гонсало! Значит, он…
– Нет! – перебил ее Гонсало. – Барроло не обратил внимания! Он даже смеялся! И я смеялся… Мы считаем это письмо вздорной клеветой, иначе я не показал бы его тебе.
Она сжимала письмо дрожащими руками, бледная, онемевшая, и с трудом удерживала слезы, сверкавшие на ресницах.
– Ты сама знаешь, Грасинья, – ласково и серьезно говорил Гонсало, – что такое провинция. Особенно – Оливейра! Тут надо быть очень осторожной, очень сдержанной. Это я виноват, я! Не надо было возобновлять с ним дружбу… Как я раскаиваюсь сейчас! Я сам, по глупому своему тщеславию, создал это ложное, опасное положение, и, поверь, оно стоило мне немало тяжелых часов. Потому я и не решался ехать в Оливейру. Но сегодня, после этого случая, все как-то рассосалось, стерлось, кануло в небытие. Сердце у меня больше не болит… Вот почему я говорю с тобой и так спокоен.
Ответом был горький, болезненный плач; вся ее бедная душа разрывалась в безутешных рыданиях. Гонсало еще нежнее обнял вздрагивающие понурые плечи. Сестра уткнулась ему в грудь, а он говорил мягко:
– Грасинья, прошлое мертво. Ради нас, ради нашей чести, не будем его оживлять. Старайся хотя бы держать себя так, чтобы все сочли его мертвым. Прошу тебя, ради нашего имени…
Прижимаясь к его груди, она прошептала с бесконечным смирением:
– Он уехал! Ему не нравится в Оливейре!
Гонсало погладил поникшую головку, и Грасинья снова спрятала лицо на его груди, чувствуя, что только там, в сердце брата, бьет для нее неиссякаемый источник милосердия.
– Я знаю, – сказал он. – И это доказывает мне, что ты была тверда. Но будь осторожна, Грасинья, следи за собой! А теперь успокойся. Мы не станем, никогда не станем говорить об этом случае. Ведь это – случай, не больше. Я сам виноват, я поступил опрометчиво. Все прошло, все забыто. Успокойся, душенька. Когда сойдешь вниз, – ни одной слезинки!
Она все цеплялась за брата в жажде опоры и утешения, но он осторожно ее отстранил и пошел к двери. Волнение душило его, на глаза набегали слезы. Робкий, умоляющий стон еще раз остановил его.
– Гонсало, ты тоже думаешь…
Он обернулся, снова обнял ее и тихо поцеловал в голову:
– Я думаю, что теперь, когда я предупредил тебя, ты послушаешься моих советов и проявишь стойкость.
Он быстро вышел и закрыл дверь. Когда, вытирая глаза, фидалго спускался по лестнице, освещенной скудными лучами сквозь тусклое окошко, навстречу ему попался Барроло: он шел звать Грасинью к обеду.
– Грасинья сейчас придет! – поспешил удержать его фидалго. – Она моет руки. А мы пока зайдем на конюшню. Надо навестить мою кобылку, как-никак она спасла мне жизнь!
– Верно! – откликнулся покладистый Барроло и радостно повернул назад. – Кобылу навестить надо. Молодец лошадка! Однако бьюсь об заклад, она вспотела больше, чем мои. Подумай, от самой Оливейры шли рысью и ни одного мокрого волоса! Клад, а не лошади! Конечно, и уход же за ними! Я на них не надышусь!
В конюшне оба долго гладили и хлопали кобылу. Жозе угостил ее морковкой. Потом, чтобы дать Грасинье время успокоиться, фидалго потащил зятя в сад и в огород.
– Ты не был у меня месяцев шесть, Барролиньо. Посмотри-ка, что у нас делается, какой прогресс! Теперь тут хозяйничает сам Перейра из Риозы…
– Еще бы! Перейра – молодец! Только я очень хочу есть, Гонсалиньо!
– И я хочу!
* * *
Пробило час, когда они вошли на веранду столовой. Их ждал праздничный стол, уставленный цветами, и Грасинья, присев на край кушетки, задумчиво перелистывала старый «Портский вестник». Несмотря на тщательное умыванье, ее прекрасные глаза все еще были красны; и чтобы оправдаться, она пожаловалась, розовея, на головную боль. Она так переволновалась, так испугалась за Гонсало…
– И у меня голова болит! – заявил Барроло, обходя стол. – Только – от голода… Дети мои, с семи часов утра я выпил чашечку кофе и съел одно яйцо всмятку!
Гонсало позвонил в колокольчик. Но в застекленную дверь вместо Бенто ворвался конюх Жоакин, вернувшийся из Граиньи. Он задыхался и громко хохотал.
Гонсало в нетерпении протянул руки.
– Ну что? Что?
– Значит, был я там, ваше благородие, – воскликнул Жоакин (его так и распирало от гордости), – Ух, и народищу набралось, все прослышали! Одна девчонка из Бравайса видела все со двора, ну и давай болтать… Старик этот, Домингес, и сынок его – оба как в воду канули. Парень-то, говорят, ничего, со страху грохнулся. А вот Эрнесто – этот да, этому досталось, не приведи господь! Понесли его в Арибаду, к куму. Говорят, без уха остался, да и без зубов. Все окрестные девки плачут-убиваются. В больницу переправят, у дружка-то не вылечится. Ух, народу, и все говорят – фидалго прав! Домингес этот – подлец известный. А уж по Эрнесто давно веревка плачет. Всю округу запугал… Фидалго, можно сказать, очистил наши места!
Гонсало сиял. Что может быть лучше? Серьезного ущерба нет, разве что пострадала красота ловеласа из Нарсежаса!
– Так, говоришь, народу много?
– Валом валят! И кровь на земле показывают, и камни, и как лошадка на дыбы встала. Теперь слух пустили, что, мол, засада была, три раза стреляли, а из лесу потом выскочили трое в масках, а фидалго, мол, показал им, где раки зимуют…
– Вот и легенда создается! – ликовал Гонсало. Наконец появился Бенто с большим дымящимся блюдом. Фидалго, улыбаясь, похлопал Жоакина по плечу и шепнул Розе, чтобы открыла две бутылки старого портвейна. Потом положил руку на спинку стула и проникновенно сказал:
– Подумаем о господе, избавившем меня сегодня от великой беды!
Барроло набожно потупился. Грасинья чуть слышно вздохнула и прошептала про себя молитву. Все развернули салфетки; Гонсало велел подавать рыбу, как вдруг в застекленную дверь вбежал сын Крисполы с телеграммой из Вилла-Клары. Все вилки застыли в воздухе. В это утро уже столько случилось… Но вот, довольная – нет, победная – улыбка осветила тонкое лицо Гонсало:
– Пустяки… Это от Кастаньейро, насчет тех глав, что я ему выслал… Хороший он человек, бедняга…
И, откинувшись на спинку стула, он медленно, со вкусом прочитал, пожирая глазами строки: «Главы получил. Читал друзьям. Восторги. Истинный шедевр. Обнимаю». Барроло не успел прожевать кусок и громко захлопал в ладоши. А Гонсало, презревши рыбу, которую держал перед ним Бенто, наполнил бокал молодым вином и произнес, улыбаясь, чуть дрогнувшим голосом:
– Да, хороший день! Великий день!
* * *
Несмотря на настояния Грасиньи и Барроло, Гонсало не поехал в Оливейру – он решил кончить на этой неделе последнюю главу и нанести наконец визиты влиятельным лицам округа. Так, выполнив долг в искусстве и в политике, он завершит, с божьей помощью, труды этого плодотворного лета!
В тот же вечер он взял рукопись и на широких полях, пометив дату, надписал: «Сегодня в приходе Граинья я вступил в жестокую схватку с двумя напавшими на меня людьми, вооруженными ружьем и дубиной, и наказал их по заслугам…» После этого ему нетрудно было перейти к тому поистине средневековому эпизоду, где Труктезиндо Рамирес, прервав погоню, входит при чадном свете факелов в стан дона Педро Кастильца.
Дружественно и скорбно принял старый воин своего португальского родича, чьи могучие вассалы помогли ему, когда род Кастро бился с басурманами под Эншарес-де-Сандорнин. В просторном шатре, увешанном оружием и устланном львиными и медвежьими шкурами, Труктезиндо поведал другу, с трудом подавляя печаль, о смерти сына своего Лоуренсо, сраженного при Канта-Педре и заколотого кинжалом байонского Бастарда у стен Санта-Иренеи под яркими лучами солнца, глядевшего на гнусную измену. Старый Кастро яростно ударил кулаком по столу, на котором золотые четки мешались с крупными фигурами шахмат, и поклялся кровью Христовой, что за шесть десятков лет, посвященных ратным хитростям и засадам, не видел столь низкого злодеяния! Затем, схвативши руку сеньора Санта-Иренеи, он предложил ему все свое войско для священного дела отмщения, а было у него триста тридцать конных и немало пеших ратников.
– Клянусь пречистой девой, славный будет поход! – вскричал Мендо де Бритейрос, и рыжая его борода вспыхнула пламенем.
Но дон Гарсия Вьегас, прозванный Мудрым, не согласился с ним. Если они хотят взять Бастарда живым, чтобы отомстить не спеша и всласть, пригодится небольшой отряд рыцарей и несколько пеших воинов…
– Почему, дон Гарсия?
Потому что Лопо, оставив у Рибейры пехоту и обоз, направится в сторону Коимбры, чтобы влиться в королевское войско. Эту ночь и он, и изнуренные его ратники проведут, без сомнения, в замке Ландин. А когда забрезжит заря, он, чтобы сократить путь, двинется по старой дороге на Мирадаэнс, проходящей по холмам Карамуло. Но Гарсия Вьегас знает, что на этой самой дороге, у колодца Покинутой, Бастард пойдет по тесному ущелью, где и можно будет изловить его, как затравленного волка…
Труктезиндо, не отвечая, медленно пропускал бороду сквозь длинные пальцы. Колебался и старый Кастро – ему был по сердцу бой в открытом поле, где можно использовать преимущество в силах, после чего весь отряд радостно двинется грабить земли Байона. Тогда Гарсия Вьегас попросил своих родичей выйти с ним из шатра, взявши с собою факелы. Там, в кругу любопытных рыцарей, в свете склоненных факелов, он преклонил колено и острием кинжала нацарапал на земле свой превосходный план охоты. Отсюда, из замка Ландин, выступит на утренней заре Бастард. А отсюда, когда взойдет луна, выйдут двадцать рыцарей Рамиреса и двадцать – Кастро, чтобы воины из обоих отрядов равно насладились боем. Вот здесь, в зарослях, укроются лучники и арбалетчики. За ними с этой стороны захлопнет мышеловку сеньор дон Педро, если ему угодно будет почтить своей помощью владетеля Санта-Иренеи. А вот здесь, впереди, чтобы взять за горло Бастарда, станет сам Труктезиндо, отец, кому в согласии с господней волей принадлежит право отмщенья. В этом мешке они и прикончат Лопо Байона, выпустят из него всю его подлую кровь и вымоют руки в водах Гадючьего озера!
– Славно задумано! – пробормотал Труктезиндо, сдаваясь.
А дон Педро де Кастро вскричал, обращая горящий взор к рыцарям Испании:
– Клянусь кровью Христовой, если бы у моего двоюродного деда был начальником конницы сеньор дон Гарсия, он бы не упустил инфантов Лары*, когда они, похитив Короля Младенца, умчались в Санто-Эстеван-де-Гуривас! Итак, решено, друг и брат! Как только скроется луна, выходим на охоту!
Все разошлись по шатрам ужинать. Туши козлят уже золотились на вертелах, и кравчие разносили тяжелые мехи с вином из Тордезело.
Этим ужином в лагере испанцев – торжественным и тихим, ибо траур омрачал сердца, – закончил Гонсало четвертую главу и сделал на полях пометку: «Полночь… День прошел недаром. Сражался, работал». Потом, раздеваясь, он набросал в уме план короткого сражения, в результате которого Лопо окажется, как загнанный волк, в руках жаждущих отмщения сантаиренейцев. Утром, не дожидаясь завтрака, он с удовольствием уселся за письменный стол, но тут пришли две телеграммы и отвлекли его от погони за байонским Бастардом.
Телеграммы были из Оливейры, одна – от барона дас Маржеса, другая – от капитана Мендонсы. И тот и другой поздравляли фидалго, который «так счастливо избежал опасности и проучил мерзавцев». «Брависсимо! – писал барон дас Маржес. – Вы истинный герой!»
Гонсало был тронут и показал телеграммы Бенто. Как видно, слух об его подвиге достиг уже Оливейры и произвел сенсацию.
– Это сеньор Жозе Барроло там рассказал! – восклицал Бенто. – Сеньор доктор еще увидит, еще увидит! Помяните мое слово, до самого Порто дойдет!
Ровно в полдень в коридоре загрохотали башмаки Тито; с ним был Гоувейя, который вернулся накануне, узнал обо всем в клубе и поспешил в «Башню» обнять друга, прежде чем долг службы приведет его сюда. Гонсало, еще в объятиях председателя, великодушно попросил «не отдавать негодяев под суд». Гоувейя решительно воспротивился и напомнил, что порядок прежде всего, а преступление должно караться, иначе Португалия вернется к варварским временам Жоана Брандана де Мидоэнса *. Гости позавтракали в «Башне»; вспомнив старый застольный обычай, Тито предложил выпить за Гонсало и произнес тост, где сравнил его со слоном, «который добр и терпелив, но, если его рассердить, разнесет все в щепы!»
Затем Жоан Гоувейя закурил сигару и пожелал узнать все подробности драки – кто что делал, кто что кричал, – необходимые ему как представителю власти. Гонсало разыграл в лицах все происшествие, хлестал хлыстом по дивану, пока тот не лопнул, и показывал, как шатался истекающий кровью наглец. После этого Гоувейя и Тито отправились на конюшню осмотреть исторического коня; а во дворе Гонсало показал им выстиранные гетры, сушившиеся на солнце.
У калитки Жоан Гоувейя хлопнул фидалго по плечу:
– Ну, Гонсало, приходи сегодня в клуб…
Он пришел в клуб и был принят как победитель. На бильярде пламенела огромная чаша пунша (которую предложил старый Рибас), а командор Баррос требовал, чтобы в воскресенье отслужили у св. Франциска благодарственный молебен, и обещал, черт побери, покрыть все издержки! Когда же фидалго в сопровождении Тито, Гоувейи, Мануэла и других приятелей вышел на улицу, его приветствовал Видейринья: он не принадлежал к членам клуба и специально ждал под дверью, чтобы спеть два новых куплета, в которых он ставил Гонсало выше всех Рамиресов, известных из летописей и преданий!
Все остановились у фонтана. Заплакала гитара, и от нежных звуков вдохновенной песни всколыхнулись безмолвные ветви акаций:
Род Рамиресов мечами
Прославлял себя в веках,
Но Гонсало в бой выходит,
Только хлыст держа в руках
Мужество великих предков
В их оружии блистало,
А Гонсало меч не нужен:
В сердце мужество Гонсало!
Выслушав эти лестные строки, все закричали: «Ура, Гонсало! Да здравствует славный род Рамирес!»
По дороге в «Башню» фидалго растроганно думал: «Забавно! Кажется, они все меня любят…»
Но какова была его радость, когда утром Бенто пришел будить его с телеграммой в руках. Из Лиссабона, от Андре! «Узнал о покушении из газет, горячо поздравляю счастливым избавлением мужеством». Гонсало сел в кровати и вскричал:
– А, черт! Значит, об этом уже пишут столичные газеты, Бенто! Пишут!
И правда писали. Весь этот восхитительный день хромой почтальон подбегал, ковыляя, к воротам, вручал телеграмму за телеграммой, и все из столицы: от графини де Шеллас, от Дуарте Лоуренсала, от маркизов де Кажа – «Поздравляем!», от тетки Лоуседо – «Горжусь отважным племянником»; от маркизы д'Эспозенде – «Надеюсь, дорогой кузен возблагодарил провидение… И, наконец, от Кастаньейро: «Великолепно! Достоин Труктезиндо!» Гонсало воздевал руки к потолку:
– Господи! Что там написали?
В промежутках между телеграммами приходили именитые соседи. Доктор Алешандро беспокоился, не вернутся ли времена смуты; старый Пашеко Валедарес де Са спешил сообщить, что ничуть не испугался за храброго кузена, потому что кровь Рамиресов, как и кровь рода Са, всегда кипит отвагой; падре Висенте из Финты присовокуплял к поздравлениям корзиночку своего прославленного черного винограда; а виконт де Рио Мансо, сжимая Гонсало в объятиях, рыдал от волнения, – он гордился, что все это случилось, когда «дорогой друг, лучший друг его Розы», ехал к ним в «Варандинью». Гонсало, красный от радости и смеха, отвечал на поцелуи, терпеливо рассказывал все сначала и провожал дорогих друзей до самых ворот, а они, вскочив в седла или усевшись в коляску, расточали улыбки старой башне, темневшей на светлом сентябрьском небе, словно посылали поклон не только самому герою, но и вековой твердыне его рода.
Возвращаясь в библиотеку, фидалго снова и снова удивлялся:
– Что там написали столичные газеты?
Он не мог заснуть, так ему хотелось поскорей прочитать своими глазами. Когда же Бенто радостно вбежал к нему с утренней почтой, он отбросил простыню так поспешно, словно она его душила. Потом жадно пробежал «Эпоху» и нашел телеграмму из Оливейры: «Нападение! Выстрелы! Потрясающая отвага Фидалго из Башни, который простым хлыстом…» Бенто почти вырвал газету из его трясущихся рук и побежал на кухню показывать Розе.
После полудня Гонсало поспешил в клуб почитать другие газеты. Все, как одна, сообщали о битве и поздравляли его! «Портский вестник» подозревал, что в дело замешана политика, и яростно нападал на правительство; «Портский либерал», однако, считал, что «гнусное покушение на жизнь одного из знатнейших дворян Португалии и блистательнейших умов нового поколения, по-видимому, не обошлось без местных республиканцев». Лиссабонские газеты главным образом восхваляли «несравненное мужество сеньора Гонсало Рамиреса». Но всех превзошел «Завтрашний день»; специальная статья (без сомнения, принадлежащая перу Кастаньейро) напоминала о героических преданиях славного рода, расписывала красоты Санта-Иренеи и утверждала, что «теперь все мы с удвоенным нетерпением ждем историческую повесть из жизни XII века, основанную на истинных подвигах Труктезиндо Рамиреса, приходящегося автору далеким предком, и обещанную в первый номер «Анналов истории и литературы» – нового журнала нашего дорогого друга Лусио Кастаньейро, возрождающего с похвальным усердием героический дух нации!»
Гонсало разворачивал газеты трясущимися руками. Жоан Гоувейя жадно читал заметки через его плечо и бормотал в упоении:
– Ух, Гонсалиньо, и голосов ты получишь!
А вечером, вернувшись домой, Гонсало получил письмо, которое повергло его в смятение. Писала Мария Мендонса. Бумага была спрыснута духами, и он узнал запах, который так понравился ему в руинах монастыря. «Только сегодня мы услышали о том, какой огромной опасности вы избежали, и, поверьте, кузен, обе еще не совсем пришли в себя. Однако я (и не только я) горжусь вашим мужеством. Вы истинный Рамирес! Я поспешила бы в «Башню» обнять вас (рискуя вызвать не только сплетни, но и зависть), однако один из моих малышей, Неко, сильно простудился. К счастью, ничего серьезного… Здесь же, в «Фейтозе», все мы, от мала до велика, мечтаем увидеть героя, и, мне кажется, никто из нас не удивился бы, если бы вы, кузен, приехали сюда послезавтра (в четверг), часам к трем. Мы пройдемся по окрестностям и закусим на свежем воздухе, как делали наши предки. Согласны? Аника очень, очень поздравляет вас. Преданная вам…» Гонсало задумчиво улыбался, глядя на письмо и вдыхая аромат духов. Еще никогда кузина Мария не толкала так откровенно дону Ану в его объятия… А дона Ана, по всей видимости, не слишком сопротивлялась… Ах, если бы речь шла только о постели! Но нет, без церкви тут не обойтись. И он снова увидел луну, ступеньки, черные тополя и услышал голос Тито: «У нее был любовник… ты знаешь, я никогда не лгу».
Он медленно взял перо и написал кузине: «Дорогая кузина, я очень тронут вашим вниманием и вашим восторгом. Но не будем преувеличивать! Я только отхлестал мерзавцев, стрелявших в меня. Это совсем нетрудно тому, у кого есть такой великолепный хлыст. Что же до визита в «Фейтозу» (весьма для меня приятного), я, как это ни прискорбно, не могу приехать ни послезавтра, ни вообще в этом месяце. Я с головой ушел в повесть, в предвыборные дела, в предотъездные хлопоты. Суровая действительность пришла на смену прогулкам и грезам. Прошу заверить сеньору дону Ану в моем глубочайшем почтении. Горячо желаю вам благополучия и скорейшего выздоровления милого Неко и остаюсь преданный вам…» и т. д.
Он проставил число и, прикладывая печать к зеленому сургучу, сказал про себя:
– Этот мошенник Тито вытащил у меня из кармана двести тысяч!..
* * *
Всю последнюю неделю сентября Гонсало посвятил окончанию своей повести.
В утро великого мщения рыцари Санта-Иренеи и лучшие ратники Кастилии нагнали в ущелье, как и предсказывал Гарсия Вьегас Мудрый, отряд Байона, скакавший к Коимбре… Бой был коротким, да и не бой это был вовсе, не честная битва, но облава, словно не знатного рыцаря, а волка задумали они убить. Так пожелал Труктезиндо, и дон Педро его одобрил, потому что они не с врагом боролись, а ловили убийцу.
Еще не занялась заря, когда Бастард покинул замок Ландин, столь поспешно и непредусмотрительно, что ни конный дозор, ни арьергард не охраняли его отряда. Птицы уже пели в листве, когда он быстрою рысью въехал в узкое ущелье, перерезавшее заросшую вереском каменистую гору, названную скалою Мавра с тех пор, как, по воле Магомета, она треснула и раздалась, чтобы спасти от христианских клинков мавританского алкайда Коимбры, увозившего на крупе своего коня похищенную монахиню. И не успел последний конник вступить в это ущелье, как с другой его стороны показались рыцари Санта-Иренеи. Впереди ехал сам Труктезиндо, с открытым забралом, без щита, играя легким копьем, словно направлялся на охоту. Из леса выскочили притаившиеся там конники Кастро, и в один миг все ущелье ощетинилось копьями, как щетинится шипами подъемный мост. И, словно прорвалась плотина, со склонов ринулась в ущелье темная лавина пехоты. Пропал, пропал грозный Байон! Он выхватывает меч, и лезвие сверкает, вращаясь над его головой. Он кидается на Труктезиндо – и бешеный крик оглашает скалы… Но из темного скопища балеарских пращников вдруг взлетает змеей пеньковая веревка, обвивается вокруг его щеи, срывает Бастарда с мавританского седла, вот он рухнул на землю, и длинный меч, ударившись о камни, переломился у золоченой рукояти. И пока рыцари Байона смотрят в оцепенении на окруживший их лес копий, пешие ратники, дико крича, кидаются на их сеньора, словно псы на кабана, волокут его вверх по склону, вырывают из его рук щит и кинжал, в клочья рвут пурпурный казакин и ломают застежки шлема, чтобы плюнуть в гордое лицо и в золотистую бороду!
Потом грубое мужичье взваливает его, связанного по рукам и ногам, на вьючного мула, между двумя вьюками стрел. Так везут с охоты тушу оленя! И погонщики глазеют на гордого рыцаря, на Огнецвет, что так недавно озарял своим блеском гнездо Байонов; а теперь лежит меж двух деревянных ларей, обвитый веревками, и в один из тугих узлов воткнут жесткий цветок чертополоха – символ измены.
Пятнадцать его рыцарей смяты яростным натиском, разбросаны по земле. Одни лежат недвижно, словно уснули в черных своих доспехах; другие – порублены, изувечены, и клочья кровавого мяса страшно багровеют в дырах разорванных кольчуг. Пленных оруженосцев загнали копьями в овраг, где бородатые леонские воины без пощады и жалости приканчивают их, точно подлых конокрадов. В ущелье, словно на бойне, стоит тяжелый запах крови. Чтобы опознать людей Байона, рыцари Труктезиндо ломают подбородники, вздергивают забрала и незаметно срывают со шнурков серебряный медальон, ладанку или другую святыню. Вот Мендо де Бритейрос признал в чернобородом, измазанном кровавой пеной красавце своего родича Соейро де Лужилде, с которым в Иванову ночь прыгал через костры и весело плясал в замке Уньело, и, склонившись над лукой своего седла, помолился пресвятой деве за бедную душу, не получившую отпущения грехов. Черные тучи омрачили летнее утро. А у входа в ущелье, под старым дубом, Труктезиндо, дон Педро де Кастро и Гарсия Вьегас, прозванный Мудрым, совещались о том, как предать медленной и позорной смерти совершившего столь низкое деяние Байона.
Всю эту неделю тихой, ранней осени Гонсало просидел в библиотеке, описывая поимку Бастарда. Он трудился в поте лица своего, как пахарь на каменистой пашне. В субботу он встал пораньше, и волосы его еще не просохли после душа, а он уже потирал руки перед письменным столом – еще два часа напряженной работы, и к самому завтраку он кончит свою повесть, свой труд! Однако страшные и гнусные события финала невольно отпугивали его. Дядя Дуарте едва коснулся их в своей поэмке, как и подобает возвышенному песнопевцу, который перед лицом кровавой правды издает скорбный стон, прячет лиру в футляр и торопится свернуть на более приятную тропу. Взявшись за перо, Гонсало пожалел, что его славный предок не убил врага в пылу битвы одним из тех благодатных для летописца ударов, которые рассекают разом и рыцаря и коня и навсегда остаются в истории.








