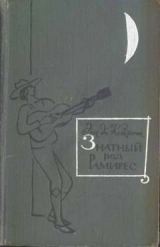
Текст книги "Знатный род Рамирес"
Автор книги: Жозе Мария Эса де Кейрош
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
Бенто внес на подносе графин с коньяком. Письмо он отдал огороднику Жоакину с наказом бежать с утра пораньше в Вилла-Клару и к шести часам доставить его сеньору председателю муниципального совета, а оттуда идти к тюрьме и не уходить, пока не выпустят Каско.
– Мальчонку мы уложили в зеленом покое. Рядом со мной. У меня сон чуткий, так что… Да он уж спит вовсю.
– Спит спокойно? – отозвался Гонсало, торопливо допивая коньяк. – Пойдем-ка навестить этого юного господина!
Он взял керосиновую лампу и с улыбкой пошел вслед за Бенто в зеленую комнату, стараясь тише ступать по лестнице. В коридоре у двери на вылинявшем зеленом диване лежали аккуратно сложенные Розой лохмотья малыша: рваная курточка, огромного размера штаны с единственной пуговицей… Фидалго вошел в комнату. Кровать черного дерева – огромное парадное ложе – занимала почти всю ширину стены, оклеенной старинными шелковистыми обоями с зеленым рисунком. В изголовье, по обе стороны от витых колонок, висели две картины – портреты усопших предков: на одном был изображен тучный епископ, листающий фолиант; на другом – красивый светлобородый кавалер Мальтийского ордена, с кружевным жабо поверх лат, опирающийся на меч. На высоко взбитых подушках спокойно посапывал Мануэлзиньо; он больше не кашлял, согревшись под толстым одеялом, Лоб у него был прохладный и чуть влажный от испарины.
Гонсало, стараясь не шуметь, заботливо поправил сбившуюся простыню. Затем, не очень полагаясь на дряхлые оконные рамы, проверил, не задувает ли сквозь щели предательский ветерок. Потом велел Бенто принести ночничок и пристроил его на умывальнике, заслонив свет кувшином. Еще раз обвел медленным взглядом комнату, чтобы убедиться, что здесь царят покой, тишина, полумрак, комфорт, и, улыбаясь, вышел на цыпочках, оставив сына Каско под охраной своих благородных предков: епископа, склоненного над богословским трактатом, и мальтийского кавалера, опершегося на свой беспорочный клинок.
* * *
Когда фидалго вернулся из сада, где провел с томиком «Панорамы» жаркие утренние часы, наслаждаясь тенью деревьев и журчаньем ручья, он увидел на столе в библиотеке, среди почты, какое-то странного вида письмо: огромное, на толстой бумаге, разлинованное карандашом и запечатанное облаткой. Вместо подписи под ним стояло пылающее сердце. В мозгу фидалго мгновенно отпечатлелись крупные буквы с щеголеватым росчерком:
«Дрожайший и сеятельнейший сеньор Гонсало Рамирес!
Наш галантный губернатор, неотрозимый сеньор Андре Кавалейро, беспрестанно ездит взад и вперед мимо «Углового дома», бросая нежные взгляды на окна и на благородный герб сеньора Барроло. Трудно предположить, что он изучает архитектуру особняка (в которой нет ничего замечательного); а потому умные люди сразу поняли, что достойный отец города ждет, не выглянете ли вы из окна? Ему все равно из какого: на Королевскую площадь, на улицу Ткачих или из бельведера. Видно, сеньор губернатор хочет возобновить с вашей милостью дружбу, оборвавшуюся так несчастливо. Поэтому вы весьма умно поступили, поспешив лично в кабинет его превосходительства, чтобы помириться и великодушно раскрыть объятия старому другу. Тем самым вы избавили господина губернатора от необходимости терять дорогое время и утомлять глаза, разглядывая особняк почтенного Барроло. Мы рады поздравить вашу милость со столь своевременным поступком, который утолит нетерпение пылкого Кавалейро и тем послужит на благо родного города!»
Вертя бумагу в руках, Гонсало думал: «Эта работа старух Лоузада!»
Он еще раз присмотрелся к почерку, оценил стиль, отметил слова «сеятельнейший», «неотрозимый», «бельвидер» и в гневе разорвал письмо, крикнув на всю гулкую библиотеку:
– Старые ведьмы!
Конечно, письмо от них, от старух Лоузада! И это очень скверно: клевета, исходящая от столь ядовитых сплетниц, уже, без сомнения, проникла в каждую семью, в каждый дом, от тюрьмы до больницы. Весь город коварно веселится и смакует сплетню, обнаружив двусмысленную связь между прогулками Андре вокруг «Углового дома» и визитом фидалго в мэрию, который произвел такой фурор под аркадой. Значит, вся Оливейра во главе со старухами Лоузада считает, что он сам, Гонсало Мендес Рамирес, вывел Кавалейро из канцелярии, привел его на Королевскую площадь и услужливо распахнул дверь особняка, который до этого был недоступен для гнусных домогательств! Выходит, он хладнокровно, бесстыдно способствует любовным похождениям своей сестры! Бессовестные старухи заслужили, чтобы поймать их на площади после мессы, задрать грязные юбки и всыпать по тощим задницам, да так, чтобы кровь брызнула на мостовую!
На беду, все улики предательски сходились против него! Настойчивость Андре, обстреливавшего взглядами окна Грасиньи и гремевшего подковами перед особняком, заметно возросла в это лето, и именно в августе, незадолго до визита Гонсало, о котором весь город толковал, как об исторической загадке. Эх, не вовремя помер этот болван Лусена! На несколько бы месяцев раньше – и даже лукавые старухи Лоузада не уловили бы никакой связи между примирением бывших врагов и любовными атаками Андре, которые тогда еще не начались, или, во всяком случае, не стали предметом гласности… Или на месяца бы четыре позже – и Андре, потеряв надежду проникнуть в особняк, перестал бы ездить по Королевской площади с розой в петлице! Так нет же! Именно теперь, когда Андре усиленно рыщет под дверью Грасиньи, именно теперь приходится раскрыть ему объятия и впустить его в дом Барроло! Клевета опирается на прочную основу, весь город может убедиться, что это так, и сплетня приобретает значение общеизвестной истины! Подлые старухи!!!
Как же быть? Очень просто: ограничить отношения с Кавалейро узкими рамками политики, избегать каких бы то ни было скользких интимностей, которые могли бы сделать его в «Угловом доме» своим человеком, каким он был когда-то в «Башне». Но как этого достичь?! Раз он помирился с Кавалейро, с ним помирится и Барроло – тень и эхо своего шурина… Как внушить Барроло, что дружба с Кавалейро допустима только в политике и должна быть окружена своего рода карантином? «Я снова дружу с Андре, ты, Барроло, тоже, но за свой стол его не сажай и даже не пускай на порог». Что за нелепое, оскорбительное требование? И все равно, в таком маленьком городе, как Оливейра, при простодушии и гостеприимстве Барроло, первая же встреча отбросит прочь этот вздорный запрет, как прогнившую веревку… И вообще, не глупо ли становиться в позу архангела Михаила и охранять с огненной палицей в руке подъезд «Углового дома» от сатаны в образе губернатора? С другой стороны, позволить, чтобы весь город перешептывался у тебя за спиной, поминутно связывая имя Грасиньи с именем Андре и приплетая сюда его, Гонсало, – это было еще ужасней.
Не видя никакого избавления, он беспомощно стукнул кулаком по столу.
– Тьфу, что за отвращение! Сколько пакостников водится в этих злобных провинциальных городишках!
Ну, кому в Лиссабоне пришло бы в голову следить, где губернатор проезжает верхом, и помирился ли с ним какой-то Фидалго из Башни?.. Хватит! Он гордо пойдет своей дорогой, как будто живет в Лиссабоне! Какое ему дело до сплетен и перемигиваний! Он – Гонсало Мендес Рамирес, из рода Рамиресов! Тысячелетнее имя и сеньория! Он выше Оливейры со всеми ее старухами. И, слава богу, не только именем, но и умом! Андре мой друг, он вхож в дом моей сестры – и пусть Оливейра лопнет от злости!
Фидалго не желал, чтобы грязные писания старух Лоузада испортили ему спокойное рабочее утро; с раннего завтрака он готовился сесть за повесть, перечитывал отдельные места из поэмки дяди Дуарте, просматривал статьи в «Панораме» о технике обороны и штурма укрепленных стен в XII веке. Напрягая внимание и память, он сел к столу, обмакнул перо в медную чернильницу, служившую трем поколениям Рамиресов, и стал перечитывать исчерканные страницы. Никогда еще Санта-Иренейская крепость не представала перед ним в таком несокрушимом, таком гордом величии, никогда не возносилась на такую историческую высоту. Она господствовала над Португалией, простертой у ее ног, покрывавшейся городами и нивами под защитой славных воителей!
И в самом деле, как грозно вздымались стены древней твердыни в то жаркое августовское утро, когда стяг Бастарда из рода Байонов мелькнул за прибрежными рощами Рибейры! Уже между зубцами настороженно пригнулись лучники, натянув тетиву. Над башнями и оборонным ходом позади зубцов подымались густые клубы дыма – там кипятили чаны со смолой, чтобы опрокинуть их на байонских ратников, если они попытаются штурмовать стены. Адаил перебегал от зубца к зубцу, в последний раз объясняя план обороны, проверяя, на месте ли связки стрел, кучки метательных снарядов… По всему огромному поселению из-под крылечных навесов выглядывали крестьяне, пекари, скотники; они в страхе крестились, дергали за кончик плаща скачущих мимо конников, чтобы узнать, чье войско идет на наших. Тем временем вражеский отряд переправился через Рибейру по кое-как сбитому деревянному мосту и уже въезжал в тополевый лесок, уже приближался к каменному кресту, что некогда поставил на границе родовых владений Гонсало Рамирес – «Тесак». В тишине жаркого августовского утра зычно трубили рожки Бастарда, выводя протяжный мавританский напев.
И вот, когда Гонсало, охваченный творческим жаром, рылся в «Словаре синонимов», ища слова позвучнее, чтобы передать протяжное пение байонских рогов, он и в самом деле услышал где-то под башней торжественное гудение, звучавшее все громче среди лимонных деревьев. Перо его замерло на бумаге – тут грянуло «Фадо о Рамиресах» и понеслось из сада вверх, к его балкону, увитому цветущей жимолостью, – словно серенада, льющаяся из глубины сердца:
Возвышается надменно
Башня Санта-Иренея…
Видейринья! Фидалго радостно бросился к окну. Внизу, среди ветвей, отчаянно замоталась чья-то шляпа и раздался приветственный возглас:
– Ура депутату от Вилла-Клары! Ура высокородному депутату Гонсало Мендесу Рамиресу!
Гитара торжественно заиграла «Гимн хартии». Приподнимаясь на носки лакированных ботинок, Видейринья кричал:
– Да здравствует славный род Рамиресов!
Из-под неистово мотавшегося цилиндра мелькнуло лицо Гоувейи; забыв про горло, он ревел:
– Да зравствует благородный депутат от Вилла-Клары! Ура!
Гонсало, изнемогая от смеха, вышел на веранду, простер руку:
– Благодарю вас, дорогие сограждане! Благодарю!.. Вы оказали мне большую честь, так красиво посетив меня, – ты, славный глава администрации, ты, вдохновенный фармацевт, и ты, великодушный…
И вдруг умолк. А Тито? Неужели Тито не пришел? О, Жоан Гоувейя, ты не пригласил Тито!
Посадив цилиндр на голову, Гоувейя, щеголявший в тот день еще и алым атласным галстуком, заявил, что Тито – «свинтус».
– Мы условились, что придем все вместе. Он даже обещал захватить дюжину шутих, чтобы взорвать их под звуки гимна. Место сбора – у моста. Но Тито – свинья! Он не явился! Во всяком случае, он знал, отлично знал… Просто он изменник,
– Хорошо. Поднимайтесь сюда! – крикнул Гонсало. – Через две минуты я буду одет, А для аппетита предлагаю по рюмке вермута и небольшую пробежку до сосняка!..
Видейринья, вытянувшись во фрунт и держа гитару торчком, зашагал между грядок, под виноградным навесом. Следом маршировал Жоан Гоувейя, подняв зонтик, как древко знамени. Когда Гонсало вошел в спальню, взывая к Бенто, чтобы он поскорее принес горячей воды, «Фадо о Рамиресах» раскатывалось могучими руладами среди посадок фасоли, под окном, где сохло кухонное полотенце. Исполнялся любимый куплет фидалго – тот, где его знаменитый дед, Руй Рамирес, бороздя на шлюпе воды Омана, замечает в отдалении три английских корабля; в своем алом плаще он стоит на носу корабля и, положив руку на пояс из буйволовой кожи, инкрустированный золотом и самоцветами, предлагает англичанам сдаться:
Подбочась, он зычно крикнул
Неприятельским судам:
«Эй! Сдавайтесь, англичане,
Португальским морякам!»
Торопливо пристегивая подтяжки, Гонсало подхватил хвалебную песнь:
Подбочась, он зычно крикнул
Неприятельским судам…
Он напевал напряженным фальцетом и думал о том, что с такой длинной вереницей предков он смело может презирать и Оливейру, и старух Лоузада. Но тут в коридоре загудел раскатистый бас Тито:
– А где же депутат от Вилла-Клары?.. Уже примеряет новую форму?
Сияя от радости, Гонсало распахнул дверь:
– Входи, Тито! Теперь депутаты не носят мундиров! Но если бы носили, то я, черт побери, надел бы и мундир, и шпагу, и шляпу с кокардой, чтобы почтить таких дорогих гостей!
Тито медленно шел к нему, заложив руки в карманы оливковой вельветовой куртки, сдвинув на затылок широкополую шляпу и обратив к фидалго честное, бородатое лицо, красное от полнокровия и солнца.
– Под формой я подразумеваю не мундир, а ливрею, лакейскую ливрею.
– Еще чего?!
Великан продолжал еще оглушительней:
– А кем же ты теперь стал, если не лакеем на посылках у «лысого чучела» Сан-Фулженсио? Правда, чай подавать ты ему не будешь, но если он прикажет голосовать, ты пойдешь и проголосуешь! Всегда готов к услугам! «Вот что, Рамирес, пойди-ка проголосуй»… И Рамирес – хлоп! – голосует. Лакейское занятие, мой милый, занятие для ливрейного лакея!..
Гонсало нетерпеливо повел плечами.
– Ты лесной житель, дикарь, первобытный человек… Ты ничего не понимаешь в организации общества! Общество не знает незыблемых принципов…
Но Тито невозмутимо продолжал:
– А что же Кавалейро? Уже стал талантливым малым? Уже хорошо управляет округом?
Задетый за живое, сильно покраснев, Гонсало запротестовал. Разве он когда-нибудь отрицал, что Андре хороший правитель и способный человек? Никогда! Он только подшучивал над его самомнением, над нафабренными усами… И вообще, интересы страны иногда требуют, чтобы люди различных вкусов и мнений вступали в союз…
– Я вижу, сеньор Антонио Виллалобос сегодня настроен читать мораль и пребывать в позе Катона. Ты ни за что не дашь людям спокойно поужинать! Так знай: философам-моралистам, которые не желают сидеть с распутниками за пиршественным столом, частенько приходится есть на кухне!
Тито величаво повернулся спиной к фидалго и зашагал к двери.
– Куда ты, Тито?..
– На кухню!
Но, услышав смех Гонсало, Тито в дверях снова повернулся – словно башня поворотилась – и посмотрел другу прямо в глаза,
– Я не шучу, Гонсало! Выборы, примирение, уступки – и вот ты в Лиссабоне к услугам Сан-Фулженсио, и в Оливейре – под ручку с Андре. Все это как-то не вяжется… А впрочем, если тетя Роза сегодня не ударила лицом в грязь, не будем думать о грустных вещах!
Гонсало снова заспорил, сильно жестикулируя, но в коридоре зазвенели гитарные струны, послышался топот печатавшего шаг Гоувейи, и опять грянули хвалебные звуки фадо:
Род Рамиресов великий —
Цвет и слава королевства!

VI
Дом Андре Кавалейро в Коринде – непритязательная постройка конца XVIII века, с четырнадцатью окнами по длинному, желтому фасаду – стоял среди обширных возделанных равнин. Благородная, прямая аллея каштанов вела к нему, а по сторонам подъезда расположились два мраморных фонтана. Сад славился великолепными розами; именно этим розам судья Мартиньо, дед нынешнего хозяина, был обязан визитом королевы Марии II *. Внутри же дома все блистало чистотой и опрятностью, благодаря неусыпным заботам сеньоры доны Жезуины Ролин, бедной родственницы молодого сеньора.
Гонсало спешился у входа, вошел в вестибюль и сразу узнал одну из картин, изображавшую бой галеонов, – когда-то фехтуя с Андре, он поцарапал ее рапирой. Под картиной, на краешке плетеного дивана, томился мелкий чиновник управы с красной папкой на коленях. В глубине коридора приоткрылась дверь – старый Матеус уже доложил о госте– и раздался веселый голос Андре:
– Гонсало, иди сюда! Я только что из ванны… Еще не оделся!
Так, полуодетый, Андре и обнял его. Потом стал одеваться, и, в хаосе разбросанных по стульям галстуков, флаконов и шелковых носков, они болтали о жаре, о тяготах дороги, об опустевшей столице…
– Нестерпимо! – восклицал Кавалейро, грея щипцы на спиртовке. – Все улицы разворочены, повсюду пыль, известка. В отеле – москиты, мулаты… Не Португалия, а Тунис! Ничего, мы еще выиграем бой в Лиссабоне!
Примостившись на диване между кипой цветных рубашек и ворохом нижнего белья с ослепительной монограммой, Гонсало улыбался:
– Ну как, Андрезиньо, все в порядке?
Кавалейро перед зеркалом тщательно и прилежно завивал кончики усов. Затем он умастил их брильянтином, справился с непокорными волнами волос, еще раз полюбовался собой и заверил наконец встревожившегося было друга, что с выборами все в порядке.
– Но заметь! Приезжаю в Лиссабон, иду в министерство, и что же? Они уже обещали округ Питте, Теотонио Питте, этому, из «Истины»…
Фидалго вскочил, уронив кипу рубашекз
– А ты что?
А Кавалейро весьма сурово указал Жозе Эрнесто, что избирательный округ – не сигара, хозяин в этих краях он, Андре, и без его ведома распоряжаться округом не совсем пристойно. Жозе Эрнесто туда, сюда, сослался на высшие государственные интересы, ну, тут Андре сказал прямо: «Вот что, Зезиньо. Или я проведу Рамиреса от Вилла-Клары, или подаю в отставку и – пропадай все на свете…» Покричали, пошумели – однако Жозе уступил, и в конце концов все отправились ужинать к «Алжесу», где дядя Рейс Гомес проиграл каким-то дамам четырнадцать милрейсов.
– Короче говоря, Гонсалиньо, мы должны быть начеку. Жозе Эрнесто человек свой, мы с ним старые друзья. И вообще, он меня знает… Но есть и другие интересы, компромиссы, влияния. А на десерт расскажу тебе пикантную новость. Знаешь, кто твой противник? Угадай… Жулиньо, вот кто!
– Какой Жулиньо? Фотограф Жулио?
– Он самый.
– Черт знает что!
Кавалейро с брезгливым состраданием пожал плечами:
– Он буквально обивает пороги! Фотографирует всех в самом домашнем виде… В общем, Жулиньо как он есть… Нет, не он меня тревожит, а грязные лиссабонские козни…
Гонсало уныло теребил усы:
– Я представлял себе все это как-то серьезней, проще… А тут интриги, плутни… Хоть отказывайся!
Кавалейро, охорашиваясь перед зеркалом, то застегивал фрак, то расстегивал, показывая оливковый жилет и пышный шелковый галстук, заколотый сапфиром. Наконец он облил носовой платок духами «Свежее сено» и промолвил:
– Мы ведь в мире? Все распри забыты? Тогда не беспокойся. Сейчас мы пообедаем на славу. Этот фрак от Амьейро совсем недурен, а?
– Прекрасный фрак! – заверил Гонсало.
– Я рад. Пойдем пройдемся по саду, посмотришь старые места, выберешь розу себе в петлицу.
В коридоре, уставленном индийскими вазами и лаковыми ларцами, он взял под руку Гонсало, вновь обретенного Гонсало.
– Ну, старина, вот мы и ступаем снова по славной земле Коринды, как пять лет назад… Все по-прежнему; ни один слуга не сменился, ни одна гардина… На днях я приеду к тебе.
Гонсало простодушно заметил:
– А в «Башне» теперь все иначе…
Наступило неловкое молчание, словно встал между ними печальный образ старой усадьбы, какой была она в пору любви и надежды, когда Андре и Грасинья под присмотром добрейшей мисс Роде собирали последние апрельские фиалки у влажных камней водокачки. Молча спустились друзья по винтовой лестнице – той самой, с которой некогда они съезжали по перилам. А внизу, в сводчатом зале, уставленном деревянными скамьями с гербом Кавалейро на спинках, Андре остановился перед застекленной дверью и грустным, безрадостным жестом показал на сад:
– Теперь я редко здесь бываю. Сам понимаешь, не служебное рвение держит меня в Оливейре… С тех пор как умерла мама, этот дом опустел, лишился тепла… Мне нечего здесь делать. И поверь, когда я здесь, я брожу по саду, по большой аллее… Ты помнишь большую аллею? Я один, я уже не молод!..
В приливе чувств, Гонсало пробормотал:
– Я в «Башне» тоже скучаю…
– Ты совсем другого нрава! А я – я склонен к элегии…
Он дернул с силой тугую ручку застекленной двери и вытер пальцы надушенным платком:
– Я думаю порой, что мне пришлось бы по душе в Коринде, если бы здесь были только голые холмы да скалы… Знаешь, в глубине души я отшельник, как святой Бруно…
Андре цедил аскетические признания из-под завитых нафабренных усов; Гонсало слушал его с улыбкой. На террасе, у каменной, увитой плющом балюстрады, он похвалил красоту и аккуратность цветника и шутливо прибавил:
– Да, нелегко смотреть на эти клумбы последователю свитого Бруно! А мне, грешнику, они по сердцу! У меня там сад совсем заглох.
– Кузина Жезуина любит цветы. Ты знаком с ней? Нет? Это дальняя родственница мамы. Она у меня ведет хозяйство, бедняжка, и как усердно, с какой любовью! Поистине, святая. Если б не она, тут бы свиньи валялись… Да, друг мой, где нет женщины – нет порядка!
Они спустились по круглой лестнице, уставленной синими фаянсовыми вазонами герани, хризантем и канн. Гонсало вспомнил, как в Иванову ночь он бежал с шутихами по этим ступенькам, споткнулся и упал. Медленно-медленно шли они по саду и вспоминали былое. Вот старая трапеция, свидетельница тех времен, когда оба они исповедовали славную религию силы, гимнастики, холодных купаний… На этой скамейке, под магнолией, читал однажды Андре первую песнь своей поэмы «Страж Сеуты»… А где же их мишень? Мишень, в которую они стреляли из пистолета, готовясь к будущим дуэлям, – как обойтись без дуэлей борцам против правящей клики историков! Ах, мишень! Эту часть стены возле прачечной снесли после маминой смерти и построили теплицу…
– Да и ни к чему теперь мишень! – заключил Кавалейро. – Я сам попал в эту клику. А теперь и ты попадешь, а я подержу тебе дверь.
Тогда Гонсало, разминая в пальцах душистые листочки лимона, сказал с той простотой и прямотой, которую пробудили в нем внезапные воспоминания:
– Я хочу в нее попасть, очень хочу, ты сам знаешь. Скажи, ты уверен в результатах? Осложнений не будет, Андрезиньо? Этот Питта – человек дошлый!
Кавалейро презрительно бросил, засунув пальцы в проймы жилета:
– Куда этим дошлым Питта против могущественных Кавалейро!..
По трем кирпичным ступенькам они спустились в другой сад, где уже не было тенистых деревьев, но с самого мая цвели во всей своей славе знаменитые розы, гордость Коринды, снискавшие похвалу королевы. Пренебрежительный тон Андре подбодрил Гонсало. И, ступая осторожно, как в музее, он рассыпался в похвалах:
– Какие розы, Андре, какая прелесть! Настоящее чудо. Вот эти, например, махровые!.. А чайные? Прелесть, прелесть… Смотри, как это красиво: багрянец проступает, светится сквозь белизну лепестков… А эти, пурпурные! Какой дивный, густой цвет!
Кавалейро скрестил руки и произнес, шутливо и печально:
– Видишь, как я одинок – и телом и душой! Розы в цвету, а мне некому их дарить. Приходится преподносить букеты сестрицам Лоузада.
Багрянец – поярче, чем тот, которым он только что восхищался, – залил щеки Гонсало.
– Сестры Лоузада! Бесстыжие старухи!
Андре посмотрел на друга – в глазах его сверкнуло любопытство – и осторожно спросил:
– Бесстыжие? Почему?
– Почему? От природы, так уж их создал господь! Эти розы – красные, а сестры Лоузада – бесстыжие.
Кавалейро сказал примирительно:
– Ах, от природы!.. Да, в них немало яду… Потому и дарю им розы. В Оливейре, мой милый, я каждую неделю почтительно пью у них чай!
– Ну, ты не многого добился, – буркнул фидалго. Но тут на кирпичных ступеньках, сверкая лысиной и перекинутой через руку салфеткой, появился Матеус и доложил, что завтрак подан. Кавалейро сорвал для Гонсало «розу славы», а для себя «невинный бутон», и, с цветами в петлицах, они пошли было к террасе меж благоухающих кустов, как вдруг Кавалейро остановился:
– В котором часу ты едешь в Оливейру, Гонсалиньо?
Фидалго помедлил. В Оливейру? Он не думает ехать в Оливейру на этой неделе…
– Зачем мне туда? Разве это нужно?
– Еще бы! Надо завтра же поговорить с Барроло насчет выборов в приходе Муртоза! Дорогой мой, сейчас не время спать. Нам не Жулио страшен, а Питта!
– Хорошо, хорошо! – встревожился Гонсало. – Я поеду.
– Тогда поедем верхом, – предложил Андре. – Дорога хорошая, тенистая, Может, тебе надо послать домой, за вещами?
Нет, чтоб не возиться с багажом, Гонсало держал у Грасиньи полный гардероб, от шлепанцев до сюртука. Подобно афинскому мудрецу Биону, он брал с собой в город только посох и бесконечное терпение…
– Великолепно! – заявил Андре, – Итак, мы со всею помпой въедем в Оливейру и этим начнем кампанию.
Фидалго смущенно теребил усы. Он думал об улыбочках сестер Лоузада и о том, как посмотрит город на такую демонстрацию дружбы. А когда Кавалейро послал Матеуса распорядиться насчет коней к половине пятого, Гонсало принялся громко сетовать на духоту и на дорожную пыль. Лучше ехать в семь, когда жара спадет! (Он надеялся, что в сумерках их не заметят в Оливейре.) Но Андре не сдавался:
– Нет, так не годится – уже темно будет! Надо вступить в город торжественно, когда на площади играет оркестр. В пять, а?
И Гонсало подчинился судьбе:
– Хорошо, отправимся в пять,
В красной столовой, устланной коврами и увешанной потемневшими натюрмортами, изображающими цветы и фрукты, Андре занял почетное кресло своего деда Мартиньо. Сверкающая посуда и свежие розы в вазе саксонского фарфора говорили об усердии кузины Жезуины; сама она к столу не вышла, потому что ей с утра нездоровилось. Гонсало похвалил изящество сервировки, которое редко встретишь в доме холостяка, и посетовал, что у него в «Башне» нет своей кузины Жезуины… Андре, улыбаясь от удовольствия, развернул салфетку – он рассчитывал, что Гонсало расскажет чете Барроло о том, как удобно живется у него в Коринде. Затем, поддев на вилку маслину, он сказал:
– Ты знаешь, дорогой Гонсало, побыл я в столице, потом провел день в Синтре…
Матеус заглянул в дверь и напомнил его превосходительству, что чиновник ждет.
– Пусть подождет! – отмахнулся его превосходительство.
Гонсало заметил, что, может быть, почтенный служака устал, проголодался…
– Ну, пусть идет домой обедать! – возразил его превосходительство.
Это презрительное невнимание к несчастному, томящемуся у входа с папкой на коленях, неприятно поразило Гонсало. Он тоже взял маслину:
– Да, так ты говоришь… в Синтре…
– Мерзость! – сказал Андре. – Пылища страшная, ни одного смазливого личика. Ах да, чуть не забыл! Знаешь, кого я встретил на Ювелирной? Кастаньейро, нашего Кастаньейро из «Анналов». Представь себе, в цилиндре. Увидел меня, воздел руки к небу и начал плакаться: «Когда же Гонсало Мендес Рамирес пришлет мне роман?!» Кажется, первый номер выходит в декабре, и рукопись нужна ему к октябрю… Он очень меня просил, чтоб я растормошил тебя, напомнил о славе рода. Ты обязан дописать этот роман. Это непременно нужно! Раньше чем ты войдешь в кортесы, должен появиться твой труд – серьезный, блещущий эрудицией, полный национального духа…
– Да, нужно, нужно! – живо откликнулся Гонсало. – Мне осталось дописать четвертую главу. Но для нее не хватает материалов, надо порыться в архивах!.. За такую работу садятся с ясной головой, а тут выборы, неуверенность… Ты думаешь, меня тревожит эта свинья Жулио? Столичные интриганы, вот кто нам опасен… Как ты считаешь?
Кавалейро засмеялся и снова нацелился вилкой на маслину:
– Как я считаю, Гонсалиньо? Я считаю, что ты похож на ребеночка, который боится, что его оставят без сладкого. Успокойся, дитя мое, сладкое от тебя не уйдет! А если говорить всерьез, Жозе Эрнесто действительно уперся. Он многим обязан Питта. «Истина» в свое время крепко помогла правительству. А сейчас, когда Питта узнает, что я увел у него из-под носа Вилла-Клару, он просто взбесится. Мне это в высшей степени безразлично – ни злобные выпады, ни шуточки какого-то Питта не испортят мне аппетит… Но Жозе Эрнесто от него в восхищении, Питта ему нужен, вот он и забрал себе в голову преподнести ему Вилла-Клару в виде вознаграждения за услуги… Когда я уезжал, он заявил не без остроумия: «Я вижу, депутаты от Вилла-Клары мрут, как мухи. Что ж, если твой Рамирес не изменит этому прекрасному правилу, после него пройдет мой Питта».
Гонсало отодвинулся вместе со стулом:
– Я умру? Ну и скотина!
– Если ты умрешь для выборов! – со смехом уточнил Кавалейро. – Допустим, если мы повздорим, разойдемся во взглядах – словом, если случится невозможное!
Вошел Матеус с чашкой дымящегося куриного бульона.
– На абордаж! – воскликнул Андре. – Ни слова об округах, Питтах, фотографах и политических подвохах! Расскажи-ка мне лучше сюжет своего романа. Значит, ударился в историю? Средние века? Дон Жоан Пятый? Если бы я занялся писательством, я бы выбрал эпоху повеселее, – ну, скажем, семнадцатый век, Португалия при испанцах…
* * *
На вечно спешащих часах церкви св. Христофора пробило без четверти семь, когда Андре и Гонсало выехали со Старой улицы на Посудную площадь (ныне площадь советника Косты Баррозо).
По воскресеньям с помоста, сооруженного советником в бытность его мэром, на месте, где некогда стоял позорный столб, играл военный духовой оркестр «Верность присяге»; и площадь становилась оживленным центром чинного, добродетельного городка. Однако в тот день монастырь св. Бригитты затеял благотворительный базар под благосклонной опекой самого епископа, и потому на скамейках и в креслах, расставленных под акациями, почти не было женщин. Пустовали постоянные места сестер Лоузада, откуда просматривалась вся площадь со стороны церкви св. Христофора, и угол Старой улицы, и угол Караульной, и киоск, где торгуют лимонадом, и укромный павильончик, стыдливо прячущийся в густом плюще. Из знакомых дам здесь были только дона Мария Мендонса, баронесса дас Маржес и сестры Албоин – они стояли спиной к скверу, у железной решетки, венчающей старинную стену, за которой простирались обширные поля, молодые сады и сосновый лес Эстевиньи на извилистых берегах Креде.
Однако мужчины, фланировавшие по бульвару вдоль площади – так называемому «манежу» – под звуки «Марша пророков», всполошились не на шутку (хотя и знали о пресловутом примирении), когда перед ними появились Андре и Гонсало, оба в гетрах, оба в соломенных шляпах. Кони – гнедая, короткохвостая полукровка Гонсало и грузный, вороной конь Кавалейро с выгнутой холкой и мощным хвостом, чуть не волочившимся по плитам, – ступали медленно и важно. Мело Албоин, барон дас Маржес, младший судья и многие другие остановились как вкопанные; вскоре их ряды пополнил один из братьев Вилла Велья, затем – высокородный Постана, за ним – толстый майор Рибас в расстегнутом мундире, пытавшийся подтрунивать над новоявленной дружбой. Нотариус Гедес, известный под именем Удода, свалил впопыхах плетеное кресло и отвесил почтительный поклон, приподнимая дрожащей рукой белую шляпу и тем самым являя свету лысину. А старый адвокат Серкейра, который, застегиваясь на ходу, вышел из укромного павильона, так и замер на месте, не выпуская пуговицы штанов и не поправляя пенсне, сползшее на кончик носа.








