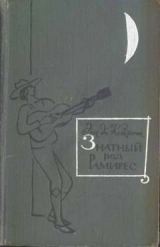
Текст книги "Знатный род Рамирес"
Автор книги: Жозе Мария Эса де Кейрош
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
Эса де Кейрош не был бы истинным художником, если бы развенчивал героя с прямолинейностью, обычной для авторов вступительных статей. Он вовсе не отказывает Гонсало в добрых поступках и порядочности, в сердечности и уме. И все же каждый из этих поступков, в том числе единственный «героический», окрашен иронией, иронией еще более едкой как раз потому, что она освещает негативную сторону, на первый взгляд, положительных явлений.
Один, но «героический» пример. Отправляясь верхом с визитом к виконту Рио Мансо, Гонсало опять встречает задиру-охотника Эрнеста по прозвищу «Бабник», от которого уже приходилось спасаться что есть мочи. На этот раз Бабник еще наглее. Обозвав Гонсало «ослом», да еще «дерьмовым», он с дубиной преграждает путь кобыле. Но история не повторяется, и этот раз оказывается последним. Как будто получив подмогу от всех своих воинственных предков, Гонсало вдруг побеждает страх и сечет негодяя старинным трехгранным хлыстом из кожи бегемота; он бросается на другого «мерзавца» Мануэла, посмевшего ради дружка стрельнуть в фидалго. Итог кровавой битвы – разорванное ухо. Но, кроме того, диван, рассеченный тем же хлыстом, когда Гонсало в упоении повторял дома рассказ о подвиге. И, конечно, телеграммы, посыпавшиеся в Санта-Иренею из Вилла-Клары, из Оливейры, из Лиссабона от бесчисленных друзей и родственников, восхищенных победителем. И городской банкет с огромной чашей пунша, пламеневшей на бильярде. И страх, что вернутся времена смуты. И благодарственный молебен у св. Франциска, покрыть издержки по которому командор Баррос «почитал бы за честь, черт побери!». И бурная реакция провинциальной и столичной прессы («Портский вестник», подозревая, что в дело замешана политика, яростно нападал на правительство, а «Портский либерал» склонялся к тому, что гнусное покушение на знатнейшего из дворян и блистательнейшее дарование молодой Португалии не обошлось без местных республиканцев). И голоса на выборах. И национальная слава… Ей поистине нет цены, так как автор славит героя без всякой почтительности: если проучить нахала плеткой – событие на всю империю, то каков герой и какова империя?
Насмешка над ними становится острее, ирония – глубже, так как Эса создает и вызывает себе на помощь целый коллектив прозаиков и поэтов, первый среди которых – Гонсало Мендес Рамирес.
Нет, он не принялся за исторический роман в двух частях, но повесть страничек на двадцать – тридцать, а то и на все сто прельстила его своей легкостью. Почему бы, в конце концов, и не создать шедевр, как просит «увы-патриот»? Почему бы не напечатать в солидном журнале, где сотрудничают профессора и министры, героическую легенду, обнаруживающую академический склад ума ее автора и прославляющую бесстрашие древних Рамиресов? Идея весьма заманчивая с точки зрения перспективы на политическом поприще. Кастаньейро прав, в наше время перо, как в былые времена шпага, вершит судьбами страны…
Гонсало отважно берется за перо, тем более что вещь, которую он хотел написать, уже хранится в фамильном архиве. Полвека назад в местном альманахе «Бард» дядя Дуарте напечатал полную романтических страстей поэму «Санта-Иренейская крепость». Нерадивому племянничку оставалось, плюнув на счеты между родственниками, лишь черпать полной горстью сокровища дяди да перекладывать белые стихи на серую прозу – задача нелегкая, если учитывать творческие возможности Гонсало, после долгих мук выдавившего «бледные, длинные лучи… в высоком длинном зале». Эса де Кейрош не переоценивает этих возможностей. Он пришпоривает ленивого Пегаса с помощью писем-воззваний Кастаньейро, умоляющего закончить вдохновенный труд и выполнить долг перед Португалией. Силою точно рассчитанных обстоятельств тащит Пегаса под уздцы, когда тот упрямо пятится назад и сворачивает в сторону. Ставит подпорки каждую минуту, когда крылья несчастного одра беспомощно опускаются и робкая фантазия иссякает.
Из всех, кто спешит на выручку к отечественному Вальтеру Скотту, кроме дяди Дуарте, надо, пожалуй, особо отметить помощника провизора, скромного пекарского сына, но великого поэта Видейру, печатавшего любовно-патриотические стихи в «Независимом оливейранце». Сочинив героическое «Фадо о Рамиресах» и дополняя его все новыми куплетами, Видейринья-гитарист словно аккомпанирует литературным подвигам Гонсало и учит собственным примером, как надо воспевать древний и знатный род.
Таким образом, внутри романа о современности, который пишет Эса де Кейрош, параллельно основному потоку струится несколько ручейков, составляющих многоплановый фон. И поэма Дуарте, и фадо Видейры, и повесть самого Гонсало – это все вариации на тему о славном прошлом Рамиресов, кричащий контраст которому образует их бесславное настоящее. Для Гонсало потому и мучительна каждая попытка обмакнуть перо в чернильницу, служившую поколениям предков, что он как личность, как характер представляет собой противоположность тем, о ком собрался писать.
В отличие от трусишки Гонсало, герои его опуса – воплощение мужества и непреклонности. Рамирес XII столетия – натура цельная, верная представлениям века о рыцарской чести, и слово Труктезиндо крепко, как его рука и меч, нанесшие врагам тысячи ударов; стоит сравнить, например, трижды повторенный ответ гордого Труктезиндо «пусть я в ссоре с отечеством и королем, зато в мире с совестью и собой» с отречением Гонсало от слова, данного Каско, чтобы ощутить всю резкость контраста.
В отличие от Гонсало, уже не знающего, что такое принципы, Труктезиндо еще не ведает, что такое компромисс: если первый, по сути, торгует своей сестрой, то второй жертвует погибающим на глазах сыном Лоуренсо, отвергая Лопо де Байона как жениха дочери Виоланты.
Нет нужды в других примерах, которые подтверждали бы, что, подводя свой пиитический итог деяниям Гонсало, Видейринья-гитарист имел основания спеть под окном, где сохло кухонное полотенце, свое хвалебное фадо:
Род Рамиресов великий,
Цвет и слава королевства.
Комментарий к трудам и дням героя, составленный куплетами младшего провизора, поэмой дяди Дуарте и «собственной», в поте лица рожденной повестью не только многопланов, но и многозначителен. Переплетая, разрывая и вновь связывая эпизоды XII и XIX столетий, Эса де Кейрош меньше всего проповедует возврат к феодальным нравам. Он историчен, и его ирония в равной степени поражает прошлое и настоящее. Постоянно сталкиваясь, они развенчивают друг друга – грубая сила и утонченное бессилие, варварская мораль и цивилизованный аморализм. В том-то и глубина Эсы, что, выходя за пределы чисто нравственного сопоставления Труктезиндо и Гонсало, он разоблачает и рыцарский принцип и буржуазный.
Нынешний Рамирес по-своему тоже «верный рыцарь». Переменчивый, как ветер, мягкий, как воск, в руках случая и обстоятельств, Гонсало достаточно упорно преследует одну цель – собственную выгоду. Он вполне последователен, обманывая Каско, склоняясь на брак с доной Аной, играя на струнах, все еще притягивающих Кавалейро к Грасинье. И он вовсе не изменяет «генеральной линии» буржуа, когда из яростного «возрожденца» превращается в правоверного «историка». Перебежка из лагеря либеральной оппозиции в стан правящей партии естественна, коль скоро задача сводится лишь к тому, чтобы пробраться в среду «акционеров»; только не надо оценивать эту перебежку с позиций моральных – о ней надо судить по закону рентабельности.
Этот в высшей степени реальный, постоянно действующий закон устанавливает, что, продаваясь и продавая, Гонсало не поступает беспринципно. Напротив, именно забывая о совести, он проявляет «принципиальность». И если заслуживает упрека, то разве лишь за то, что идет по «законной» дорожке недостаточно нагло и решительно; что каждый раз, словно оступаясь, не делает последнего шага… Но как раз это обстоятельство бесконечно важно для понимания иронии автора. Острая, она в какую-то минуту лишается злости и щадит человека.
Как ни глуп Жозе Барроло – «Жозе без Роли», – Эса не склонен над ним издеваться. Он полон к нему удивительной теплоты и прощает все недостатки за одно, но высшее, как он убежден, качество – доброту. Каким бы праздным лентяем ни был Титу, осушающий в один присест бочонок вина, Эса никогда не взглянет на него сурово – именно потому, что этот баран и пожиратель баранов добродушен и бескорыстен.
Есть в романе рассуждение, перерастающее в философию доброты и программное для автора: «Встретишь иной раз человека без сучка и задоринки, – говорит мудрый и кроткий падре Соейро, – все у него правильно, все как надо – Катон, да и только, а никому он не нравится, никому он не нужен. Почему? Да потому что он никому ничего не дал, ничего не простил, никого не приласкал, не послужил ни одному человеку. А другой – непоследователен, беспечен, полон недостатков, во многом виноват, не всегда помнит о долге, даже преступает закон… И что же? Он щедр, добродушен, услужлив, для всех у него найдется доброе слово, ласковый взгляд… Люди любят его. И мне кажется – да простит меня господь, – что и бог его больше любит…»
Эса так много прощает своим героям, что его доброта иной раз переходит в излишнюю мягкосердечность. С политической точки зрения был бы важен как раз беспощадный разгром Кастаньейро, – в сущности, воинствующего шовиниста. Но чересчур ласковый взгляд Эсы обнаруживает вместо реакционного идеолога попросту тощего и бледного малого в темных очках, чиновника из отдела распространения бюджетных средств, явно без гроша в кармане. По мнению автора, этот подвижник с костлявыми руками в люстриновых нарукавниках, решивший оглушить мир криками о величии Португалии, – оглушен же мир рекламой мыла «Конго»! – настолько жалок и бессилен, что, право же, заслуживает снисхождения.
Только к могущественному Андре Кавалейро да к старухам Лоузада ирония Эсы не знает жалости – и именно потому, что блистательный генеральский сын и устрашающе девственные генеральские дочери сами лишены сердца. Сколько бы усердия и ловкости ни проявил губернатор в управлении Оливейрой, чаша его ослепительных, как манишка, добродетелей, не перетянет тщательно скрытых пороков. И сколько бы упущений по части нравственности ни сумели вынюхать в Оливейре остроносые ведьмы Лоузада, Эса всегда останется на стороне добрых грешников, а не злых праведников.
Демократичная и человечная, ирония Эсы словно напрягает усилия, чтобы подняться над узкосословной – буржуазной и феодальной, мещанской и дворянской – моралью. С высоты своего европейского кругозора Эса, как Гулливер, наблюдает за битвами «остроконечников» – «историков» и «тупоконечников» – «возрожденцев». Он оценивает местные происшествия и страстишки «политических борцов» Оливейры масштабом всемирно-исторических идеалов и событий. Контраст великого и ничтожного, противоречие между грохочущими потоками обесцененных слов и болотной застойностью провинциальной жизни составляет суть и главный прием его иронии. Но, в отличие от Гулливера, Эса все-таки сохраняет чувство кровного родства с лилипутами.
В первую очередь мягкость, доброта, сознание нерасторжимой социально-классовой близости и приводят к оправданию Гонсало. Вопреки своему призыву к «грубой и жестокой правде», автор льстит своему герою. Эса слишком любит его, слишком много возлагает на него надежд, чтобы решиться на приговор, с неумолимостью вытекающий из обстоятельства дела. Он не хочет ставить крест на Гонсало как на личности и предпочитает в последнюю минуту изменить обстоятельства.
Поэтому благородный дон Рамирес отправляет забывшегося плебея Каско в каталажку всего лишь на одну ночь и за это короткое время успевает проявить спасительную доброту к его больному младенцу; соответственно, арестант, еще вчера готовый убить фидалго, назавтра клянется пожертвовать за него жизнью, и в торжественный час выборов возглавляет колонну избирателей.
Поэтому же Гонсало не женится на доне Ане, вопреки усилиям кузины Марии. На роковом пороге честный Тито сообщает, что отнюдь не мраморная Венера имела любовника, – и одной фразой вынимает из кармана нравственного португальца двести тысяч.
И по той же причине оставлено в неизвестности, преступил ли запретную черту Кавелейро, находясь в беседке с Грасиньей; единственный очевидец свидания – старинный диван – был символически предан огню, а вместе с дымом от огня улетучилась и столь сомнительная для чести Гонсало любовь грациозной Психеи к могучему Марсу. Кроме того, спасая гордость Рамиресов, Эса заставил Гонсало отвергнуть титул «маркиза Трейшедо», который губернатор выпросил у короля, чтобы этой подачкой отблагодарить потомка Труктезиндо за покладистость.
Эса, однако, понимает, что осторожной недоговоренности, обхода острых углов и всех прочих усилий при освещении событий частной жизни все-таки маловато для оправдания героя, избравшего путь общественного служения; нужны достойные поступки на гражданском поприще, только тогда реабилитация станет возможной. Поскольку ни «историки», ни «возрожденцы» не в состоянии открыть перед Гонсало перспективу разумной и честной деятельности, автор ищет третий, на его взгляд, более верный путь. Соглашаясь с гитаристом Видейриньей, который однажды скромно заметил: «…такое уж дело – политика… сегодня оно белое, завтра оно черное, а послезавтра – глядь! – и вовсе ничего нет…» – Эса побуждает своего героя понять, насколько мелки его притязания на парламентский мандат и мечты о власти.
Подличать перед начальством и его дамой, улыбаться газетчикам, писать портному на депутатском бланке – и стать министром? Чтобы курьер трусил перед твоей каретой на белой кляче, чтобы чиновники угодливо сгибались в коридорах и оппозиция поливала грязью? Как пусто все это, как бессмысленно! На той же земле, под теми же звездами мыслители объясняют мироздание, художники воплощают вечную красоту, изобретатели приумножают общественное богатство, и благодаря им человечество становится прекраснее и добрее… – примерно так рассуждает депутат Рамирес, в конце концов отказавшийся от политической карьеры и… отправившийся в Африку.
Совершенно ясно, что в самой Португалии автор не находит для своего героя достойного дела и честного средства к честной цели. Трудно допустить, что, превратившись в плантатора, Гонсало сумеет избежать обеих крайностей, подстерегавших его дома: стать законченным, на уровне века, подлецом, как Андре Кавалейро, или патриархальным тюфяком, как Барроло. Невозможно поверить, что Гонсало, преодолев все кризисы и падения, действительно заслужил и славу писателя (в Африке подготовлена книга!), и любовь избирателей. Данью литературным канонам кажется и «высшая награда», по обычаю, достающаяся «добрым малым» – в том числе и «правильным фидалго» – в старинных романах: за четыре года, проведенных героем в колонии, внучка виконта Рио Мансо Розинья превратилась из бутона в розу, не менее привлекательную, чем ее громадное приданое, и, очевидно, более уместную в родовом цветнике Рамиресов, чем вульгарная дщерь мясника и сестрица разбойника… В подобных случаях еще более древние сказки завершались традиционным пожеланием «жить поживать да добра наживать» и стандартной формулой насчет меда и пива, в рот, увы, не попавших.
Почему же, однако, реалист Эса, завершая книгу, изменил столь дорогой ему истине?
В романах, предшествующих «Знатному роду Рамирес» – в той же «Реликвии» и в посмертно изданном творении автора «Город и горы», – последние страницы тоже присыпаны сахарной пудрой, и слой ее постепенно густеет, погребая под своим идиллическим покровом не только истину, но и неотделимое от нее искусство. Один из источников этой умиротворенности – усталость приблизившегося к смерти писателя, большая усталость от правды, вынуждавшая, стольких художников складывать оружие и, забывая задорные песни молодости, шептать стихи о покое… В благополучных концовках позднего Эсы слышится и отзвук мирной эпохи 1870–1900 годов, казавшейся многим художникам и мыслителям буржуазной Европы эпохой навеки установившихся либеральных порядков, реформ и постепенного социально-экономического развития. Но, пожалуй, главная причина отхода от прежних позиций в ложном понимании путей, способных вывести Португалию из состояния кризиса и отсталости. По мнению Гоувейи, которое в данном случае выражает мнение автора, черты Гонсало – простодушие, мягкость и доброта, доброта прежде всего; вспышки скоротечного энтузиазма и упорство, безрассудство и здравый смысл, тщеславие и смирение, неудержимая фантазия и практицизм, робость и отвага – все эти нравственные качества не что иное, как национально-исторические особенности Португалии. Образу блудного отпрыска одного из древнейших родов страны тем самым придается значение символа, а счастливой пристани, куда вернулся фидалго, пройдя свой извилистый путь, – значение перспективы для потерявшего дорогу отечества. Концовка и завершающие роман строки, которые призывают мир на Гонсало, на всех людей, на тихие поля «и на всю милую португальскую землю, да будет она благословенна во веки веков», бросают новый отсвет на прошлое рода Рамиресов и на его настоящее, на битвы феодалов, так же как на интриги буржуа.
Если вначале романтические по духу страницы об отважном и непреклонном Труктезиндо воспринимались как контраст реалистическому повествованию о переменчивом и трусливом Гонсало и, действительно, составляли этот контраст вместе с поэмой Дуартэ и фадо Видейры, то в итоге все параллельные основному потоку ручьи вливаются в него, уже не подчеркивая слабость, а укрепляя силу Рамиреса. По замыслу Эсы, противоборство прошлого и настоящего, романтики и реализма должно привести к синтезу, и Эса настойчиво добивается синтеза во всем построении, в форме и содержании романа.
Увы, синтез во многом не удался, так же как перевоспитание и стремительное исправление героя. Если Гонсало – символ Португалии, то его неожиданный отъезд в Африку приходится расценивать как бессилие Эсы указать истинный путь для зашедшей в тупик страны и для столь же неожиданно оправданного героя, к которому, как к знатному фидалго, представителю родового дворянства, автор обращается с явно запоздалым призывом: «Возродись и возроди страну!»
Нет нужды пояснять, насколько иллюзорны надежды Эсы, возложенные на Гонсало; насколько они противоречат роману, разоблачившему потомка знатного рода…
По этому поводу стоит вновь вспомнить мысль Энгельса, высказанную им в известном письме к Маргарите Гаркнесс. Иллюстрируя эту мысль творчеством Бальзака, Энгельс говорил об определенном виде реализма, который проявляется независимо от взглядов автора, о том, что Бальзак «принужден был идти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков»; что «он видел неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи»; что «он видел настоящих людей будущего там, где их единственно и можно было найти».
В отличие от гения французской литературы, на творчество которого падал отсвет революционной эпохи, крупнейшему писателю Португалии конца века исторически не дано было увидеть на родине «людей будущего».
Эса не мог полностью отказаться от своих политических предрассудков. И все же он – художник-реалист – доказывает неизбежность падения аристократов, показывает их людьми, не заслуживающими лучшей участи.
Трагедия Эсы в том, что португальская действительность не давала ему реальной надежды на подлинное «возрождение», лишала отваги и последовательности. А без них «грубая и жестокая правда» порой уступает место сладковатой лжи. То, что есть, – тому, что должно быть или, вернее, хотелось бы, чтобы было.
Так случается не в одной лишь Португалии. Между берегами Атлантики и Невы существует мостик многочисленных и оправданных ассоциаций, соединяющий фидалго и «возрожденцев», сплетниц и губернаторов Оливейры с героями Щедрина и гоголевскими типами: дальнее расстояние не уничтожает близкого родства, скажем, между Барроло и Маниловым… Кризис Гоголя как художника и мыслителя во второй части «Мертвых душ», где преподносились образцы «разумного» крепостничества, – явление того же порядка, что иллюзии Эсы.
Обязанность и право современников – отнестись критически к сомнительной идиллии, ожидающей Гонсало и Розинью в древней башне Рамиресов; к семейно-патриархальному согласию, будто бы установившемуся отныне между владельцами Санта-Иренеи и теми, кто из поколения в поколение гнул на них спину. У нас есть своя историческая высота, с которой виднее плоды деятельности Рамиресов, как в Португалии, так и в Африке…
Но, видя эти плоды и зная их вкус, было бы непростительной ошибкой умалять достоинства романа и редкий по силе, культуре, знаниям талант его автора, сочетающий в себе зоркость и доброту.
Наше столетие дало немало проницательных умов, отталкивающих холодной злостью. И нет-нет, а встречается тепленькая, но удручающая своей тупостью сентиментальность. Тем драгоценнее ирония и мудрая сердечность Эсы, друга и союзника всех, кто желает мира для людей, и полей, и для прекрасной земли португальской, русской, африканской… да будет она благословенна во веки веков!
М.Кораллов










