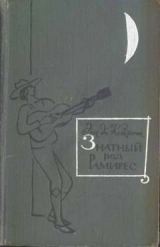
Текст книги "Знатный род Рамирес"
Автор книги: Жозе Мария Эса де Кейрош
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
– Что ж, очень неплохо!
Он не спеша пододвинул кресло поближе к столу, еще разок заглянул в «Барда», в поэмку дяди Дуарте, и, как бы вынырнув на свет из тумана, чувствуя, что образы и слова сами возникают откуда-то из глубины, словно пузыри пены на прорвавшей плотину воде, он приступил к важнейшему эпизоду главы первой: престарелый Труктезиндо Рамирес беседует в Оружейном зале крепости со своим сыном Лоуренсо и свояком, доном Гарсией Вьегас, «Мудрым», о готовящемся походе… Походе? На кого же? Разве в горах были замечены скользящие тени мавританских лазутчиков? Увы! Нет! «На этой доброй христианской земле, давно очищенной от басурман, суждено было скреститься в братоубийственной войне благородным мечам португальцев».
Слава тебе господи! Перо наконец разгулялось! Сверяясь с пометками на страницах «Истории» Эркулано, фидалго стал намечать уверенной рукой черты той эпохи, когда начались первые распри между королем Афонсо II и его братьями из-за наследия дона Саншо I. В начале этой главы оба обездоленных инфанта, дон Педро и дон Фернандо, уже покинули пределы Португалии и просят помощи у королей Франции и Леона; с ними отправился в изгнание и могучий сородич Рамиресов, Гонсало Мендес де Соуза, родоначальник славной семьи Соуза. Теперь же шло описание того, как две инфанты, дона Тереза и дона Санша, запершись в своих замках – Монтеморе и Эсгейре, – отказываются признать власть короля дона Афонсо II, их брата, над городами, замками, поместьями и монастырями, которыми столь щедро наделил их покойный отец. Больше того: умирая в алкасаре Коимбры *, дон Саншо I умолял Труктезиндо Мендес Рамиреса, своего молочного брата и военачальника, которого сам посвятил в рыцари в Лорване, чтобы тот не забывал прежнего сеньора и не покинул без защиты его любимую дочь, инфанту дону Саншу, владетельницу Авейры. Верный вассал дал клятву у смертного одра, где на руках у епископа Коимбры, в присутствии приора госпитальеров *, умирал в холщовом балахоне кающегося грешника победитель сражения при Силвес… И вот начинается война не на живот, а на смерть, между Афонсо II, неуклонно ратующим за достоинство королевской власти, и непокорными инфантами, которых толкают на борьбу храмовники* и прелаты, завладевшие с попущения покойного короля лучшими землями королевства Португальского! Вот уже Аленкер и другие прилегающие крепости разгромлены королевскими войсками на обратном пути из Навас-де-Толоса. Дона Санша и дона Тереза призывают на помощь леонского короля, который и вторгается со своим сыном Фернандо в пределы Португалии, чтобы «вступиться за беззащитных женщин». В этом месте дядя Дуарте, со свойственным ему непревзойденным изяществом, обращался к бывшему военачальнику Саншо I со следующим риторическим вопросом:
Старейший из Рамиресов! На что же
Решишься ты? К леонцам ли примкнешь,
Нарушив долг пред королем живущим,
Или инфант оставишь без защиты,
Нарушив долг пред мертвым королем?
Однако подобные сомнения отнюдь не тревожили душу прямого и сурового Труктезиндо (образ которого Фидалго из Башни набрасывал широкими, мощными мазками). Как раз в описываемую ночь, едва получив от алкайда Авейры, пославшего в Санта-Иренею своего брата в обличии бегинского монаха, жалобный призыв доны Санши, Труктезиндо немедля отдает своему сыну Лоуренсо приказ выступить на ранней заре ей на подмогу с пятнадцатью рыцарями, пятью десятками пеших воинов и сорока арбалетчиками. Сам же он тем временем кликнет клич и через двое суток поведет на Монтемор своих людей, а также сильный отряд лучников и ленных рыцарей, чтобы соединиться с «кузеном» Соузой, идущим навстречу из Алва-до-Доуро во главе леонского войска.
Едва рассвело, стяг Рамиресов – черный ястреб на червленом поле – был вынесен за укрепленный железными скобами палисад крепости. Рядом, на земле, блестел звонкий, объемистый полированный котел – древняя эмблема санта-иренейских сеньоров. Пажи сновали по всему замку, снимали развешанные по стенам шлемы, с грохотом волочили по каменному полу железные кольчуги. Во дворе оружейники натачивали копья, выстилали слоями пакли заскорузлые наколенники и поножи. Начальник караула следил, как зашивают в кладовой тюки с запасом продовольствия на два жарких походных дня. К вечеру по всем окрестным высотам – глухо на лесистых холмах (тру-ту-ту! тру-ту-ту!), звончей на оголенных косогорах (ра-та-та! ра-та-та!) – забили мавританские барабаны Труктезиндо Рамиреса, созывая конных вассалов и пешую рать.
Между тем посланный из Авейры, по-прежнему в одеянии монаха-бегинца, спешит с доброй вестью восвояси: он уже перешел по подъемному мосту через ров. И тут, задумав, по-видимому, оживить чересчур мрачные сцены военных приготовлений, дядя Дуарте вставил в свою поэмку галантный эпизод:
У девушки, спустившейся с кувшином
К источнику, монах жизнелюбивый
Похитил поцелуй, сказав: «Аминь!»
Но Гонсало колебался: не нарушит ли эта игривая сценка торжественного настроения, навеянного картиной выступления в поход?.. Он задумчиво покусывал ручку пера; вдруг дверь библиотеки заскрипела.
– Пожалуйте почту.
Бенто принес пачку газет и два конверта. Фидалго распечатал лишь один из них, где на сургуче был выдавлен огромный герб Барроло, и с отвращением отбросил второй, узнав ненавистный почерк своего лиссабонского портного. И вдруг он в волнении закричал, стукнув кулаком по столу:
– Ах, черт! Какое сегодня число? Четырнадцатое, а? Бенто выжидательно смотрел на него, держась за ручку двери.
– Скоро день рождения Грасиньи! А я чуть не забыл! Вечно все забываю. И даже подарка не приготовил… Вот так история! А?
Впрочем, Мануэл Дуарте говорил вчера за пикетом в клубе, что собирается махнуть денька на три в Лиссабон: пристроить племянника на службу в министерство общественных работ. Значит, надо съездить в Вилла-Клару и попросить сеньора Мануэла Дуарте купить в Лиссабоне хорошенькую омбрельку из белого шелка, с кружевами. «Сеньор Мануэл Дуарте понимает толк в красивых вещицах; у него отличный вкус! Так скажи Жоакину, чтобы сегодня не седлал кобылу: я не поеду к Саншесу Лусене!.. О господи, когда же я отдам этот проклятый визит? Три месяца прошло! Впрочем… днем раньше, днем позже… Красавица дона Ана за это время не постареет, а старик Лусена не помрет!»
И Фидалго из Башни, решившись пойти на риск и оставить на месте игривый поцелуй, снова взялся за перо и закруглил главу следующей живописной концовкой:
«Красотка сердито закричала: «Фу! Фу! Пошел прочь!»; бегинец, насвистывая и легко ступая в сандалиях по узкой тропе, исчез среди высоких буков, между тем как по всей цветущей долине, вплоть до монастыря пресвятой девы Кракедской, мавританские барабаны Рамиресов рассыпали свою дробь («тру-ту-ту! ра-та-та!») в тиши вечереющего дня…»

III
Всю следующую неделю, даже в самые знойные часы, Фидалго из Башни работал прилежно и плодотворно. Так и в этот день: в коридоре уже давно прозвенел колокольчик, уже Бенто два раза заглядывал в библиотеку, предупреждая сеньора доктора, что «обед на столе, и непременно простынет», но Гонсало, не отрываясь от работы, буркал в ответ: «Сейчас иду», – и перо его продолжало скользить по бумаге, как корабельный киль по водной глади, в нетерпеливом стремлении окончить до обеда первую главу.
Уф! Она потребовала немало труда, эта длинная, сложная глава! Именно в ней надо было воздвигнуть громаду Санта-Иренейской крепости, наметить несколькими сильными штрихами малоизвестную эпоху португальской истории, снарядить войско, не забыть наполнить припасами вьюки, укрепить поперечные шесты для ящиков на спинах мулов…
К счастью, вчера вечером он вывел наконец людей Лоуренсо Рамиреса за ворота крепости; вооруженный отряд, празднично сверкая шишаками и копьями и теснясь вокруг реющего по ветру стяга, двинулся к Монтемору.
В заключительной части этой главы наступала ночь. Отзвучал колокол, призывавший обитателей крепости укрыться в ее стенах, на сторожевой башне зажглись сигнальные огни, и Труктезиндо Рамирес спустился в нижний зал своего замка, чтобы сесть за ужин. Но чу! За крепостным валом, по ту сторону рва, запел рог: три громких сигнала говорили о прибытии знатного рыцаря. Начальник караула не счел нужным спрашивать о распоряжениях сеньора: заскрипел на железных цепях подъемный мост и глухо стукнулся о каменные устои. Это прибыл Мендо Паес, приближенный Афонсо II, старейшина королевской курии и муж одной из дочерей Труктезиндо, доны Терезы, которая получила прозвище «Королевская лебедь» за стройную белую шею и легкую, точно полет, поступь. Сеньор Санта-Иренеи поторопился выйти на крыльцо, чтобы обнять любезного зятя («статного светловолосого рыцаря с на редкость белым цветом кожи, обличавшим германскую кровь вестготов»). Оба сеньора вошли рука об руку в сводчатый зал, где вдоль стен горели факелы, воткнутые в грубые железные кольца.
Середину зала занимал массивный дубовый стол и расставленные вокруг него скамьи. На почетном конце была постлана скатерть из домотканого полотна, пестрели оловянные тарелки и блестевшие глазурью кувшины. Тут стояло кресло самого Труктезиндо с ястребом на спинке, грубо выточенным из дерева; к нему на длинной перевязи, усаженной серебряными бляхами, был подвешен его меч. Позади этого кресла зиял погасший очаг, в котором лежала груда сосновых ветвей. Каминная полка была уставлена ковшами, по бокам красовались сосуды с пиявками, а сверху на стене висели две пальмовые ветви, привезенные из Палестины Гутьерресом Рамиресом, «Мореходом». Пригревшись около дымовой трубы, дремал на жердочке ловчий сокол, еще не потерявший оперения; на камышовой подстилке спали два огромных бульдога, свесив уши и уткнув морды в лапы. В углу, на чурбаках из каштановых стволов стояла бочка с вином, а в простенке между двух узких, забранных решеткой окон примостился на сундуке монах в надвинутом по самые брови капюшоне. Он читал при свете чадной свечи свиток пергамента… Так украшал Гонсало угрюмый зал утварью афонсинской эпохи, позаимствованной у дяди Дуарте, Вальтера Скотта и в исторических повестях из «Панорамы». Но сколько на это пошло труда!.. Сначала он положил на колени монаху фолиант, отпечатанный в Майнце Ульрихом Целлем *. Но пришлось тут же вычеркнуть этот блиставший эрудицией абзац: фидалго даже стукнул кулаком по столу, вспомнив, что во времена пращура Труктезиндо книгопечатание еще не было изобретено, и его ученому монаху приличествовал самое большее «пергаментный свиток с пожелтевшими письменами».
Медленно шагая по гулким плитам, Труктезиндо прохаживался со своим гостем от очага до дверей, скрытых за кожаной занавесью. Он слушал Мендо Паеса, скрестив руки; белая борода пышно рассыпалась по его груди. Мендо, как родственник и друг, явился в Санта-Иренею один, без опасений; на поясе поверх серого шерстяного казакина висел только короткий меч да торчал за поясом сарацинский кинжал. Он гнал коня во весь дух от самой Коимбры и, не отряхнув дорожной пыли, стал умолять тестя, чтобы во имя принесенной королю присяги тот не вступал под знамя Леона и мятежных инфант. Мендо привел все доводы против дочерей дона Саншо, какие были собраны и изложены учеными писцами курии: решение толедского собора, апостольское послание из Рима от папы Александра, древние законы вестготов! Да и чем обидел обеих инфант их царственный брат, какой повод им дал, чтобы призывать леонские войска на землю Португалии? Никакого! Дон Афонсо не лишал их права на замки и деревни, пожалованные доном Саншо. Король Португалии просит лишь об одном: чтобы ни одна пядь португальской земли – будь то пустошь или город – не уклонялась от повиновения короне. Разве король дон Афонсо скуп? Или жаден? Разве не подарил он доне Санше восемь тысяч золотых морабитинов? А сестра в благодарность за это зовет на Португалию врагов – и вот уже леонец вторгся в пределы отечества, уже пали под его натиском славные крепости Улгозо, Контраста, Уррос, Ланьозело! Старший в роде Соуза, Гонсало Мендес, не почел нужным быть в рядах христиан под Иавас-де-Толоса, зато не замедлил явиться на зов инфант, и теперь рыщет, точно сарацин, по португальской земле, от Агиара до Миранды, разоряя все на своем пути! Уже в горах на той стороне Доуро замечены знамена с тринадцатью кольцами – а вслед за ними пожалуют и разбойничьи банды этого басурмана Кастро! Королевству грозит беда от рук христиан, а ведь на южных границах мавры и берберы еще не отучены от дерзких набегов на наши поля… Славному сеньору Санта-Иренеи, столь много сделавшему для собирания португальских земель, не пристало разорять их, отрывая лучшие куски на потребу монахов и строптивых женщин!
Так говорил Мендо Паес, меряя зал широкими шагами; он был так разгорячен и взволнован, что два раза кряду наполнил деревянный ковш и залпом его осушил. Затем утер губы тыльной стороной дрожащей руки и прибавил:
– Конечно, ты должен ехать в Монтемор, сеньор Труктезиндо Рамирес! Но будь посланником мира и согласия! Убеди дону Саншу и ее сестер, что не пристало женщинам враждовать со своим королем и покровителем!
Сеньор Санта-Иренеи остановился и устремил на зятя с высоты своего огромного роста проницательный взгляд из-под мохнатых, точно кустарник в морозное утро, бровей.
– Я поеду в Монтемор, Мендо Паес, но пролью мою кровь и кровь моих людей, чтобы обрел свое право тот, на чьей оно стороне.
Мендо Паес, опечаленный упорством старика, проговорил:
– Горько слышать, горько слышать! Кровь славных рыцарей прольется за неправое дело. Знай же, сеньор Труктезиндо Рамирес, что в Канта-Педре ждет Лопо Байонский, «Бастард», с сотней копий, чтобы отрезать тебе путь в Монтемор.
Труктезиндо поднял свое крупное лицо и рассмеялся так громко и надменно, что хрипло зарычали бульдоги и сокол, пробудившись, взмахнул крыльями.
– Вот добрая весть, сулящая добрую потеху! А скажи-ка, сеньор старейшина королевской курии, ведь ты привез это верное известие в надежде припугнуть меня?
– Припугнуть тебя? Да тебя не припугнет сам архангел Михаил с огненным мечом и всем небесным воинством! Я не первый день тебя знаю, Труктезиндо Рамирес. Но ты мой тесть, и раз судьба решила, что в этой войне мы не можем биться рядом, я хочу, по крайней мере, предупредить тебя об опасности.
Престарелый Труктезиндо хлопнул в ладоши, созывая домочадцев.
– Хорошо, хорошо. Давайте ужинать. Садитесь за стол, отец Мунио!.. А ты, Мендо Паес, оставь опасения.
– Не в опасениях дело! За тебя я не боюсь, пусть там ждут хоть сто копий, хоть двести.
И пока монах свертывал пергамент и пробирался к столу, Мендо Паес хмуро добавил, медленно отстегивая кожаный пояс:
– Меня гнетет другое: из-за этого похода, любезный тесть, ты окажешься в ссоре с отечеством и королем.
– Сын и друг мой! Пусть я в ссоре с отечеством и королем, зато в мире с совестью и с собой!
Этих гордых слов, свидетельствовавших о непоколебимой верности слову, не было в поэмке дяди Дуарте. Придумав их в порыве вдохновения, Гонсало отложил перо, потер руки и радостно воскликнул:
– Дьявольщина! А ведь это талантливо!
Вскоре фидалго завершил главу. Он чувствовал, что вконец измотан, просидев за столом с девяти часов утра, не разгибая спины и воскрешая в себе, да еще натощак, неутомимую энергию воинственных дедов!
Он перенумеровал листки, засунул в ящик и запер на ключ томик «Барда», потом подошел в распахнутом халате к окну и повторил вслух свою талантливую фразу, проговорив ее хрипло и грозно, как сам Труктезиндо: «…в ссоре с отечеством и королем, зато в мире с совестью и с собой!» Он и впрямь почувствовал себя Рамиресом XII века – самозабвенно преданным королю вассалом, который, раз дав слово, верен ему, как схимник своему обету, и во имя чести радостно жертвует богатством, покоем и самой жизнью!
Бенто снова отчаянно зазвонил в колокольчик, потом распахнул дверь:
– К вам Перейра. Во дворе ждет Перейра, хочет поговорить с сеньором доктором.
Гонсало Мендес сердито сдвинул брови: его внезапно низвергли на землю с высот, где веял благородный дух предков.
– Что там еще? Перейра?.. Какой Перейра?
– Перейра, Мануэл Перейра, из Риозы, Перейра Бразилец.
Речь шла о хуторянине из Риозы, которого прозвали «Бразильцем» после того, как он получил двадцать тысяч милрейсов в наследство от своего дяди, бродячего торговца в Пара. На эти деньги он купил землю, а также взял в аренду «Кортигу», расстроенное имение графов Монте-Агра. По воскресеньям он облачался в редингот из тонкого сукна; все шестьдесят избирателей прихода Риозы были у него в руках.
– А-а! Скажи Перейре, чтобы поднялся на веранду. Мы с ним потолкуем за обедом… Поставь второй прибор.
* * *
Столовая «Башни» выходила тремя застекленными дверями на обширную крытую веранду; еще со времен деда Дамиана (того, что переводил Валерия Флакка) здесь сохранилось два превосходных гобелена, изображавших поход аргонавтов. Огромный шкаф черного дерева ломился от драгоценной, хотя и разрозненной фарфоровой посуды из Индии и Японии. На мраморных стойках буфетов сверкало знаменитое серебро Рамиресов – остатки былого великолепия: Бенто беспрестанно с любовью протирал и начищал его. Но Гонсало предпочитал обедать, особенно летом, на светлой, прохладной веранде, сплошь устланной циновками. Стены ее до половины были выложены тонкими изразцами XVIII века, а в углу стояла широкая плетеная кушетка, обложенная парчовыми подушками: на ней приятно было поваляться после обеда, покуривая сигару.
Когда Фидалго вошел, с еще не развернутыми утренними газетами, Перейра ждал его, опершись на свой огромный красный зонт и задумчиво обозревая имение: оно простиралось до самого берега Койсе, поросшего тополями, и уходило дальше, за мягкие холмы Валверде. Перейра был сухощавый, крепкий, костистый старик; его загорелое лицо с маленькими светлыми глазами и редкой, уже седой бородкой темнело над тугим воротничком, застегнутым на две золотые пуговицы. Как человек состоятельный, привыкший к городским порядкам и общению с господами, он уверенно протянул руку Фидалго из Башни и без смущения принял приглашение сесть в кресло, поближе к столу, где среди прочей посуды высились два старинных кувшина граненого хрусталя – один с букетом белых лилий, другой с молодым вином.
– Каким добрым ветром занесло вас в «Башню», друг Перейра? Последний раз мы виделись в апреле!
– Верно, сеньор доктор, аккурат в субботу накануне выборов, когда случилась та памятная гроза, – подтвердил Перейра, поглаживая рукоятку зонта, стоявшего у него между колен.
Гонсало чувствовал прилив аппетита; он позвонил в серебряный колокольчик и, смеясь, продолжал:
– Голоса ваших избирателей, дружище Перейра, как всегда, отданы незаменимому Саншесу Лусене! Они стремятся к нему, как реки в море!
Перейра с приятностью ухмыльнулся, обнажив в улыбке испорченные зубы. Да ведь что сделаешь? Приход входит во владения сеньора Саншеса Лусены! Богатейший помещик, притом человек знающий, почтенный, всегда готовый оказать услугу… А коли такого кандидата и правительство поддерживает, как оно было в апреле, то сам господь наш Иисус Христос – вернись он на землю и выставь свою кандидатуру от Вилла-Клары – не собрал бы больше голосов, чем хозяин «Фейтозы»!
Бенто, в черном люстриновом пиджаке поверх белоснежного фартука, бережно внес на блюде яичницу-глазунью. Фидалго стал развертывать салфетку, но вдруг скомкал ее и с отвращением отшвырнул прочь:
– Салфетка грязная! Сколько раз повторять одно и то же? Пусть она рваная, штопаная, заплатанная – это мне безразлично, но каждое утро мне должны подавать белоснежную, абсолютно свежую, пахнущую лавандой салфетку!
Тут, заметив, что Перейра скромно отсаживается подальше от стола, он спросил:
– Что такое? Вы не будете обедать, Перейра?
Нет, премного благодарен за любезность, но сегодня он обедает у бравайского зятя: день рождения внучонка.
– Отлично! Поздравляю, друг Перейра! Поцелуйте за меня внучонка. В таком случае выпейте хоть бокал вина.
– Между завтраком и обедом, сеньор мой, ни воды, ни вина.
Гонсало понюхал яичницу и отставил в сторону. Затем потребовал «фамильное блюдо», которое в «Башне» готовилось отменно вкусно и представляло собой густую похлебку с ветчиной и овощами. Фидалго с детства обожал эту похлебку и называл ее «мисочкой». Затем, намазывая масло на сдобный хлебец, он продолжал:
– А признайтесь, Перейра: ведь Саншес Лусена отнюдь не делает чести нашему округу! Человек он, разумеется, прекрасный, весьма достойный, услужливый… Но он нем, Перейра! Нем как рыба!
Крестьянин потер красным платком, свернутым в комок, свои волосатые ноздри.
– Ну, дело-то он знает, и мысли у него правильные…
– Так! Но эти правильные мысли не выходят за пределы его черепа! К тому же он староват, Перейра! Сколько ему? Шестьдесят будет?
– Шестьдесят пять лет. Но у них в роду все крепкие, сеньор доктор. Дед дожил до ста лет, я не раз видел его в лавке…
– Как это, в лавке?
Перейра еще туже скрутил платок и удивленно посмотрел на фидалго: неужели он не знает истории Саншеса Лусены? Дед Лусены, Мануэл Саншес, торговал пряжей в Порто, на Огородной улице. Жена у него тоже была миловидная, модница…
– Прекрасно! – отрезал фидалго. – Это делает честь Саншесам Лусенам. Семья, создававшая себе положение, вышедшая в люди… Не спорю, Перейра, в депутаты от Вилла-Клары годится лишь такой человек, как Саншес: помещик, связанный с Вилла-Кларой глубокими корнями, известный всему округу. Но ведь одного этого мало: депутат должен обладать способностями и энергией. В ответственный момент, в минуту кризиса депутат встает во весь рост и увлекает за собой палату!.. И, кроме того, друг Перейра, в политике добивается своего лишь тот, у кого крепкая глотка. А между тем… в каком положении дорога на Риозу? Все еще в чертежах, в красном карандаше… А если бы Саншес Лусена поднял крик в Сан-Бенто, телеги моего друга Перейры уже скрипели бы по ровному тракту…
Перейра сокрушенно покачал головой.
– Насчет этого фидалго, пожалуй, прав. Пора бы, давно пора кому-нибудь пошуметь насчет риозского шоссе… Пожалуй, в этом фидалго прав!
Но фидалго не отвечал: он с упоением поедал ароматную похлебку, поданную в новой глиняной миске, с пучком зелени. Тогда Перейра пододвинулся поближе, положил на край стола руки – черные и жесткие после полувекового труда на земле, точно древесные корни, – и заговорил о главном: он решился обеспокоить фидалго в час обеда лишь потому, что на этой неделе думают начать рубку леса на дальнем урочище в Сандине, и желал бы заблаговременно, пока не явились другие, потолковать насчет аренды «Башни»…
Гонсало, не донеся ложку до рта, поглядел на него с веселым удивлением:
– Вы хотели арендовать «Башню», Перейра?
– Я хотел потолковать с фидалго… Ведь вы отпустили Рельо…
– Но я уже договорился с Каско, с Жозе Каско из Бравайса! На днях мы почти что решили дело… То есть уже с неделю назад…
Перейра медленно поскреб подбородок, обросший редкими волосами. Что ж, очень жаль, очень жаль… Он только в субботу узнал про недоразумение с Рельо. А не секрет, на чем решено у них с Каско?
– Нет, дружище, какой тут секрет? Девятьсот пятьдесят милрейсов…
Перейра вытащил из жилетного кармана черепаховую табакерку и не спеша втянул понюшку в ноздрю, аккуратно наклонившись над циновкой. Что ж, опять-таки жаль, очень жаль… сожалительно даже и для самого фидалго. Что ж делать! Коли слово дано… А только жаль: усадьба больно хороша; уже с Иванова дня он подумывал, не поговорить ли с фидалго. Времена, правда, тяжелые, но он, Перейра, дал бы тысячу и пятьдесят… даже тысячу сто пятьдесят милрейсов!
Гонсало забыл про похлебку; от волнения при мысли о столь заметном повышении ренты краска прилила к его благородному лицу. Заманчиво было также заручиться прекрасным арендатором, лучшим хозяином во всей округе, человеком богатым, имеющим счет в банке.
– Вы серьезно, Перейра?
Старый крестьянин положил табакерку на стол и твердо ответил:
Сеньор доктор, не такой я человек, чтобы явиться в «Башню» к вашей милости и попусту трепать языком! Я люблю так: ладный разговор – так пиши договор… Но коли поместье уже сдано…
Он взял табакерку и оперся тяжелой рукой о стол, чтобы встать; но Гонсало взволнованно воскликнул, отталкивая тарелку:
– Постойте, милейший!.. Я не все вам рассказал насчет Каско. Понимаете… Да вы же знаете и сами, как иной раз бывает. Каско приходил, мы вели переговоры; я просил девятьсот пятьдесят милрейсов и поросенка к рождеству. Он сперва согласился, потом передумал… Пришел опять, с кумом; потом еще раз – с женой, с кумом, с пасынком и с собакой. Потом один. Ходил по усадьбе, все обмерял, нюхал землю, кажется, даже пробовал на зуб. Дотошный малый! Вечером явился ко мне, долго кряхтел и наконец выдавил, что дает девятьсот пятьдесят милрейсов, но без поросенка. Я уступил поросенка. Мы пожали друг другу руки, выпили по чарке. Условились, что он придет, чтобы окончательно все обсудить и составить договор. С тех пор я его не видел – почти две недели! Ясно: уже раздумал и жалеет. Короче говоря, контракта с Каско нет… Был только разговор вообще, мы в принципе сошлись на девятистах пятидесяти. Но я ненавижу неопределенность и уже думал, что надо бы поискать кого-нибудь поверней!
Перейра недоверчиво тер подбородок. Он любит, чтобы в делах все было чисто как стеклышко. С Каско он всегда ладил и не станет перебивать у него аренду, подарите ему за это хоть целое графство!.. Каско парень грубый, горячий… Нет, тут все должно быть начистоту, в ссору ввязываться нам не с руки. Контракт, положим, не подписан. Но слово-то дано?
Гонсало Мендес Рамирес, поспешно доедавший суп и наливавший себе вина, чтобы успокоить нервы, пристально, даже сурово посмотрел на крестьянина:
– Милейший, о чем это вы? Если бы я окончательно дал слово Каско, стал бы я договариваться или даже просто толковать с вами об аренде «Башни»?!
Перейра склонил голову. Опять-таки и это верно!.. А коли так, то будем говорить напрямик, без обиняков, Имение он знает, все давно подсчитано – он даст сеньору доктору тысячу сто пятьдесят милрейсов, но без поросенка. Не берется он также поставлять молоко, овощи и фрукты для дома; конечно, фидалго человек холостой, ему не так уж много надобно. Но в «Башне», древнем рыцарском гнезде, кишмя кишит челядь и приживалы. Каждый норовит ухватить побольше, каждый берет лишку… Словом, такое уж у нас правило. Для фидалго и даже для всей прислуги вполне достанет усадебного огорода и сада. Разумеется, сад и огород потребуют правильной обработки, но он, Перейра, чтобы сделать приятное сеньору доктору, уж так и быть приглядит сам за усадьбой, наведет полный порядок… В остальном можно оставить условия прежнего договора, контракт подпишем на той неделе, в субботу. Что ж, по рукам?
Гонсало несколько мгновений молчал; ресницы его нервно дрожали; потом решительно протянул Перейре руку ладонью вверх:
– Бейте! Теперь все! Теперь слово дано!
– Да будет с нами бог, – заключил Перейра и, опершись на зонт, начал подниматься. – Стало быть, в субботу, в Оливейре… Контракт подпишете вы, ваша милость, или сеньор падре Соейро?
Фидалго размышлял:
– Нет, дружище, в субботу ничего не получится. Я, правда, буду в Оливейре, но это день рождения сестрицы Марии Грасы.
Перейра вновь приоткрыл в почтительной улыбке испорченные зубы.
– Вон оно что! Надеюсь, сеньора дона Мария да Граса в добром здоровье? Давненько я ее не видел! С прошлого года, с самой процессии господа крестного пути в Оливейре. Душевная сеньора!.. А что сеньор Жозе Барроло? Хороший тоже господин сеньор Жозе Барроло. Отличное у него имение, «Рибейринья»… Лучшее имение в округе! Да, богатое именьице… Куда до него усадьбе Андре Кавалейро, там же, по соседству… называется «Бискайя». Небо и земля!
Фидалго из Башни, очищавший персик, улыбнулся:
– Андре Кавалейро ничем не может похвастать, Перейра. Ни хорошей усадьбой, ни чистой совестью.
Крестьянин поглядел на него с удивлением. А он-то думал, что фидалго по-прежнему в дружбе с сеньором Кавалейро… Не в политике, конечно, но во всем остальном! Оба такие отменные господа… дворяне…
– Ну, нет. Я и Кавалейро? Я его не приемлю, ни в политике, ни во всем остальном. Вовсе он не политик. И не дворянин. Обыкновенный осел. И к тому же с норовом.
Перейра, опустив глаза, молчал. Потом заключил:
– Так, стало быть, договорились: в городе, в субботу. Если фидалго не против, заглянем к нотариусу Гедесу, подпишем бумагу, и вся недолга. Фидалго, если я верно понял, будет у сестрицы Грасы?
– Да, непременно. Приходите туда к трем часам. Там же поговорим и с падре Соейро.
– Сеньора падре Соейро тоже что-то не видать.
– О, ваш падре Соейро перебежчик. В «Башню» его теперь не заманишь. Переселился в Оливейру, поближе к своей любимице Грасе… Значит, вы не выпьете даже рюмку портвейна? Ну, смотрите… Так до субботы, Перейра. И не забудьте расцеловать от меня внучонка.
– Душевно благодарен, сеньор фидалго. Нет, нет, как можно? Не надо меня провожать. Я тут не заплутаюсь. Пойду загляну на кухню, покалякаю с тетей Розой. А «Башню» я знаю как свои пять пальцев еще со времен вашего батюшки, царство ему небесное… Давно уж у меня руки чешутся навести в имении порядок, чтобы все было честь по чести, как я люблю!
Прихлебывая кофе, Гонсало предавался приятным мыслям о заключенной сделке, газету он так и не развернул. Лишних двести милрейсов дохода! И притом «Башня» окажется в опытных руках Перейры, настоящего хозяина, который самозабвенно любит землю, сумел превратить пустыри Монте-Агры в образцовое хозяйство, вырастить на них отличные хлеба, виноградники, сады… Мало того: Перейра состоятельный человек, сможет, при надобности, уплатить и вперед… Вот еще одно доказательство, что «Башня» – прекрасное имение: стал бы иначе прижимистый, никогда ничем не рискующий Перейра добиваться аренды?.. фидалго уже почти жалел, что не запросил тысячу двести милрейсов. В общем, хорошее выдалось утро! Да, собственно, никакого формального договора с Каско действительно не было. Поговорили так, вообще, о возможной аренде «Башни», собирались в дальнейшем обсудить поподробней новую цену – девятьсот пятьдесят милрейсов… Только и всего. Было бы чистейшим безумием, глупой щепетильностью, отказать из-за этого Перейре и отдать имение Каско, обыкновенному крестьянину, работающему по старинке, – из тех, что еле-еле наскребывают себе на пропитание и с каждым годом все больше портят и истощают землю!..
– Бенто, подай сигары! И скажи Жоакину, чтобы кобыла была оседлана к пяти – половине шестого. Поеду в «Фейтозу». Сегодня или никогда!








