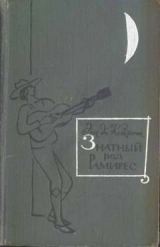
Текст книги "Знатный род Рамирес"
Автор книги: Жозе Мария Эса де Кейрош
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
Гонсало слушал внимательно, машинально вытирая руки. Рассказ произвел на него глубокое впечатление.
– Когда это случилось?
– Так я же говорю, когда сеньор доктор уезжал в Оливейру. Не то накануне, не то назавтра после дня рождения сеньоры доны Грасы.
Фидалго бросил полотенце, стал в задумчивости полировать ногти. Потом заметил с легким, неуверенным смешком:
– Стало быть, Саншесу Лусене все-таки пригодилось то, что он депутат от Вилла-Клары!..
Когда он был уже совсем одет и наполнял сигаретами портсигар (он решил провести вечер в Вилла-Кларе и побеседовать с Гоувейей), то еще раз обратился к Бенто, убиравшему белье:
– Значит, когда один разбойник крикнул: «Стой, это наш депутат!» – то второй опомнился и пустился наутек!.. Вот видишь! Выходит, быть депутатом что-нибудь да значит! Депутатов побаиваются! Депутат внушает больше уважения, чем потомок леонских королей!.. Ну ладно, пора ужинать…
За ужином, щедро смешивая «молодое» с «алваральоном», Гонсало не переставал думать о дерзкой выходке Каско. Впервые в истории Санта-Иренеи местный житель, крестьянин из деревни, прикорнувшей под крылышком у могучих сеньоров, которые столько веков держали в руках всю округу, посмел оскорбить фидалго из рода Рамиресов! И притом оскорбить дерзко, замахнуться дубиной – и это под самой стеной исторической башни!.. Отец, помнится, рассказывал, что еще при жизни прадедушки Инасио обитатели здешних мест, от Рамилде до Коринды, бухались на колени прямо на дорогу, когда мимо следовал сеньор из «Башни». Теперь же замахиваются на него серпом. И за что? За то лишь, что он не пожелал пожертвовать своим доходом в пользу наглого мужика… Во время пращура Труктезиндо смерд, покусившийся на сеньора, уже жарился бы, как кабан, на костре под бойницами крепости. Прадед Инасио сгноил бы его в темнице. И Каско тоже не должен уйти от кары! Безнаказанность только придаст ему духу; попадись ему фидалго еще раз на дороге, он, не долго думая, спустит курок. Нет! Конечно, длительного заключения не надо. Бедняга!.. Двое ребятишек, один еще грудной. Но все же следовало бы вызвать полицию, надеть на буяна наручники и доставить под конвоем в мэрию; ему бы очень не мешало посидеть в унылой приемной, из которой виднеются решетки на тюремных окнах, и выслушать выговор Гоувейи, сурового официального Гоувейи, застегнутого на все пуговицы. Надо же хоть окольным путем обезопасить себя!.. Что делать, если ты не депутат, если, несмотря на блестящий ум и громкое имя, ты значишь меньше какого-нибудь Саншеса Лусены, и все величие предков, создавших Португалию, бессильно остановить в воздухе кощунственную дубину…
Допив кофе, он послал Бенто сказать двум молодцам-огородникам, Рикардо и второму, долговязому, чтобы ждали его во дворе с оружием. Дело в том, что в башне еще сохранился оружейный зал – темное подвальное помещение, смежное с архивом, где были свалены в кучу помятые доспехи: кольчуги, мавританский щит, алебарды, палаши, пороховницы, самопалы образца 1820 года; в этой груде пыльного железа были и три новеньких ружья, из которых молодые крестьянские парни на ромарии святого Гонсало палили в честь своего славного патрона.
Сам же он засунул в карман револьвер, извлек из шкафа, стоявшего в коридоре, старую толстую палку со свинцовым набалдашником, захватил свисток и, снарядившись таким образом, отправился в Вилла-Клару, чувствуя в желудке приятную теплоту от смеси «молодого» с «алваральонским». Следом вышагивали оба батрака с охотничьими ружьями на плече. Фидалго решил побеседовать с сеньором председателем муниципального совета. Ночь окутала поля прохладой и мраком. Молодой месяц, пробившись сквозь пелену облаков, катился по вершинам холмов Валверде, точно колесо золотой колесницы. Подбитые гвоздями сапоги батраков мерно стучали по дороге. Гонсало шел на полшага впереди них, попыхивая сигарой и от души наслаждаясь этой прогулкой: по санта-иренейской дороге вновь шествовал Рамирес под охраной вооруженных вассалов!
Однако на окраине города стража стыдливо укрылась в таверне тетки Серены, а фидалго направился к зеленному базару, в табачную Симоэнса: перед тем как идти в клуб играть в карты, Гоувейя обычно заходил сюда купить коробку спичек или просто посидеть, вдумчиво поглядывая на разложенные под стеклом лотерейные таблицы. Но в этот вечер Гоувейи у Симоэнса не оказалось. Тогда фидалго пошел в клуб, где маркер от нечего делать играл сам с собой в нижней бильярдной; тут он узнал от какого-то лысого господина – сидевшего, развалясь, в расстегнутом жилете и жевавшего зубочистку, – что друг Гоувейя прихворнул.
– Пустяки, впрочем, воспаление в гортани… Ваша милость наверняка застанете его дома. Он не выходит на улицу с самого воскресенья.
Но другой господин, который примостился у столика, сплошь заставленного графинами, и помешивал кофе, заявил, что сеньор председатель этим вечером уже выходил на прогулку, укутавшись в шерстяной шарф. Его видели часов около пяти на Аморейре.
Гонсало в раздражении отправился на Калсадинью и вдруг, переходя Фонтанную площадь, увидел Гоувейю: тот стоял в дверях ярко освещенной галантерейной лавки Рамоса и разговаривал с каким-то толстым чернобородым господином в светлом плаще.
Чуть не проткнув Гонсало пальцем, Гоувейя спросил его с места в карьер:
– Слышал?
– Что?
– Ты ничего не знаешь?.. Саншес Лусена…
– Ну?
– Умер.
Фидалго уставился на Гоувейю, потом перевел взгляд на толстого господина; тот, пыхтя от напряжения, натягивал на руку тесную черную перчатку.
– Боже милосердный! Когда же?
– Сегодня утром. Внезапно. Angina pectoris[3]3
Грудная жаба (лат.).
[Закрыть], что-то сердечное. Скончался внезапно, в постели.
Они помолчали, глядя друг на друга, с трудом свыкаясь с новостью, поразившей всю Вилла-Клару. Наконец Гонсало выдавил:
– Только что, в «Башне», я говорил о бедняге! И – увы! – как всегда, без особого почтения.
– А я, – воскликнул Гоувейя, – отправил ему письмо. Длинное, по делу Мануэла Дуарте… Получил его мертвец!
– Хорошо сказано! – фыркнул дородный господин, продолжая воевать со своей перчаткой. – Письмо получил мертвец! Отлично сказано!
Фидалго задумчиво теребил ус.
– Постой!.. Сколько ему было лет?
Гоувейе всегда почему-то казалось, что Саншес – старик лет семидесяти, не меньше. Оказывается, ничего подобного! В декабре ему исполнилось всего шестьдесят. Но здоровье – никуда: изнуренный, разрушенный организм. Уже в преклонных годах он женился на молодой…
– И теперь красавица дона Ана – богатая бездетная вдова двадцати восьми лет, с состоянием в двести тысяч… Возможно, даже больше!
– Недурно, в виде наградных! – снова прохрипел толстяк, которому удалось-таки натянуть перчатку, и теперь он, постанывая и наливаясь от напряжения кровью, силился застегнуть ее.
Этот господин стеснял Гонсало; ему хотелось поделиться с Гоувейей нахлынувшими мыслями о политической вакансии, открывшейся в избирательном округе Вилла-Клары после внезапной смерти депутата. Не удержавшись, он схватил приятеля за пуговицу мундира и оттащил в укромную тень стены.
– Слушай, Гоувейя! Значит, теперь… а? Будут дополнительные выборы!.. Кто займет его место от нашего округа?
Гоувейя совершенно спокойно, нисколько не стесняясь толстого господина (который застегнул наконец перчатку и, закурив сигару, фамильярно направился к ним), коротко обрисовал положение:
– Теперь, друг мой, будет следующее: поскольку дядя Кавалейро – министр юстиции, а Жозе Эрнесто – министр внутренних дел, то депутатом от Вилла-Клары станет тот, на кого укажет Кавалейро. Это абсолютно ясно… Саншес Лусена сохранял кресло в Сан-Бенто по естественному порядку вещей: он был здесь самым старым и самым влиятельным историком. Второго такого человека здесь нет. Прекрасно! На чьей же кандидатуре сможет остановиться кабинет? Что остается за неимением естественной замены? Остается личная рекомендация Кавалейро. Дальше: ты сам знаешь, что Кавалейро великий блюститель традиций. Следовательно, депутатом от Вилла-Клары будет тот, кого он сочтет достойным заменить Саншеса Лусену, кто обладает таким же влиянием среди местных жителей, кто имеет здесь глубокие корни. По другому округу можно было бы выдвинуть какую-нибудь случайную фигуру, найти нужного человека прямо в Лиссабоне. Не то Вилла-Клара! Наш депутат должен быть из здешних, и притом из угодных Кавалейро. Можешь поверить, что сам Кавалейро сейчас ломает голову, на ком бы остановить выбор.
Толстяк заявил с важным видом, вынырнув из облаков сигарного дыма:
– Завтра загляну к нему, узнаю…
Но Гоувейя вдруг умолк и, потирая подбородок, устремил на Гонсало проницательный, поблескивающий взгляд – словно его осенила какая-то счастливая мысль, какое-то озарение. Затем он решительно обратился к толстому господину, поглаживавшему свою черную бороду.
– Так до завтра, почтеннейший сеньор, мы обо всем договорились. Жалобу вашу я передам господину советнику.
Он взял Гонсало под руку и нетерпеливо потащил за собой, не обращая более внимания на толстяка, который церемонно с ними раскланивался. Они зашагали по безмолвной Калсадинье.
– Слушай, Гонсало: вот отличный случай. Стоит тебе захотеть, и через несколько дней ты станешь депутатом от Вилла-Клары!
Фидалго из Башни замер на месте, – словно огненная звезда упала с неба к его ногам на плохо освещенную улицу!
– Слушай внимательно! – продолжал Гоувейя, выпуская руку фидалго, чтобы без помех развивать свою идею. – У тебя нет никаких обязательств по отношению к возрожденцам. Уже год как ты уехал из Коимбры и можешь совершенно свободно избрать свою политическую дорогу, поскольку всерьез ничем себя не связал. Две-три заметки в газетах – это пустяки…
– Но…
– Слушай, не перебивай! Ты хочешь вступить на политическую арену? Хочешь. Так не все ли равно, в качестве историка или возрожденца? И те и другие – добрые христиане, сторонники конституции… Важно начать и пробиться. Перед тобой распахивается запертая доселе дверь. Что может тебя остановить? Личные нелады с Кавалейро? Вздор!
Он взмахнул рукой, словно отметал подобное ребячество.
– Все это чистейший вздор. Между вами нет пролитой крови. По сути дела, вы даже вовсе не враги. Кавалейро – талантливый, приятный человек… Если хочешь знать, во всем нашем уезде нет никого, более родственного тебе по духу, по образованию, по манерам, по образу мыслей… Город наш маленький, все равно рано или поздно вы бы встретились и помирились. Так пусть это случится сейчас, когда примирение открывает тебе дорогу в парламент!.. Повторяю еще раз: депутатом от Вилла-Клары будет тот, кого поставит Кавалейро!
Фидалго из Башни с трудом перевел дух; волнение душило его. Он машинально снял шляпу и стал обмахивать запылавшее лицо; затем после короткого молчания сказал:
– Но ведь Кавалейро, как ты говоришь, весь во власти местных традиций… Ему нужен человек богатый, влиятельный…
Гоувейя даже приостановился и развел руками:
– А ты-то что же? Черт подери! Ты здешний помещик, у тебя «Башня», ты владелец «Трейшедо». Сестра твоя очень богата, куда богаче Лусены. Не буду уж говорить об имени, о происхождении… Помилуй! Рамиресы владеют Санта-Иренеей более двухсот лет,
Фидалго из Башни вскинул голову:
– Двухсот?! Почти тысячу лет!
– Ну вот видишь! Тысяча лет… Вы древнее королевства! Стало быть, ты знатнее короля! Ну, скажи сам, разве это не преимущество перед Лусеной? Не говоря уж об уме… О, черт!..
– Что с тобой?
– Горло!.. Опять запершило в горле. Я все-таки еще не совсем здоров…
И Гоувейя заторопился домой, делать полоскание; доктор Маседо вообще запретил ему гулять по вечерам.
Гонсало пошел проводить друга до дома. Поплотнее укутав шею шерстяным шарфом, Гоувейя подытожил:
– Депутатом от Вилла-Клары, Гонсалиньо, будет тот, кого захочет Кавалейро. А Кавалейро – и это совершенно точно – всем сердцем желает выдвинуть тебя, именно тебя, на политическое поприще. А потому, стоит тебе протянуть Кавалейро руку дружбы, и округ твой. Кавалейро хочет, очень хочет видеть тебя депутатом, Гонсалиньо.
– Так ли это, Жоан Гоувейя? Не знаю…
– Зато я знаю!
И, шагая по безлюдной Калсадинье, Жоан Гоувейя доверительно открыл фидалго, что Кавалейро только ищет предлога, чтобы возобновить дружбу со стариной Гонсало. Не далее как на прошлой неделе Кавалейро говорил буквально следующее: «Среди всего нашего поколения я не знаю ни одного человека с таким несомненным, прекрасным политическим будущим, как Гонсало. У него есть все: великолепные способности, имя, личное обаяние, дар слова… Все! Я по-прежнему искренне привязан к Гонсало и очень, очень желал бы видеть его в парламенте».
– Собственные его слова, дорогой мой!.. Он говорил это дней пять-шесть тому назад в Оливейре, когда мы сидели у него в саду за кофе.
Гонсало впитывал в себя эти речи. Лицо его пылало. С трудом подыскивая слова, как бы обнажая самую сокровенную глубь своей души, он проговорил:
– По правде говоря, я тоже по-прежнему люблю Кавалейро. А что до счетов между нами… Пора их забыть… Все это давно кончилось, ушло в небытие, все это теперь так же несущественно, как распри Горациев и Куриациев…* Ты прав: между нами нет пролитой крови. Да что! Мы вместе росли, жили как братья, одной жизнью… Поверишь ли, Гоувейя? Каждый раз, как я его вижу, у меня даже сердце щемит, так хочется подойти к нему и крикнуть: «Ах, Андре! Тучи давно развеялись, дай обнять тебя!» Право, если я до сих пор этого не сделал, то из одной только застенчивости… Все это одна застенчивость! А я, ей-богу, готов хоть сейчас помириться, от всей души! Только вот как он?.. Ведь, по правде говоря, Гоувейя, я в своих заметках не щадил Кавалейро!
Жоан Гоувейя остановился, вскинув трость на плечо и глядя на фидалго с добродушной усмешкой,
– В твоих заметках? А что, собственно, ты писал в своих заметках? Что сеньор губернатор деспот и донжуан?.. Дорогой мой друг! Всякому только лестно, если политические противники укоряют его тем, что он деспот и донжуан! Ты воображаешь, что обидел его? Да он был просто в восторге!
Фидалго с беспокойством возразил:
– Пожалуй! Но намеки на закрученные усы, на курчавый чубчик…
– Ах, Гонсалиньо! Красивые волнистые волосы и подкрученные усы – не такой уж изъян, чтобы их стыдиться! Напротив!.. Женщинам это нравится. Ты думал, что выставил Кавалейро в смешном свете? Ничуть не бывало! Просто-напросто ты оповестил всех дам и девиц, читающих «Портский вестник», что есть на свете красивый малый, занимающий должность губернатора в Оливейре.
И, остановившись последний раз (на другой стороне улицы, в угловом доме светились открытые окна его квартиры), Гоувейя внушительно поднял палец и заключил свою речь настойчивым советом:
– Гонсало Мендес Рамирес, завтра ты пошлешь к Торто за парой рысаков, сядешь в коляску, примчишься в город, вбежишь, раскрыв объятия, в кабинет к губернатору и крикнешь без лишних слов: «Андре, что было, то прошло, забудем все и обнимемся! К тому же у тебя пустует избирательный округ, так давай сюда и округ!» – и через пять-шесть недель ты, под колокольный звон, станешь сеньором депутатом от Вилла-Клары… Хочешь чаю?
– Нет, спасибо.
– Тогда прощай. Итак, берешь коляску и едешь в Оливейру. Понятно, нужен какой-нибудь предлог,
Фидалго заторопился.
– Предлог есть. То есть… Я хочу сказать, что мне и в самом деле нужно, необходимо было поговорить с Кавалейро или с ответственным секретарем – насчет здешнего арендатора. Собственно, из-за него я и тебя сегодня искал, Гоувейя!
И Фидалго довольно сбивчиво описал свое приключение на дороге, придав ему еще более мрачный колорит. Уже не одну неделю этот злополучный Каско не давал ему прохода, чтобы заполучить в аренду «Башню». Но Гонсало договорился с Перейрой Бразильцем, который предложил намного больше, чем мог выжать из себя Каско. Каско после этого шатался по всем тавернам, неистовствовал, угрожал, а вчера вечером вдруг вышел навстречу фидалго на уединенной лесной тропе и кинулся на него с дубиной! Слава богу, бандита удалось отогнать тростью. Но теперь над покоем и даже жизнью фидалго нависла оскорбительная тень этой дубины. Если будет совершено вторичное покушение, придется пристрелить Каско, как дикого зверя… Так что друг Гоувейя должен не откладывая вызвать этого болвана и хорошенько отчитать его, а может быть, даже подержать несколько часов под замком…
Сеньор председатель муниципального совета слушал его, ощупывая горло, потом отрезал:
– В Оливейру, дорогой мой, прямо в Оливейру! Дела о превентивном заключении решает губернатор.
Для такого бандита выговора маловато!.. Только тюрьма! Пусть посидит денек на хлебе и воде… Мне должны прислать письменное распоряжение. Ты действительно в опасности. Нельзя терять ни минуты!.. Завтра же садись в коляску и скачи к губернатору. Хотя бы в интересах общественного порядка!
И Гонсало, проникшись серьезностью дела, сдался на несокрушимый довод об общественном порядке.
– Хорошо, Жоан Гоувейя, пусть будет так!.. В самом деле, речь идет об общественном спокойствии. Завтра же я еду в Оливейру.
– Отлично, – заключил Гоувейя, дергая за колокольчик. – Кланяйся Кавалейро. Скажу одно; теперь нам остается только организовать образцовые выборы, с фейерверком, приветственными кликами и банкетом у Гаго… Так хочешь чаю? Нет? Значит, спокойной ночи. Да, вот что: через два года, Гонсало Мендес Рамирес, когда ты будешь министром, вспомни наш ночной разговор на Калсадинье в Вилла-Кларе!
Гонсало в задумчивости прошел мимо почтамта, обогнул белые ступени церкви св. Бенто, свернул, ничего не замечая и как бы в беспамятстве, в обсаженную акациями улицу, ведущую на кладбище. Здесь узкая Калсадинья взбегает на самую высокую точку города и вырывается на простор: перед фидалго открылись поля от Валверде до Кракеде, – и он почувствовал, что и его жизнь, тесная и пустая, как эта Калсадинья, вырывается на простор, где бушует ветер, где кипит увлекательная, бурная деятельность. Стоявшая на его пути глухая стена внезапно раскололась, перед ним зияет спасительная трещина! А по ту сторону – все заманчивые радости, все, к чему так тянуло его в Коимбре! Но… но невозможно пролезть в эту щель, не оцарапав свое достоинство, не поранив самолюбия. Как же быть?
Да, разумеется, раскрыв объятия этой скотине Кавалейро, он становится депутатом. Историки без возражений изберут того, на кого кивнет их вожак. Но это неизбежно повлечет за собой вторжение Кавалейро в дом Барроло… Иными словами, он пожертвует душевным покоем Грасиньи ради кресла во дворце Сан-Бенто… Нет! Любя сестру, он не может пойти на это! И он тяжело вздохнул, вперив взор в светлую пустынную улицу.
Однако не следует забывать, что в ближайшие три-четыре года возрожденцы не смогут прийти к власти. Значит, все эти годы ему придется прозябать тут, в провинциальной дыре, посвящать сонные досуги игре в пикет в местном клубе, праздно дымить сигаретой на балконе «Углового дома», похоронить все честолюбивые мечты, влачить душное, застойное существование, обрастать мхом вместе со своей полуразвалившейся, никому не нужной башней! Дьявольщина! Ведь это значит, что он трусливо изменит священному долгу перед собой и своим именем!.. Пробегут два-три года, бывшие товарищи по Коимбре займут государственные должности, встанут во главе банков, пройдут в парламент… один-другой, из тех что посмелей или поуслужливей, получит министерские портфели. И только он, при своих способностях, при столь блестящем историческом прошлом, останется за бортом, всеми забытый, брюзгливый, точно нищий хромец, стоящий у дороги в день праздничного шествия. И чего ради? Из ребяческого страха подпустить усы Кавалейро к беззащитным губам Грасиньи?.. В конце концов подобные опасения просто оскорбительны для сестры. Грязно оскорбительны! Во всей Португалии нет второй женщины, столь чистой в помыслах, столь взыскательной к себе. В ее хрупком теле живет героический дух Рамиресов… Его превосходительство может сколько угодно встряхивать своим неотразимым чубчиком и бросать пламенные взоры – Грасинья будет недоступна, несокрушима, словно бесполая или мраморная. Нет, что до Грасиньи, то он не побоялся бы распахнуть перед Кавалейро все двери «Углового дома» – вплоть до ее будуара! – и оставить Грасинью наедине с искусителем… Да и, наконец, она не девица, не вдова. Слава богу, в доме на Королевской площади есть хозяин, муж – молодой, сильный мужчина. Ему, и только ему, следует решать, кого он пустит в свой дом, ему одному надлежит блюсти чистоту и мир семейного очага! Нет! Все эти глупые опасения за Грасинью, за правдивую, гордую Грасинью, – просто безумие и кощунство. Он может отмести свои страхи с улыбкой. И на безмолвной светлой от луны улице Гонсало Мендес Рамирес одним взмахом руки отмел последние сомнения.
Теперь оставалось только смириться со своим собственным унижением. Уже не один год и в Коимбре, и в Вилла-Кларе, и в Оливейре, устно, в разговорах с друзьями, и письменно, в «Портском вестнике» он шумно издевался над Кавалейро. И вдруг теперь, изящно изогнувшись, будет карабкаться на крыльцо губернаторской канцелярии, лепеча: «Peccavi, mea culpa, mea maxima culpa» *. Он опозорит себя на весь город! «Фидалго из Башни что-то понадобилось, и вот он тут как тут!» Какой триумф для Кавалейро! Единственный человек во всем округе, не желавший склониться, единственный, кто боролся, единственный, кто говорил правду в глаза, – вдруг умолкнет и послушно примкнет к подхалимствующей свите его превосходительства!.. Неприятно. Но, черт подери, интересы родины превыше всего! И таким убедительным показался ему этот довод, что он прокричал вслух на безмолвной улице: «Служи родине!»
Да, родина!.. Сколько полезного еще можно предложить и осуществить! В Коимбре, на пятом курсе, он немало размышлял о народном просвещении: следовало в корне изменить всю систему обучения, поставив его на службу промышленности, подчинив нуждам колониальной политики; отменить латынь, упразднить изящную словесность, воспитать новый народ – хлопотливую нацию ремесленников и исследователей… Недаром все его друзья, распределяя в мечтах министерские портфели, единодушно восклицали: «Народное просвещение возьмет на себя Гонсало!» Силой идей, силой накопленных знаний он должен теперь послужить родной стране, как некогда его славные предки служили ей силой оружия. Ради своей страны и во имя гражданского долга он обязан пожертвовать личным самолюбием…
Да и кто знает? Ведь между ним и Кавалейро живет, хоть и загнанный в темный угол, но все-таки живет целый мир общих воспоминаний, мир давней дружбы; возможно, прошлое оживет при новой встрече, соединит обоих – и уже навсегда – в дружеском объятии, и старые обиды отлетят прочь, как отряхнутая пыль… Впрочем, к чему эти мечтания? Зачем снова пережевывать одно и то же? Дело не в этом, а в том, что завтра ему нужно, необходимо ехать в Оливейру и подать жалобу на Каско. Ради своего труда, ради своего покоя он должен заняться этим делом безотлагательно. Мыслимо ли работать над повестью и даже просто ходить по улице, зная, что где-то рядом, таясь в темных закоулках, бродит убийца? Не может же он, воскресив обычаи предков, колесить по округе с вооруженной охраной! Значит, Каско должен быть укрощен, обезврежен, а для этого надо, в интересах общественного порядка, обратиться к властям. А когда он окажется в кабинете Кавалейро, перед столом Кавалейро – там будет видно!
Приняв это решение, Фидалго из Башни приостановился и огляделся вокруг. Увлеченный жарким потоком мыслей, он не заметил, как дошел до самой ограды городского кладбища, залитого белым, точно саван, сиянием луны. В глубине тополевой аллеи, разрезавшей погост пополам и чуть белевшей в сумрачном полусвете, возвышалось большое распятие: истерзанный, бескровный Христос поник на черном кресте; сейчас он казался особенно горестным и бледным в ночном безмолвии, освещенный мигавшей у его ног лампадкой. Вокруг кипарисы, острые тени кипарисов, белые пятна надгробий, покосившиеся кресты бедных часовен – мертвенный покой над обителью мертвых, а в вышине неподвижная бледная луна. Фидалго почувствовал, что по спине его пробежал озноб, дрожь страха перед Христом, перед могильными плитами, перед покойниками, луной, одиночеством. Он резко повернулся и побежал; вскоре показались первые дома Калсадиньи, и тут уже он полетел, точно камень из пращи. Когда фидалго добрался до Фонтанной площади, на шпиле мэрии кричала сова, навевая уныние на затихшую Вилла-Клару, Вконец расстроенный, Гонсало пошел в таверну Серены и вызвал своих телохранителей, коротавших время с засаленной колодой карт. С ними он вновь прошел через весь город к каретному заведению Торто, чтобы заказать на завтра к девяти часам утра пару мышастых лошадок.
Оконце в двери настороженно приотворилось, и жена Торто, не отодвигая щеколды, нерешительно прохныкала:
– Ох, господи, не знаю, как и быть… На девять его уж подрядили. Фидалго не осерчает, если он подаст лошадей к одиннадцати?
– Я сказал к девяти! – рявкнул Гонсало.
Ему хотелось пораньше проскользнуть в кабинет Кавалейро, чтобы уклониться от любопытства местного бомонда, который после полудня стекался на площадь и праздно толпился под аркадой.
На следующее утро в половине десятого Гонсало только садился бриться перед зеркалом на золоченых подпорках. Всю ночь до самого рассвета он метался по комнате, захваченный круговоротом надежд и опасений. Затем решил воспользоваться случаем и заодно завезти в «Фейтозу» карточку с выражением соболезнования прекрасной вдове доне Ане Лусене. В полдень, проголодавшись, он закусил у Вендиньи, пока лошади отдыхали. Пробило уже половина третьего, когда он прибыл наконец в Оливейру и вылез из коляски у въезда в старинный монастырь Сан-Домингос, где его отец в бытность губернатором пышно разместил свою канцелярию.
В этот час в прохладной тени аркады, обрамляющей одну сторону площади (бывшей Ювелирной, ныне площади Свободы), все праздные господа, «сливки общества», кейфовали, развалясь на плетеных креслах у входа в табачную «Элегант» и в магазин Леона. Гонсало предусмотрительно опустил зеленые шторы коляски. Но едва он успел юркнуть во двор канцелярии губернатора, где со времен святых отцов сохранились монументальные монастырские скамьи, как увидел, что навстречу ему сходит по лестнице кузен Жозе Мендонса – подтянутый офицер с короткими усиками и следами оспы на лице. Увидя Фидалго из Башни, капитан Мендонса крайне удивился:
– Ты, Гонсалиньо? В цилиндре! Черт побери… Что-нибудь случилось?
Фидалго не струсил и прямо сознался, что приехал в Санта-Иренею переговорить с Андре Кавалейро.
– Что, ваш великий человек у себя?
Кузен отшатнулся почти в испуге:
– С Кавалейро?! Ты приехал разговаривать с Кавалейро?! Матерь божия… Да это второе разрушение Трои!
Гонсало, краснея, стал отшучиваться. Нет! Никакой эпической катастрофы не случилось… Если старина Мендонса желает, он расскажет, что побудило его искать беседы с его превосходительством. Крестьянин из Бравайса, некто Каско, разозлившись на отказ отдать ему в аренду «Башню», шатается ночами по Вилла-Кларе и грозится убить фидалго. Фидалго же не решается прибегнуть к «скорому и справедливому суду» по способу предков – и потому смиренно ходатайствует перед верховной властью, чтобы Гоувейе отдали распоряжение держать бравайского разбойника в рамках закона и страха божия.
– Вот и все. Дело пустяковое, но затрагивает общественный порядок… Значит, ваша знаменитость у себя в кабинете? Ну что ж, пока до свидания, Зезиньо. Кузина здорова? Я, само собой, ужинаю в «Угловом доме». Заходи!
Но капитан словно прирос к ступенькам. Неторопливо раскрывая кожаный портсигар, он проговорил:
– Что скажешь о нашей главной новости? Я имею в виду несчастного Саншеса Лусену.
Да, Гонсало уже знает, ему рассказывали в клубе. Сердечный приступ, видимо.
Мендонса зажег сигарету, затянулся.
– Внезапная смерть от аневризмы; он как раз читал «Новости»… Представь, всего три дня, как мы с Марикой ужинали в «Фейтозе». Я играл с доной Аной в четыре руки квартет из «Риголетто». Он чувствовал себя прекрасно, разговаривал, пил коньяк…
Гонсало сокрушенно покачал головой.
– Бедняга… Не так давно я тоже видел его – у Святого родника; приятный, благовоспитанный человек… Значит, теперь дона Ана свободна.
– И депутатская скамья тоже!
– Ну, скамья! – пренебрежительно усмехнулся Фидалго из Башни. – По-моему, вдова гораздо заманчивей. Венера с двухсоттысячным состоянием. Жаль только, что у нее такой противный голос.
Но кузен Мендонса запротестовал с большим жаром:
– Нет, нет! В домашнем кругу она оставляет эту напыщенную манеру… Не думай!.. Я бы сказал даже, что у нее приятный, вполне естественный тембр… Зато, Гонсалиньо, какая фигура! Цвет лица!
– Да, полагаю, в траурном наряде она ослепительна! – заключил Гонсало. – Так до встречи; приходи в «Угловой дом». А я бегу припасть к стопам Кавалейро, чтобы взял меня под свое покровительство!
Он встряхнул руку Мендонсы и взбежал по каменной лестнице. Капитан же свернул в переулок Сан-Домингос, размышляя об этой странной истории про угрозы, ружья и все больше проникаясь сомнением. «Чепуха! Тут замешана политика!» Когда спустя час он вернулся на площадь и увидел, что коляска из «Башни» по-прежнему стоит у подъезда, он устремился под аркаду и поделился новостью с братьями Вилла Велья, которые стояли по обе стороны входа в табачную «Элегант», задумчиво прислонясь к косякам.
– Угадайте, кто сейчас сидит у губернатора? Гонсало Рамирес! С Кавалейро!..
Все общество, разом проснувшись, зашевелилось на потрепанных плетеных креслах, куда их усадили сонливая тишина и безделье летнего вечера. Мендонса, захлебываясь от возбуждения, рассказывал, что с половины третьего Гонсало Мендес Рамирес, «сам, собственной персоной», сидит с Кавалейро в канцелярии: они заперлись и тайно совещаются! Изумление и любопытство граждан было возбуждено в высочайшей степени; все повскакали с мест и высунулись из-под аркады, чтобы получше разглядеть, что делается на круглой монастырской веранде, где как раз и находился, кабинет его превосходительства.
В этот самый миг Жозе Барроло, в белых рейтузах и с белой розой в бутоньерке, выехал верхом из-за угла Торговой улицы. Все бросились к нему: он мог разгадать загадку.
– Эй, Барроло!
– Барролиньо, давай-ка сюда!
– Слезай скорей, есть важное дело.
Барроло, обогнув площадь, подъехал к аркаде; друзья стеснились вокруг его лошади и оглушили его потрясающей новостью. Гонсало и Кавалейро целый час сидят в кабинете и секретничают! Коляска фидалго ждет у подъезда, лошади даже задремали! А в соборе скоро зазвонят к вечерне!








