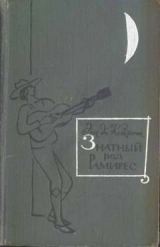
Текст книги "Знатный род Рамирес"
Автор книги: Жозе Мария Эса де Кейрош
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
– Друг! Позаботься о теле моего сына, а душу – видит бог – я успокою до захода солнца!
Он гневно отстранил рыцарей, оцепеневших от испуга, и деревянная лестница заскрипела под его тяжелыми шагами.
В этот самый миг мертвый Лоуренсо Рамирес возвращался в отчий дом под охраной прекрасного Леонела и рыжебородого Мендо; лица их воспалились от слез, губы хрипло шептали проклятия роду Байона. За ними, спотыкаясь и причитая, тащился Ордоньо и, прижимая к груди осиротевший меч, покрывал его поцелуями, словно пытался утешить. У самого рва, в прозрачной тени орешника, стоял грубый помост – с него по воскресеньям Лоуренсо и начальник арбалетчиков судили состязания по стрельбе из лука и щедро раздавали победителям медовые ковриги и ковши вина. На этот помост положили тело и отошли прочь, истово крестясь. Один из людей рыжебородого Мендо, обеспокоенный участью души, не получившей отпущения, поспешил в часовню за братом Мунсио. Другие, рассыпавшись вокруг стены, отчаянно взывали к лекарю, обитавшему, словно филин, в небольшой заброшенной башне. Но кинжал Байона разил насмерть, и никто не вернул бы к жизни отважного Лоуренсо, цвет и славу рыцарства по всей земле Риба-Кавадо. Как страшен и жалок был он на смертном ложе! Лицо выпачкано в земле, на горле запеклась черная кровь, кольца кольчуги впились в истерзанное тело, и грязью покрыта посиневшая нога, изувеченная при Канта-Педре.
Медленно, не сгибаясь шел к нему Труктезиндо. Погасшие уголья его очей вспыхнули еще ярче, когда в печальной тишине он приблизился к телу. Перед помостом он встал на колени, взял безжизненно повисшую руку и, приблизив лицо к лицу сына, покрытому грязью и кровью, проговорил что-то так торжественно, словно не прощался, а давал клятву. Медленно поцеловал он окровавленную голову, и луч солнца, сверкнув сквозь листву орешника, позлатил кудри мертвеца. Старик поднялся, простер руку, словно вбирая в себя одного всю мощь своего рода, и воскликнул:
– А теперь – на коней, сеньоры! Мы отомстим за него!
По всем углам вокруг замка уже сверкало оружие. Звенели резкие слова команды, и строились в ряды арбалетчики, лучники, пращники, сбегавшие лавиной с гребня стены. Слуги и конюшие поспешно приторачивали к спинам мулов лари и бурдюки; у низких кухонных дверей пешие ратники осушали наспех последний ковш пива. А ближе к палисаду закованные в панцирь сеньоры тяжело взбирались в седла, опираясь на руку оруженосцев, инфансоны же и ленники подносили копья, помогали вставить их в подпорку и свистом подзывали собак.
Наконец Афонсо Гомес, знаменосец, вынул из чехла и развернул на ветру алое знамя, на котором черный ястреб растопырил страшные когти. Боевой клич адаила * пронесся по двору – алб! алб! С каменной приступки у ворот брат Мунсио благословлял воинов дрожащею, худой рукою. Труктезиндо уже верхом на вороном скакуне принял из рук Ордоньо меч, с которым так страшно расстался, и, простирая сверкающее лезвие к высоким башням замка, словно к алтарю храма, воскликнул:
– Стены Санта-Иренеи! Я не увижу вас никогда, если через три дня, к заходу солнца, в жилах негодяя Байона останется хоть капля крови!
И, миновав палисад, воины двинулись за развернутым знаменем, в то время как на башне, в сверкании августовского солнца, колокол звонил по усопшим.
* * *
Под вечер, на веранде, усевшись в кресло, Гонсало перечитал кровавую главу, над которой бился целую неделю, и подумал: «Написано сильно!»
Ему захотелось без промедления снискать заслуженную славу; а для этого нужно было показать Грасинье и падре Соейро три написанные главы, прежде чем отослать их в «Анналы». В сущности, это действительно было бы полезно – ведь падре Соейро, образованный археолог, может внести новые штрихи, которые оживят еще больше повествование о древнем замке и его грозных властителях. Гонсало решил не откладывая в долгий ящик ехать в Оливейру, чтобы завтра же утром представить свою повесть на суд падре Соейро, а потом доверить ее нотариусу доны Арминды Вьегас, который и перепишет рукопись своим знаменитым почерком, превосходящим (особенно по части заглавных букв) почерк самого писаря святейшей канцелярии.
Он обтирал запыленную сафьяновую папку, в которую думал уложить свой драгоценный труд, когда в библиотеке появился Бенто с ивовой корзиной в руках, покрытой кружевной салфеткой.
– Вам подарок.
– Подарок?.. От кого?
– Из «Фейтозы», сеньоры прислали.
– Браво!
– Там еще письмо есть, к салфетке приколото.
С каким волнением разрывал он конверт! Но, несмотря на сургучные печати с гордым гербом, там лежала всего лишь визитная карточка кузины Марии, на которой было небрежно написано карандашом: «Я рассказала за завтраком, что вы любите персики, кузен, особенно в белом вине, и Аника вздумала послать вам корзинку этих персиков из «Фейтозы», которые, как вам известно, славятся по всей стране. Преданная вам…»
Гонсало тотчас вообразил, что на дне корзины, под персиками, спрятана записочка от доны Аны.
– Так. Персики… Поставь вот тут, на стул.
– Я лучше в буфет поставлю, сеньор доктор, на полочку…
– Сказано, ставь на стул!
Не успел Бенто закрыть за собой дверь, как фидалго, постелив на пол салфетку, принялся бережно перекладывать на нее прекрасные плоды. Вся библиотека заблагоухала персиками. На дне корзины не было ничего, кроме виноградных листьев. Несколько разочарованный, Гонсало понюхал персик и решил так: она сама собирала персики, сама срезала виноградные листья, брала салфетку из комода, и потому это безмолвное, благоуханное послание может считаться лирическим. Сидя на ковре, он съел персик, а остальные сложил в корзину, чтобы отвезти Грасинье.
Однако назавтра, в два, когда кабриолет, запряженный парой, уже стоял у крыльца, а Гонсало только что натянул перчатки, явился нежданный гость – виконт де Рио Мансо. Снимая перчатки, фидалго думал: «Рио Мансо! Чего от меня хочет этот бирюк?» В гостиной виконт сел на край обитого зеленым бархатом дивана и, потирая колени, сказал, что по дороге из Вилла-Клары он увидел башню и, преодолев свою давнюю застенчивость, решился наконец засвидетельствовать свое почтение сеньору Гонсало Рамиресу. Но не только этот приятный долг привел его сюда; ему стало известно, что фидалго выставляет свою кандидатуру, и потому он спешит сообщить, что и помощь и голоса прихода Канта-Педра к его услугам…
Гонсало растерянно улыбался, кланялся, теребил усы. Гость вполне понимал эту растерянность – ведь сеньор Гонсало Рамирес всегда считал его заядлым возрождением! Но дело в том, что виконт принадлежит к поколению – ныне заметно поредевшему, – которое ставит признательность выше политики. Он всегда питал симпатию к сеньору Гонсало Рамиресу (чей талант, любезность, доброта известны всей округе), но сверх того он в долгу перед ним, и долг этот еще не выплачен по его, виконта, природной застенчивости…
– Вы не понимаете, сеньор Гонсало Мендес? Вы забыли?
– Простите, сеньор виконт, никак не припомню…
Однажды сеньор Гонсало Мендес проезжал верхом мимо его усадьбы «Варандинья», а в это время внучка виконта играла в саду на той террасе, откуда свешивается магнолия, и уронила мячик на дорогу. Сеньор Гонсало Мендес Рамирес не замедлил спешиться, поднял с улыбкой мячик и, чтобы вернуть его девчушке, выглядывавшей из-за ограды, снова вскочил в седло – и как легко, изящно!
– Вы не помните, сеньор?
– Да, да, теперь припоминаю…
На каменной ограде террасы стояла ваза с гвоздиками. Сеньор Гонсало Мендес, пошутив с девочкой (которая, слава богу, не унаследовала дедовской застенчивости!), попросил у нее гвоздику, и она вручила ему цветок важно, как настоящая дама. Виконт видел все это из окна и думал: «Фидалго – истинный фидалго, а как любезен, – рыцарь!» Нет, нет, не краснейте, прошу вас, и не смейтесь так! Любезность была немалая, а для него, деда, – поистине бесценная! И ведь мячиком дело не кончилось…
– Вы не помните, сеньор Гонсало Мендес Рамирес?
– Помню, сеньор виконт, теперь вспомнил…
На следующий день сеньор Гонсало Мендес Рамирес послал им прелестную корзину роз и в записочке пошутил с таким вкусом: «В благодарность за гвоздику – розы сеньоре доне Розе».
Гонсало чуть не подпрыгнул от удовольствия:
– Помню, помню, сеньор виконт! Очень хорошо помню!
И вот с того дня виконт ждал случая выразить сеньору Гонсало Мендесу Рамиресу свою признательность и симпатию. Но что поделаешь! Он от природы застенчив, живет уединенно… Сегодня же, в Вилла-Кларе, Гоувейя сказал ему, что фидалго выставляет свою кандидатуру. В исходе выборов сомневаться не приходится – всем известно, как влиятелен сеньор Рамирес, не говоря уж о поддержке правительства! Но ему, виконту, все же подумалось: «Наконец-то долгожданный случай!» И вот он здесь, чтобы предложить фидалго помощь и голоса прихода Канта-Педры.
Гонсало был тронут.
– Право, виконт, ничто не могло бы так обрадовать меня, как ваше предложение, такое искреннее, такое…
– Это я должен радоваться, сеньор Гонсало Мендес Рамирес. И прошу, ни слова больше о такой малости! Какое прекрасное у вас поместье!
Виконт упомянул вскользь, что давно мечтал увидеть вблизи прославленную башню, превосходящую древностью самое Португалию, и Гонсало повел его в сад. Держа на плече зонтик, виконт замер перед башней, а позже заметил, что, хоть он и либерал, испытывает почтение к древнему роду. Узнавши, что «Башню» арендует Перейра, виконт позавидовал сеньору Рамиресу и поздравил его с прилежным и достойным арендатором… У калитки ждал шарабан виконта, запряженный сытыми мулами. Гонсало восхитился ими; отворяя калитку, он попросил сеньора виконта поцеловать за него ручку сеньоры доны Розы. Растроганный виконт признался, что лелеет смелую мечту: может быть, когда-нибудь сеньор Гонсало Мендес Рамирес посетит его усадьбу и ближе познакомится за завтраком с девочкой, уронившей мячик и подарившей ему гвоздику.
– С превеликим удовольствием! И научу сеньору дону Розу старинной португальской игре в мяч, если она ее не знает.
Сеньор виконт попрощался, разнеженно улыбаясь и прижимая руку к сердцу.
Поднимаясь к себе, Гонсало бормотал: «Господи, какой прекрасный человек! И как щедр – платит за розы голосами! Вот как бывает – сделаешь самую малость, а заработаешь себе друга… Непременно на этой же неделе поеду к ним завтракать! Очаровательный старик!»
В таком счастливом расположении духа он снес в кабриолет сафьяновую папку и лирическую корзину доны Аны, потом закурил сигару, уселся на подушках, схватил поводья и пустил веселой рысцой запряженных парой белых коней.
На Королевской площади, не выходя из кабриолета, он справился о хозяевах у Жоакина-привратника. Они оказались в добром здравии. Сеньор Жозе Барроло уехал с утра к сеньору барону дас Маржес и вернется к вечеру…
– А сеньор падре Соейро?
– Сеньор падре Соейро, кажется, пошли к сеньоре доне Арминде.
– А сеньора дона Граса?
– Сеньора дона Граса сейчас вышли в сад. В часовню, надо полагать.
– Так. Возьми эту корзину и скажи Жоакину-буфетчику, чтоб он поставил ее на стол, прямо так, с листьями. А ко мне в комнату вели принести горячей воды.
Стенные часы в вестибюле лениво простонали пять. В особняке было чисто и тихо. После пыльной дороги Гонсало была особенно приятна та свежесть, что вливалась в четыре окна его комнаты, выходившие в омытый влагою сад, за которым виднелась ограда монастыря св. Моники. Он бережно положил в ящик бюро драгоценную сафьяновую папку. Пучеглазая горничная принесла кувшин горячей воды, и фидалго, как всегда, пошутил, намекнув на бравых сержантов кавалерии; дело в том, что казарма примыкала к прачечной и потому вся женская прислуга с превеликим рвением стирала белье. Затем, неторопливо сменив пропыленную одежду, он вышел на балкон и, насвистывая, стал смотреть на тихую улицу Ткачих. У св. Моники зазвонили к обедне. Гонсало заскучал в одиночестве и решил пройти садом в церквушку, чтобы застать Грасинью за ее благочестивым занятием…
Внизу, в коридоре, он встретил Жоакина-буфетчика.
– Хозяин не будет к обеду?
– Сеньор Барроло поехал к сеньору барону Маржесу, – там у дочки именины. Они к вечеру приедут…
Выйдя в сад, фидалго замешкался у клумбы и составил бутоньерку из некрупных цветов. Потом он обогнул теплицу, посмеиваясь, как обычно, над застекленной, окованной железом дверью с затейливой монограммой Барроло, и свернул в аллейку, ведущую к ручью… По этой тихой аллейке, под сплетенными ветвями лавров, он дошел до крохотного ручья, с сонным журчанием струившегося в круглый бассейн, окруженный каменными скамьями и цветущими кустами. На широком краю бассейна стояли пузатые фарфоровые вазы, украшенные ветвистым гербом. Накануне или даже сегодня утром бассейн чистили – в прозрачной воде, над светлыми плитами весело сновали розоватые рыбки. Гонсало распугал их, поболтавши в воде тростью. Отсюда, сидя на краю бассейна, он видел в глубине обсаженной георгинами аллейки так называемый бельведер – маленький павильон XVIII века, в греческом духе, линяло-розовый, с толстым купидоном на куполе, окошками в стиле рококо и увитыми жасмином шоколадными полуколонками. Как всегда, Гонсало сорвал несколько листочков лимона – он любил, чтобы руки пахли цедрой, – и пошел к бельведеру меж двумя шпалерами георгин. Щегольские лакированные ботинки бесшумно ступали по свежему, мягкому песку. По тенистой и тихой аллейке он дошел до павильона; одно окно было неплотно притворено, хотя и задернуто зеленым жалюзи. Под этим окном начиналась лесенка, по которой можно было спуститься из высокого сада на крутую улицу Ткачих, почти к самой часовне женского монастыря. Гонсало не спеша ступил на первую ступеньку, как вдруг сквозь створки жалюзи услышал шорох и взволнованный шепот. Он улыбнулся, должно быть, одна из горничных уединилась в «храме любви» с каким-нибудь неотразимым сержантом… Но нет, не может быть – ведь только что Грасинья проходила под окном, сворачивая на эту лестницу по пути в часовню. И тут, словно кинжал, его пронзила новая мысль, такая мучительная, что он отшатнулся от бельведера. Но острое желание узнать правду превозмогло страх. Он подкрался поближе к окну, точно шпион; в бельведере царило молчание, и он испугался, что громкие удары сердца выдадут его. Господи! Снова послышался шепот, еще поспешней, еще сбивчивей. Кто-то лепетал, молил: «Нет, нет! Какое безумие!» Кто-то настаивал нетерпеливо и пылко: «Да, милая, да!» Он узнал обоих – узнал так ясно, словно вверх взвились жалюзи и яркий свет сада хлынул в павильон. Грасинья! Кавалейро!
Страшный стыд охватил его, – а вдруг они увидят, как он притаился здесь, поймут, что их позор открыт! Втянув голову в плечи, едва касаясь подошвами мелкого песка, он побежал по аллейке, пронесся мимо ручья, нырнул в тень лавров, стремглав обогнул теплицу и перевел дух только в вестибюле. Но и здесь, в тиши особняка, ему слышался страстный шепот: «Нет, нет! Какое безумие!» – «Да, милая, да!»
Словно спасаясь от погони, он скользнул тенью по пустым залам, почти скатился с лестницы и выскочил из дому, дрожа при мысли, что Жоакин-привратник заметит его. На площади, у солнечных часов, он остановился. Но шепот, как ветер, гулял по каменным плитам, свистел в бородах апостолов на портале св. Матфея, в черепице канатной мастерской. «Нет, нет! Какое безумие!» – «Да, милая, да!» Гонсало отчаянно захотелось убежать подальше, подальше от этой площади, особняка, города, уйти от этого позора. А кабриолет? Черт с ним, возьмет коляску у Масиела, благо его конюшни далеко, почти за городом. Прижимаясь к невысоким стенам бедных улиц, он добежал до конюшни и заказал закрытую карету.
Дожидаясь на скамейке, он увидел, что по дороге тащится тяжелый воз, где среди ветхого скарба и кухонной утвари возвышается огромный тюфяк с расплывшимся пятном. На ум ему сразу пришел диван черного дерева, который стоял в бельведере – обширный, полосатый, скрипучий… Шепот возник снова, стал громче, зашумел над домишками, над оградой питомника, над потревоженным городом: «Нет, нет! Какое безумие!» – «Да, милая, да!»
Гонсало вскочил и отчаянно крикнул:
– А, черт! Скоро вы там?
– Сейчас, сейчас, фидалго! – ответили из конюшни.
На башенных часах пробило семь, когда он прыгнул в карету, спустил шторки и забился в угол. Ему казалось, что мир рушится, падают сильные из сильных; и даже его башня, что древнее самого королевства, раскололась надвое, выставив напоказ груды мусора и грязного белья.

IX
У дверей кухни, потрясая вскрытым конвертом, Гонсало сердито кричал на Розу:
– Роза! Сколько раз я говорил, что не надо писать Грасинье! Что за упрямство! Неужели мы не можем сами устроить малютку без этих жалоб? Слава богу, в «Башне» всегда найдется место для сиротки.
Дело в том, что скончалась Крйспола – несчастная вдова, жившая неподалеку. Она слегла еще на пасху, а теперь оставила сиротами двух мальчиков и трех девочек. Гонсало, у которого в «Башне» и вправду хватало места, помог бедным детям одеться в опрятный траур и занялся их устройством. Старшая девочка (тоже Крйспола), вечно торчавшая на кухне, стала платной помощницей Розы. Старшего мальчика, двенадцати лет, смышленого и ловкого, он обрядил в курточку с желтыми пуговицами и назначил «рассыльным». Другой был увалень, но умел и любил плотничать, и Гонсало, с помощью тетки Лоуредо, пристроил его в столице в мастерскую св. Иосифа. Второй девочкой занялась мать Мануэла Дуарте, сердобольная женщина, которая жила в цветущей усадьбе недалеко от «Трейшедо» и потому считала себя и сына «вассалами» горячо любимого ею Фидалго из Башни. Но самую маленькую и слабенькую пристроить не удалось; и Роза решила, «что сеньора дона Мария да Граса пожалеет бедную сиротку…». Гонсало сухо отрезал: «Из-за куска хлеба не стоит беспокоить славный град Оливейру!» Но Роза непременно желала, чтобы такой нежненькой, беленькой малюточкой занялась настоящая сеньора, и написала Грасинье (вернее, продиктовала – писал Бенто, старательно и красиво) пространное письмо, в котором излагала горестную историю Крисполы и расточала похвалы милосердию сеньора доктора. Пылкий, хотя и запоздалый ответ Грасиньи, умолявшей «непременно прислать малютку», и привел ее брата в такое раздражение.
С того ужасного дня какое-то странное чувство – смесь гадливости с оскорбленным целомудрием – удерживало Гонсало от всяких сношений с «Угловым домом», словно грязь, таившаяся в розовых стенах бельведера, осквернила и сад, и особняк, и Королевскую площадь, и всю Оливейру, и теперь ради нравственной чистоплотности надо было держаться подальше от зачумленных мест, где и сердце его, и гордость задыхались от смрада… Вскоре после своего бегства он получил от доброго Барроло встревоженное письмо: «Что это значит? Почему ты не подождал? Вернулся я от Маржеса и даже расстроился. А с Грасиньей что делается! Мы и узнали-то о твоем отъезде случайно, от кучера, что служит у Масиела. Едим твои персики – и ничего не понимаем!..» Гонсало ответил кратко: «Дела». Потом он вспомнил, что оставил в ящике бюро свою рукопись, и послал мальчика с почти тайным поручением к падре Соейро, «чтоб завернул хорошенько папку и вручил рассыльному, а хозяину и хозяйке не говорил ни слова». Молчаливое отчуждение легло по его вине между «Башней» и «Угловым домом».
Он жил уединенно – не выезжал даже в Вилла-Клару из страха, что о его позоре уже говорят в табачной лавке или у Рамоса, и сердился на всех и вся. Сердился на сестру за то, что, забыв стыд, не страшась пересудов, растоптав честь Рамиресов легко и бездумно, как топчут цветочный узор ковра, она бегом побежала в бельведер, едва усатый соблазнитель поманил ее надушенным платком. Сердился на Барроло, этого толстого кретина, который со свойственным ему дурацким рвением восхвалял Кавалейро, приваживал Кавалейро, выискивал в погребе вино получше, чтоб разгорячить кровь Кавалейро, взбивал подушки на всех канапе, чтоб Кавалейро было удобней, покуривая сигару, тешить взоры красотой Грасиньи! Наконец, он сердился на самого себя за то, что ради низменного честолюбия снес единственную преграду между своей сестрой и этим напомаженным фатом, забывая о вражде, о праведном гневе, которому был верен со времен Коимбры. Все трое виноваты, непростительно виноваты!
Наконец, утомившись одиночеством, он рискнул поехать в Вилла-Клару. Оказалось, что ни в клубе, ни у Рамоса, ни в табачной лавке никто ничего не знал о романе Грасиньи. И мягкое его сердце, избавившись от опасений и тревог, тотчас же склонилось к милосердному всепрощению… Он находил оправдания для всех провинившихся. Бедняжка Грасинья! Замужем за недалеким толстяком, без детей, без умственных запросов, даже без домашних хлопот… уступила (а кто не уступил бы?), просто и доверчиво уступила любви, которая давно уже коренилась в ее душе, подарила ей единственную в жизни радость и (что, может быть, еще важнее!) вызвала единственное в жизни горе. Барроло, бедный Жозе без Роли, что с него спрашивать? Как поется в песенке – «жди от кошки молока, от осины – апельсина!». А сам он, горемыка Гонсало, бедный, безвестный, не более чем жертва неумолимого закона борьбы за существование, который погнал его на поиски славы и денег, – и вот он кинулся в первую же приоткрывшуюся дверцу, не заметив кучи навоза, лежащей на пути. Да, ни один из них не виноват перед богом, сотворившим нас такими суетными, такими слабыми, что мы не можем устоять перед силами, подвластными нам не больше, чем солнце или ветер!
Виновен же, непростительно виновен тот, негодяй с завитой шевелюрой! Со студенческих лет в своих отношениях к Грасинье он проявлял наглый эгоизм, на который можно ответить только так, как отвечали древние Рамиресы: предать оскорбителя пытке, а потом швырнуть воронам его труп. Захотелось ему от летней скуки поиграть в буколическую любовь под сенью кущ – поиграл. Показалось, что жена и дети будут обузой в его праздной жизни, – бросил. Увидел, что прежняя возлюбленная принадлежит другому, – повел осаду, чтобы, минуя тяготы отцовства, вкусить радости любви. И едва только муж, глупец-муж, приоткрывает перед ним двери, он, ни минуты не медля, кидается на добычу. Эх, попадись он старому Труктезиндо! На костре бы он его поджарил перед бойницами башни, расплавленным свинцом залил лживую глотку в подземном каземате!
А он, потомок Труктезиндо, не может, встретив мерзавца на улице, даже пройти мимо, не приподняв шляпы! Стоит хоть на йоту ослабить эту не в добрый час восстановленную дружбу, и откроется позор, скрытый стенами бельведера! Вся Оливейра покатится со смеху: «Хорош Фидалго из Башни! Сам затащил Кавалейро к сестре, а через две недели выставляет его вон! Неспроста это, неспроста!» Вот-то поживятся старухи Лоузада! Нет, этого он не допустит! Именно теперь он должен выставлять напоказ свою дружбу с губернатором, и так явно, так шумно, чтобы никто не разглядел всего, что за ней таилось! Какая пытка! Но этого требует честь. Честь их рода! Позорная интрижка спрятана в чаще аллей, во тьме бельведера, а снаружи, при свете дня, на площадях Оливейры, Гонсало по-прежнему будет расхаживать под руку с Андре!
Шли дни, но душа фидалго не обретала прежнего покоя. Жизнь его была отравлена тем, что он ради чести и успеха выборов принужден поминутно демонстрировать дружбу с Кавалейро. Временами вся его гордость возмущалась: «Дались мне эти выборы! Кому нужно засаленное кресло в Сан-Бенто?» Но неумолимая действительность заставляла его смолкнуть. Выборы – единственная лазейка, только так вырвется он из захолустной дыры; если же он порвет с таким многоопытным мерзавцем, как Кавалейро, тот немедленно стакнется со столичной кликой и выставит другого кандидата… Увы! Он, Гонсало, из тех жалких созданий, которые «зависят». Почему? А потому, что он беден, потому, что мизерный доход с двух усадеб, может быть, и хорош для кого-нибудь другого, но для него, образованного, утонченного, общительного, отягощенного, наконец, определенными обязанностями, которые накладывает знатность, – это нищета.
Такие размышления – медленно, но неуклонно – вели его к мыслям о доне Ане и ее двухстах тысячах… Наконец однажды утром он храбро посмотрел в лицо ошеломительной возможности: а не жениться ли на доне Ане? В сущности, что тут такого? Она откровенно им интересуется, почти увлечена… Почему бы ему, в конце концов, не жениться на доне Ане?
Да, конечно, отец – мясник, брат – разбойник… Но ведь и у него среди бесчисленных предков, включая свирепых свевов, наверняка найдется какой-нибудь мясник; а чем же, как не разбоем, занимались столетья напролет знаменитые Рамиресы? И вообще, оба – и мясник и разбойник – давно умерли, отошли в область преданий. Выйдя замуж за Лусену, дона Ана перешла из простолюдинок в буржуазки. Он познакомился с ней не в мясном ряду у папаши, не на большой дороге у братца, а в усадьбе «Фейтоза», где у нее есть и управляющий, и капеллан, и слуги – совсем как у дам из рода Рамирес. И всякое колебание кажется просто ребячеством, как рассудишь, что в придачу к добрым, честным крестьянским тысячам, эта красивая, добропорядочная женщина приносит мужу свое великолепное тело! К ее золоту да его имя, его дарования – и не нужна ему грязная помощь Кавалейро! А какой полной, какой прекрасной будет их жизнь! Старая башня воссияет в прежнем блеске; он заново, роскошно отделает дом в «Трейшедо»; наконец, его ждут расширяющие кругозор путешествия. И при этом, заметьте, никто не омрачит его радостей. Как часто женитьба на деньгах отравлена тем, что жена уродлива, костлява, потлива… Но нет! После дневных триумфов его будет ждать в спальной не кикимора, а Венера!
Искусительные мысли медленно, но верно подтачивали его твердость, пока наконец он не послал кузине в «Фейтозу» коротенькую записку, в которой просил «встретиться наедине, где-нибудь неподалеку: нужно серьезно поговорить с глазу на глаз…». Прошли три долгих дня, но ответа не было. И Гонсало решил, что многоопытная кузина, догадываясь о теме разговора, уклоняется от свидания, потому что ей нечем порадовать его. Целую неделю он провел в унынии, остро ощущая всю никчемность своей жизни, неосновательность своих надежд. Гордость и стыд не разрешали ему ехать в Оливейру, где из своего окна он неминуемо увидит крышу бельведера и венчающего ее толстого купидона. Его почти пугала мысль, что придется поцеловать сестру в щеку, которую целовал тот своими слюнявыми губами. Над выборами нависло тяжелое, как свод, молчание; но писать Кавалейро он не мог, а Жоан Гоувейя отдыхал у моря, гулял по пляжу в белых башмаках и собирал ракушки. Вилла-Клара была невыносима в эти жаркие сентябрьские дни; к тому же Тито уехал в Алентежо, к больному брату; Мануэл Дуарте помогал матери со сбором винограда, а в клубе было пусто и сонно, только мухи жужжали…
* * *
Не столько из долга или любви к искусству, сколько чтобы отвлечься и занять время, он снова – хоть и без прежнего пыла – взялся за перо. Шло описание погони Труктезиндо за байонским Бастардом. Здесь бы и блеснуть силой, поддать средневекового колорита! А он, как назло, потух, размяк, выдохся… К счастью, в дядиной поэмке эти бурные сцены перемежались недурными пейзажами и живописными штрихами рыцарского быта.
Приблизившись к реке, Труктезиндо увидел, что деревянный мост обрушился, и его изъеденные, ветхие доски запрудили узкое русло. Предусмотрительный Байон догадался уничтожить мост, чтобы задержать мстителей. И войско сеньора Саита-Иренеи двинулось к броду Эспигала по узкой кромке берега, мимо длинной вереницы тополей. Какая задержка! Когда последние мулы ступили на другой берег, уже удлинились тени, и вода в илистых лужах засияла бледно-золотым и розовым светом. Дон Гарсия Вьегас, прозванный Мудрым, предложил разделить отряд: пешие и обоз без лишнего шума двинутся к Монтемору, избегая недобрых встреч, а рыцари с копьями и конные арбалетчики поскачут вдогонку за Бастардом. Все одобрили мудрый совет дона Гарсии; резвые кони, не приноравливаясь больше к медленному шагу лучников, понеслись по пустоши и узким тропам; до самых Трех дорог всадники скакали во весь опор. У Трех же дорог – пустынной поляны, где высится древний дуб, под которым в самую мрачную из январских субботних ночей плясали все португальские ведьмы при свете факелов, пока не заклял их святой Фроаленго, – Труктезиндо придержал коня, и привстав в стременах, стал вглядываться в дороги, бегущие среди суровых, поросших дроком холмов. Проезжал тут проклятый Бастард или нет? А-а! Так и есть. Он побывал здесь и оставил след своей подлости – у камня, где худые козочки общипывали кусты, лежал, раскинув руки, пронзенный стрелою пастушонок! Видно, Байон испугался, что несчастный отрок расскажет, куда направился он со своей шайкой, и вот жало стрелы впилось в чахлую от голода, едва прикрытую лохмотьями грудь. По какой же из трех дорог ускакал презренный? Южный ветер из-за гор замел следы беглецов; ни лачуги, ни шалаша не было окрест, и никто, ни крестьянин, ни древняя старуха, не вышел к отряду Труктезиндо. По приказу Афонсо Гомеса трое конных лазутчиков двинулись по трем дорогам, а рыцари, не спешиваясь, отстегивали пряжки шлемов и отирали пот с бородатых лиц или поили коней у поросшего камышом ручья. Труктезиндо сидел недвижимо на своем вороном коне под сенью фроаленгова дуба. Весь закованный в черное железо, он сложил руки на луке седла и низко опустил голову в тяжелом шлеме, словно молился или думал страшную думу. А рядом, в усаженных шипами ошейниках, вывалив красные языки, тяжело дышали его верные псы.
Долго ждали они в тревоге и нетерпении, но вот на восточной дороге в клубах пыли показался один из лазутчиков, подавая знаки поднятой пикой. Примерно в часе пути он видел большой отряд, расположившийся станом за частоколом и стеной!
– Что на знамени?
– Тринадцать колец.
– Милостив господь! – вскричал Труктезиндо, встрепенувшись. – Это дон Педро де Кастро, прозванный Кастильцем. Он идет с рыцарями Леона на помощь сеньорам инфантам!
Значит, по этой дороге Бастард поехать не мог… Но тут и с запада подлетел всадник и сообщил, что за холмами, в роще, остановились на привал генуэзские купцы и стоят там с самого утра, потому что одного из них свалила лихоманка. Что они говорят? Клянутся, что за весь день мимо рощи проехали только скоморохи, возвращавшиеся с ярмарки в Кражелос. Итак, оставалась средняя дорога, каменистая, словно высохшее русло. По ней-то и двинулись рыцари, повинуясь знаку Труктезиндо. Но сгустились угрюмые сумерки, а дорога тянулась все дальше, мрачная, зловещая, бесконечная, среди скалистых холмов, и ни хижины, ни ограды, никакого следа человеческого не было видно. Наконец вдали, в полумраке, они завидели пустынную равнину; она расстилалась далеко, до самого неба, где гасли последние полосы медного, кровавого заката. Тогда Труктезиндо остановил свой отряд у колючих кустов, мечущихся на ветру:








