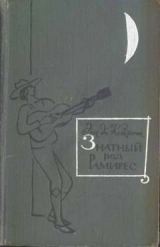
Текст книги "Знатный род Рамирес"
Автор книги: Жозе Мария Эса де Кейрош
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
Но, увы! Под сенью старого дуба три знаменитых рыцаря не спеша измышляли самую страшную месть. Труктезиндо считал, что надо вернуться в Санта-Иренею, воздвигнуть виселицу у дозорной башни, на том самом месте, где упало на землю мертвое тело сына, и повесить на ней, предварительно выпоров, подлого убийцу. Старый дон Педро де Кастро предлагал другую расправу, не менее страшную, но более краткую. К чему возвращаться в Санта-Иренею, тратить на это целый день, когда нужно скакать в Монтемор на выручку к инфантам? Не лучше ли положить Бастарда у ног Труктезиндо на добрую колоду, как свинью, что режут к рождеству, и приказать конюху, чтоб тот опалил ему бороду, а потом велеть мяснику, чтоб тот прирезал его кухонным ножом и медленно, по капле выпустил кровь из горла?
– Что скажешь, сеньор дон Гарсия?
Дон Гарсия Мудрый расстегнул железное забрало и отер с морщинистого лица пот и пыль сражения.
– Друзья и сеньоры! – молвил он. – Неподалеку, за этими холмами, лежит Гадючье озеро. Если мы двинемся к нему, мы сократим путь, ибо оттуда через Тордезело и Санта-Мария-да-Варже идет дорога на Монтемор, прямая, как полет ворона. Доверься мне, Труктезиндо! Доверься, и я предам Бастарда такой позорной и страшной смерти, о какой не слыхивали с тех пор, как стоит Португалия.
– Позорней виселицы, мой старый Гарсия?
– Увидите сами, друзья и сеньоры, увидите сами!
– Будь по-твоему! Трубите в рога!..
По знаку Афонсо Гомеса запели рога. Арбалетчики и леонские лучники окружили мула, на котором, привязанный к двум тюкам, лежал Байон, и под командою дона Гарсии небольшой отряд двинулся к Гадючьему озеру. Шли они нестройно, рыцари ехали как придется, словно то был не поход, а праздничная кавалькада, и, весело перекликаясь, вспоминали с шутками и смехом перипетии недавней схватки.
Недалеко от прекрасного замка Тордезело таилось в горах Гадючье озеро. Вечное молчание и вечная печаль царили там. Дядя Дуарте передал ощущение этой зловещей заброшенности в следующих выразительных строках:
Там не цветут цветы по берегам,
Там на ветвях не распевают птицы,—
Лишь заросли да груды диких скал
Над омутом безмолвным и зловещим.
Когда первые рыцари, перевалив через высокий холм, увидели озеро в белесом утреннем тумане, они умолкли и невольно натянули поводья. Это гиблое место наводило на мысли о ведьмах и призраках, о нераскаянных душах. За обрывистым оврагом, где скользили копыта коней, змеилась длинная долина; илистые, полувысохшие от зноя лужи мрачно мерцали среди валунов и дрока. А подальше, на расстоянии арбалетного выстрела, темнело неподвижное озеро в черных пятнах, словно полоска свинца, тронутая ржавчиной забвения. Кругом громоздились холмы, изборожденные красными трещинами, похожими на струйки крови, а сверху нависали скалы, белые, словно кости. Так жутко тут было, так одиноко, что даже старому Педро Кастильцу, повидавшему столько земель, стало не по себе.
– Поганое место! Клянусь Христом и девой Марией, ни одна крещеная душа не побывала здесь!
– О нет, сеньор дон Педро де Кастро! – возразил дон Гарсия. – Много знаменитых рыцарей ходило по этой земле и при графе доне Соейро, и при вашем короле доне Фернандо. Славные стены стояли у этих вод! Смотрите!
И впрямь, на той стороне, как раз напротив оврага, вздымались из черной воды два мощных гранитных столба, отполированных дождем и ветром, как драгоценный мрамор. Между берегом и одним из столбов был перекинут мостик на скользких, подгнивших сваях. А к середине столба было прибито железное кольцо.
Тем временем пешие ратники рассыпались по всей долине. Дон Гарсия Вьегас спешился, подошел к коню Труктезиндо и кликнул Пэро Эрмигеса, начальника санта-иренейских арбалетчиков. Заранее предвкушая, как удивится славный сеньор, он велел начальнику конницы выделить шестерых покрепче, чтобы те, снявши Бастарда с мула, положили его на землю и раздели догола – пусть все увидят его таким, каким родила его для подлых дел прелюбодейка-мать.
Труктезиндо посмотрел прямо в глаза Мудрому, хмуря мохнатые брови:
– Клянусь богом, дон Гарсия! Ты хочешь просто-напросто утопить негодяя, загрязнить ни в чем не повинные воды?
Многие рыцари тоже возроптали – такая смерть казалась им слишком обычной и легкой. Но дон Гарсия оглядел их, победно сверкая глазами:
– Успокойтесь, друзья и сеньоры! Я стар, не спорю, однако господь бог не лишил еще меня ума-разума. Нет, не вешать, и не резать, и не топить его мы будем… Из него высосут кровь! Мы предадим его пиявкам, сеньоры, которыми кишит эта темная топь, и они высосут кровь из Бастарда!
Дон Педро де Кастро хлопнул железной рукавицей по одетой в железо ляжке:
– Клянусь богом! У кого в отряде сеньор дон Гарсия, тому посчастливилось иметь советчиком и мудреца Аристотеля, и воина Ганнибала!
Гул восхищения пробежал по рядам:
– Славно придумано, славно!
А Труктезиндо радостно вскричал:
– За дело, арбалетчики! Вы же, сеньоры, рассядьтесь по склону холма, как в ложах на турнире, – зрелище будет отменное!
Шестеро арбалетчиков уже снимали с мула связанного Байона. Другие бежали к ним с мотками пеньковых веревок. Как мясники на тушу, кинулись на несчастного грубые мужланы, срывая с него шлем, кольчугу, железные сапоги и рукавицы. Они вцепились в его длинные волосы, скрутили ноги, вывернули руки, впились в тело острыми ногтями, но могучий Байон еще вырывался, страшно крича, и плевал в жестокие лица кровавой, пенящейся слюной.
Сквозь копошащуюся черную массу белело обнаженное тело, скрученное веревками. Яростное рычание перешло в прерывистый хрип. Один за другим поднимались арбалетчики, тяжело дыша и отирая пот.
Тем временем рыцари Испании и рыцари Санта-Иренеи спешились и воткнули копья в поросшие дроком каменистые склоны. Холмы запестрели людьми, словно ложи в день турнира. На ровном уступе среди скал, под скудной сенью двух терновых кустов паж расстелил овечьи шкуры для сеньора дона Педро де Кастро и сеньора дона Труктезиндо, Старый Педро Кастилец расположился поудобней, приготовившись к долгой забаве, и расстегнул свой железный, с золотой насечкой доспех.
Но Труктезиндо стоял точно каменный, опершись одетыми в железо кулаками на рукоять длинного меча, и молча, жадно глядел из-под насупленных бровей на топкое озеро, которому предстояло воздать столь страшной и подлою смертью за смерть сына. А на берегу пешие ратники и даже некоторые испанские рыцари взбаламучивали темную воду стрелами и остриями пик, чтобы скорее выползли из нее мерзкие твари.
Вот, повинуясь возгласу дона Гарсии, рассыпались пехотинцы, сгрудившиеся над Бастардом, – и все увидели на черной земле туго связанное пеньковыми веревками, обнаженное белое тело, поросшее на груди и в паху густою рыжею шерстью. Байонец лежал неподвижно, как тюк, даже ребра не вздымались, только горели налитые кровью, выкаченные от ужаса и ярости глаза. Рыцари подошли поближе поглядеть на позорную наготу прославленного Байона. А сеньор дос Пасос д'Аржелин насмешливо протянул:
– Так я и знал, клянусь богом! Белый, как девица, без единого рубца!
Леонел де Самора вытер железную подошву о голое плечо.
– Увял наш Огнецвет от черной водицы!
Бастард молчал, только две слезы вытекли из-под его плотно сомкнутых век… Но вот раздались на берегу звучные клики глашатая:
– Праведный суд! Праведный суд!
Это адаил Санта-Иренеи шагал вдоль войска, потрясая копьем, и голос его раскатывался над холмами:
– Праведный суд! Праведным судом судит сеньор Трейшедо и Санта-Иренеи низкого убийцу. Праведно судит пса и сукина сына! Кто подло убил, подлою смертью умрет!
Трижды возгласил он так перед войском, рассеявшимся по склонам холмов. Затем остановился и почтительно приветствовал сеньоров, как жонглер перед представлением.
– За дело! – вскричал Труктезиндо.
Ни минуты не медля, по команде дона Гарсии шестеро арбалетчиков, обернув ноги дерюгой, вошли в воду и, неся на плечах Байона, словно мертвеца в саване, направились к самому высокому из гранитных столбов. За ними по скользким мосткам бежали другие, с мотками веревок. Под крики: «Держи! подымай!» – с немалым усилием они поставили стоймя в воду, по самый пах, белое тело, прислонили его спиною к столбу, прикрутили веревкой, пропустивши ее в кольцо, прочно и крепко, как прикручивают к мачте свернутый парус. Сделав свое дело, лучники поспешили прочь, дрожа от страха и омерзения, и, ступив на сушу, поскорей размотали дерюгу с ног, чтоб не присосались к ним пиявки. Прочие, торопясь и толкаясь, бежали на берег по мосткам. В озере остался только Лопо де Байон, приготовленный к позорной и медленной смерти; вода лизала его ляжки, веревки обвивали тело от пят до шеи, он стоял, как раб, прикрученный к позорному столбу, и прядь золотых волос, продетая в железное кольцо, не давала ему опустить голову, чтобы все, глядя на искаженные черты, могли насладиться бесславной агонией Огнецвета.
Оба отряда в молчании ждали, рассевшись по склонам, и еще глуше, страшнее стало на окутанных туманом берегах. Даже ряби не было видно на темной глади озера, подобной полоске потемневшего от времени свинца. На гребне скал замерли дозорные, расставленные доном Гарсией. Высоко в небе, каркая, пролетел ворон. Дунул ветерок и зашевелил флажки на острых копьях, воткнутых в густой дрок.
Чтобы скорей пробудить от спячки мерзкие создания, пешие ратники бросали камни в топкую воду. Другие, – чтобы показать, что в озере нет пиявок, – спустились на берег, опустили руки в воду и, вынув их, смеялись над доном Гарсией… Испанские рыцари начинали роптать. Но вот вздрогнуло тело Байона; в яростном усилии напружились могучие мышцы, извиваясь под кожей, словно змеи; с потрескавшихся губ срывались проклятия, оскорбления, угрозы презренному трусу Труктезиндо и всему роду Рамиресов, которым он назначал свидание ровно через год в пламени преисподней! Один из рыцарей, вспылив, схватил арбалет, натянул было тетиву, но дон Гарсия остановил его:
– Богом прошу, друг! Не похищай у пиявок ни капли его крови! Смотри, они уже здесь! Они здесь!
В густой воде, у бедер Байона, что-то шевелилось, пузырилось, – и вот медленно выползла пиявка, за ней другая, третья. Черные и лоснящиеся, они ползли, извиваясь, по белому животу, впивались, повисали, становились все толще, все чернее, и тонкие струйки крови сочились по белой коже. Байон замолк, зубы его стучали. Даже пехотинцы, хмурясь, отворачивались и плевали на землю. Но другие науськивали пиявок, крича:
– Бери его, красотки! Так его!
А прекрасный Самора де Сендуфе со смехом осудил столь противную казнь:
– Помилуй бог, прописали пиявки, словно от геморроя! Не рыцарю, а мавританскому лекарю впору такой совет!
– Чего ж тебе больше, друг Леонел? – сияя от самодовольства, откликнулся дон Гарсия. – Об этой смерти напишут в книгах! Поверь мне, в эту же зиму у всех очагов между Миньо и Доуро будут рассказывать о славном деле у Гадючьего озера! Взгляни на Труктезиндо! Немало повидал он в богатой подвигами жизни! А как дивится! Как смотрит! Глаз не оторвет!
На склоне холма, у своего стяга, воткнутого знаменосцем меж двух камней, неподвижно, как второе древко, стоял старый Рамирес, не отрывая от тела Бастарда горящих радостью, мрачно сверкающих глаз. Он не ждал столь великолепной мести! Тот, кто связал его сына, кинул на носилки, прикончил кинжалом перед башней отчего замка, связанный, словно свинья, позорно обнаженный, прикрученный к столбу, стоит в грязной воде, и пиявки сосут его кровь, а войска Санта-Иренеи и лучшие рыцари Испании смеются, глядя на него. Не земля в час доброго боя пьет ненавистную кровь, не сквозь доспехи, из честной раны, пролилась она, нет. По каплям, медленно переходит она в утробы мерзких тварей, которые вылезли из грязи и в грязь возвратятся, насытившись надменной кровью! Липкие пиявки из поганой лужи сосут по его велению кровь рыцаря из рода Байонов! Кончалась ли когда родовая распря лучшей расправой?
И радовалась, веселилась жестокая душа Труктезиндо, когда мерзкие твари карабкались по связанному телу, как овцы по склону горы. Живот уже исчез под черным и липким скопищем пиявок, копошащихся в кровавом месиве. Уже вереница черных тварей впилась в поясницу, и тело судорожно сжалось, и медленной струей сочится по нему кровь. Пиявки, запутавшись в густой рыжей поросли, с трудом выбирались из нее, оставляя грязный след; другие гроздью присосались к руке. Те, что насытились – раздутые, гладкие, – мягко шлепались в грязь; и тут же из глубины появлялись новые, голодные твари. Кровь струилась из оставленных ран, впитывалась в пеньку веревок и капала вниз, как дождь с крыши. На темной воде пузырились красные сгустки.
Несчастный исходил кровью и все же изрыгал страшную брань, грозя пожарами и смертью роду Рамиресов! Но вот он напрягся, веревки натянулись, из пересохшего рта вырвался хриплый вой: «Воды! Воды!»
Ногти туго прикрученных рук исступленно впились в могучие бедра, рвали живое мясо, скребли кровавые раны.
Но взрыв ярости сменился страдальческим стоном, и несчастный обвис, словно уснул, на грубых узлах веревок. Золотая борода намокла от пота, как ветка от росы, и безумная улыбка блуждала на мертвенно-бледном лице,
Тем временем у зрителей уже притупилось первое любопытство к невиданной пытке, да и близился час полуденной трапезы. Адаил Санта-Иренеи, а за ним начальник испанской пехоты, приказали трубить к обеду,
В мрачной долине все закипело. Обозы обоих отрядов стояли за холмом, на полянке, у ручья, журчащего по корням плакучей ольхи. Голодные пехотинцы, прыгая по камням, поспешили туда, где громоздились вьюки, – получить по ломтю мяса и половине темного хлеба, а потом, рассыпавшись по тенистой роще, жевали медленно и молча и пили воду из деревянных ковшей. Насытившись и напившись, они растянулись на земле или, продравшись сквозь кустарник, направились на внешние склоны в надежде подстрелить случайную дичь. У воды, усевшись на расстеленных плащах вкруг мешков с провизией, закусывали рыцари, кинжалами кромсая жирную свинину и то и дело прикладываясь к пузатым тыквам.
Дон Гарсия Мудрый – гость дона Педро – ел пшеничную кашу на меду с глиняного блюда. Каша эта называлась «папской»; и оба рыцаря то и дело запускали в нее руки, а потом вытирали их о подкладку шлемов. Только старый Труктезиндо не ел и не отдыхал; молча стоял он у своего стяга, а у ног его застыли верные псы. Он дал обет не упустить ни единого стона, ни единой капли крови поверженного врага. Тщетно подносил ему Кастилец серебряный ковш, восхваляя свое вино из Тордезело. Старый сеньор не слышал его; и дон Педро де Кастро, швырнув два хлебца его верным псам, возвратился к дону Гарсии, с которым вел беседу о виновнице стольких бед – безрассудной любви Байона к Виоланте Рамирес.
– Поистине счастливы мы, сеньор дон Гарсия! И годы, и немощи, и толстое брюхо ограждают нас от подобных искушений. Один мавританский лекарь говаривал, помню, что женщина подобна ветру, – сначала она и потешит, и усладит чувства, а потом все разрушит и развеет! Сколько потерпели от женщин мои предки! Зачем далеко ходить – отец мой от злой ревности убил кинжалом мою мать Эстеванинью, дочь самого императора, истинную святую. Куда не заведет любовное безрассудство! Вот этого оно привело к смерти, и к какой смерти! Пиявки сосут его, а люди смотрят, едят да посмеиваются. Но, клянусь богом, он не спешит умереть, сеньор дон Гарсия!
– Он уже умирает, сеньор дон Педро де Кастро! Вот и дьявол стоит с ним рядом, ждет его душу!
Лопо де Байон умирал. На окровавленных веревках висело страшное багровое тело, облепленное черными пиявками, и тонкие струйки крови сочились из каждой раны, как сочится вода из потемневшей стены.
Он уже не бился, – тяжело, точно тюк, обвисло его тело, и только мутные, полные страха глаза медленно ворочались в орбитах. Вот склонилось на грудь белое лицо, отвисла губа, из черной пещеры рта хлынула кровавая пена, веки опустились снова, и темными сгустками поползли из-под них смешанные с кровью слезы.
Пешие ратники, насытившись, подходили к самой воде и осыпали грубыми шутками страшное, покрытое пиявками тело. Пажи подбирали с земли скатерти и опустевшие мехи. Дон Педро де Кастро и дон Гарсия Мудрый ступили в топкую воду железными сапогами, чтобы взглянуть поближе на столь редкостную смертную муку. А рыцари, наскучив долгой агонией, ворчали, застегивая доспехи: «Да он уже умер. Кончился!»
Тогда Гарсия Вьегас Мудрый бросил начальнику арбалетчиков:
– Эрмигес, ступай взгляни, дышит он еще или нет. Тот прошел по мосткам, с превеликим отвращением потрогал бледное тело и поднес к разверстому рту светлое лезвие кинжала.
– Умер! Умер! – крикнул он.
Лопо де Байон умер. На веревках висел обескровленный, безобразный, студенистый труп. Кровь не текла больше; она запеклась черными сгустками, а на них тускло мерцали раздувшиеся, сытые пиявки. Запоздалые твари еще ползли из воды. Две огромные впились в ухо, третья залепила глаз. Прекрасный Огнецвет стал разлагающейся падалью; лишь золотая прядь волос, продернутая в кольцо, сверкала пламенем, словно последний след отлетевшей огненной души.
Не вкладывая кинжала в ножны, Эрмигес направился к своему сеньору, крича:
– Правосудие свершилось, сеньор Труктезиндо Рамирес! Нет больше пса и убийцы.
Тогда старый фидалго простер руку, грозно сжал волосатый кулак, и возглас его разнесся по холмам и скалам:
– Умер! Так умрет всякий, кто оскорбит меня и мой род!
Он двинулся прямиком сквозь кустарник по склону холма и подал знак знаменосцу широким взмахом руки:
– Афонсо Гомес, вели трубить в рога! И – на коней, если угодно тебе, дон Педро, друг мой и брат! Поистине ты оказал мне большую честь и большую помощь.
Кастилец, весело смеясь, взмахнул рукавицей:
– Клянусь пресвятой девой, друг и брат! Это ты оказал мне честь и доставил немалую радость. На коней, если ты того хочешь! Дон Гарсия обещает, что мы еще засветло будем у стен Монтемора.
Пешие ратники уже строились рядами, оруженосцы вели по берегу отдохнувших коней, которые пугливо шарахались от темной топи. Под стягами черного ястреба и тринадцати колец рыцари тронулись рысью, и камни покатились вниз по крутому склону. Достигнув вершины, многие обернулись в седлах, чтобы взглянуть еще раз на того, кто остался гнить в темной воде, у столба. Когда же мимо него пошли арбалетчики и пращники, посыпались грязные шутки, низкие оскорбления «псу и убийце». Уже на половине спуска один из арбалетчиков обернулся, яростно натянул тетиву, и длинная стрела взметнула фонтан брызг. За ней просвистела другая, пролетел из пращи камень, и вот наконец оперенная стрела вонзилась в черный клубок пиявок на бедре Байона. Эрмигес крикнул: «Прекратить! Вперед!» Следом двигались вьючные мулы, и погонщики, хватая с земли камни, швыряли их в мертвеца. Последними шли обозники в куртках сыромятной кожи, размахивая короткими пиками; их старшой поднял с земли ком навоза, размахнулся и залепил грязной жижей золотую бороду Бастарда.

XI
Когда усталый, растративший прежний пыл Гонсало, наносил последний штрих, завершающий истязание Бастарда, в коридоре зазвонили к завтраку. Наконец-то! Слава богу! Кончилась нескончаемая «Башня»! Четыре месяца, четыре изнурительных месяца воскрешал он темное прошлое своих нецивилизованных предков. Крупными, жирными буквами он написал в конце страницы: «Finis». Потом поставил дату и время; было без двадцати час.
Но и теперь, расставшись с письменным столом, за которым он так много потрудился, Гонсало против ожидания не почувствовал особой радости. Мученичество Бастарда оставило в его душе тяжелый осадок, – как все же груба, как бесчеловечна была жизнь в те давние времена! Ему было бы легче, если бы он твердо знал, что сумел воссоздать во всей исторической правде облик своих доблестных пращуров… Но и здесь уверенности не было… В глубине души он опасался, что в его повести под кое-как прилаженными, сомнительными для науки доспехами еле теплятся призрачные души, лишенные исторической плоти. Он даже не был уверен, что, пока отряд закусывает, пиявки действительно могут облепить человека от бороды до пят и высосать из него всю кровь. Однако, что ни говори, Кастаньейро хвалил первые главы. Читатель любит, чтобы в исторических романах описывались ужасы и рекою лилась кровь; скоро «Анналы» возвестят всей стране о подвигах славного рода Рамиресов, который вооружал вассалов, разрушал замки, грабил земли во славу своих знамен и бросал гордый вызов королям и в совете, и на поле брани. Да, лето прошло не впустую. А в довершение всего – скоро состоятся выборы, и он, Гонсало, вырвется наконец из этого захолустья.
Чтобы не откладывать больше визитов к избирателям и заодно рассеяться немного, он вскоре после завтрака вскочил в седло, невзирая на духоту, – со вчерашнего дня солнце палило, как в августе, хотя была уже середина октября. На повороте дороги толстенький человечек в запыленных белых брюках, под красным зонтиком, тяжело пыхтя, остановил фидалго и поклонился ему чуть не в пояс. Это был Годиньо, писарь муниципального совета. Он отнес срочное сообщение в Бравайс, а теперь направлялся в «Башню» по поручению Жоана Гоувейи…
Гонсало осадил кобылу в тени большого дуба.
– Чем могу служить, друг Годиньо?
Сеньор Жоан Гоувейя велел сообщить его милости, что негодяй Эрнесто, молодчик из Нарсежаса, поправился, ухо у него приросло, рот заживает… И поскольку ему предъявлен иск, его препроводили из больницы в тюрьму…
Гонсало ударил ладонью по седлу:
– Нет! Будьте любезны передать сеньору Жоану Гоувейе, что я не согласен. Парень забылся, но получил по заслугам. Мы квиты.
– Однако, сеньор Гонсало Мендес…
– Ради бога, дорогой мой Годиньо! Я не хочу, не желаю. Потрудитесь объяснить сеньору Гоувейе. Терпеть не могу мести! Мстить не в моем обычае. У нас это не принято… Ни один Рамирес никогда не мстил. То есть… Хм… Я хочу сказать, бывало, конечно, но… В общем, объясните сеньору Жоану Гоувейе. Впрочем, я сам увижусь с ним в клубе. Несчастный изуродован, будет с него. Больше мучить его не надо. Жестокость мне претит!
– Но как же…
– Такова моя воля, Годиньо!
– Я передам сеньору председателю…
– Весьма признателен. Прощайте! Какая жара, а?
– Дышать нечем, сеньор Гонсало Мендес, нечем дышать!
Гонсало поехал дальше. Ему было очень неприятно думать, что несчастный забияка из Нарсежаса, разбитый, с еле зажившим ухом, будет лежать на голых досках в городской тюрьме. Он даже решил съездить в Вилла-Клару и обуздать служебное рвение Жоана Гоувейи; но совсем близко, перед прачечной, стоял домик столяра Фирмино, приходившегося ему кумом. Туда он и направился неторопливой рысцой и спешился у калитки. Оказалось, что кум Фирмино недавно уехал в Арибаду, где сооружал давильню у сеньора Эстевеса. Из кухни выбежала толстая лоснящаяся кума, а за ней двое детишек, замусленных, как две кухонные мочалки. Сеньор Гонсало Мендес нежно расцеловал липкие мордочки.
– Ну, кума, и вкусно же пахнет у вас! Только что пекли хлеб, верно? Куму Фирмино – огромнейший привет. И пусть не забывает, выборы в то воскресенье! Я на него рассчитываю. Мне не голос дорог, а дружба!
Кума расплылась в улыбке, сверкая белыми зубами:
– Ах, сеньор, не сомневайтесь! Мой Фирмино сказал сеньору настоятелю: у нас тут все будут голосовать за вашу милость. Кто добром не захочет – пойдет из-под палки!
Фидалго пожал куме руку, и долго, сияя улыбкой она смотрела со ступенек, как вьется пыль из-под копыт его лошади, словно сам король удостоил ее посещением; а малыши прятались в ее юбках.
В других местах – в Серкейре, в Вентура-да-Шише – его встречали те же приветливые улыбки. «Как можно! Ясное дело – голосуем за фидалго! Если надо, и властям наперекор!» На ферме Мануэла, в Адеге, шумно выпивали работники, перебросив куртки через спинку скамьи; он выпил с ними, побалагурил, искренне наслаждаясь молодым вином и веселым шумом. Самый старый из них – беззубый, уродливый и морщинистый, как чернослив, – от полноты души стукнул кулаком по перилам. «Это, братцы, я вам скажу, такой фидалго – поранит бедный человек ногу, так он ему лошадь отдаст, а сам рядом вышагивает! Да, братцы, это фидалго правильный!» Загремели приветственные клики. Когда Гонсало вскочил в седло, батраки окружили его, точно верные вассалы, готовые по первому знаку голосовать или идти в бой!
У Томаса Педры он застал только бабушку Ану, древнюю старушку, разбитую параличом; она заохала, запричитала – экая беда! Надо же было Томасу уехать в Оливал, когда к ним сам фидалго приехал; все равно как святой угодник посетил!
– Уж вы скажете, бабушка Ана! Грешник я, великий грешник!
Скрючившись на скамеечке, бабушка Ана еще сильнее сморщила поросшее волосками лицо, полузакрытое белой бахромой платка, и ударила ладонью по костлявой коленке:
– Нет уж, нет, сеньор! Коли кто бедняка пожалел – тому место в алтаре!
Фидалго смеялся, целовал немытых ребятишек, пожимал шершавые, похожие на корни руки, прикуривал от тлеющих головешек, запросто беседовал о радостях и бедах. А потом, возвращаясь по пыльной дороге, думал: «Забавно! Они, кажется, и вправду расположены ко мне!»
К четырем он устал, решив, что на сегодня хватит, и поехал домой мимо Святого родника – там было прохладней. Проезжая хутор Сердал, у крутого поворота дороги, он чуть не столкнулся с каким-то всадником. То был доктор Жулио; он тоже объезжал избирателей, в нанковом сюртуке, под зеленым зонтиком, весь в поту. Оба придержали лошадей и сердечно поздоровались.
– Рад встрече, сеньор доктор Жулио…
– Я также, сеньор Гонсало Рамирес… Большая честь…
– Тоже трудитесь?
Доктор Жулио пожал плечами:
– Что поделаешь, сеньор Гонсало Рамирес! Впутали меня, горемыку… А знаете, чем все кончится? Подам голос за вас!
Фидалго рассмеялся. Оба, перегнувшись вбок, весело и уважительно пожали друг другу руки.
– Какая жара, сеньор доктор Жулио!
– Пекло, да и только, сеньор Гонсало Рамирес. До чего надоела эта канитель!
Так всю неделю фидалго посещал избирателей, от важных шишек до мелюзги. А за два дня до выборов, в пятницу, когда немного спала жара, уехал в Оливейру; накануне после длительного пребывания в столице вернулся туда и Андре Кавалейро.
Не успел фидалго выйти из коляски, как Жоакин-привратник сообщил ему, что «у сеньоры доны Грасы гости, сеньоры Лоузада».
– Давно? – нахмурился Гонсало.
– Да уж не меньше получаса сидят, ваша милость. Гонсало тихо пробрался к себе, бормоча: «Ни стыда, ни совести! Не успел Андре приехать, они уже тут как тут!» Когда он помылся и сменил сюртук, в комнату влетел необычно сияющий, пунцовый Барроло в рединготе и цилиндре.
– Ого, каким ты франтом, Барроло!
– Чудеса! – заорал тот, обнимая его с необычным пылом. – Я как раз собирался вызвать тебя телеграммой!
– Зачем?
Барроло запнулся.
– Зачем? Да так, знаешь… Из-за выборов, вот зачем! Ведь завтра выборы! Кавалейро приехал. Я только что от него. Сперва был во дворце у сеньора епископа, а оттуда – к губернатору. Андре блистателен! Усы подстриг, помолодел. Новости привез… великолепные, скажу тебе, новости!
Барроло потирал руки и так сиял, так лучился радостью, что фидалго с любопытством вгляделся в него.
– Постой-ка, Барролиньо! Ты говоришь, что принес мне хорошую весть?
Барроло с грохотом отскочил, словно дверь захлопнул. Он? Хорошую весть? Ничего подобного! Он и не знает ничего. Кроме выборов, конечно. Вся Муртоза проголосует, как один человек!
– Ну, значит, показалось! – пробормотал фидалго. – А Грасинья что?
– Грасинья? Тоже ничего не знает!
– Чего она не знает? Я хочу сказать – что она, как себя чувствует?
– А-а… Ничего, сидит со старухами. Битый час у нее торчат, мерзавки! Опять благотворительный базар, в фонд нового сиротского приюта. Ох, и надоели эти базары… Послушай, Гонсало, ты останешься до воскресенья?
– Нет, завтра уеду.
– Ну как можно!
– Выборы, дорогой мой! В этот день надо быть дома, в своем штабе, так сказать, в самом сердце округа…
– Ах, жаль! – сокрушался Барроло. – Узнал бы все сразу, заодно. Я собираюсь закатить такой обед!..
– Что это я узнал бы?
Барроло опять поперхнулся, щеки его надулись от смеха и запылали огнем. Потом он затараторил:
– Что узнал? Да ничего! Результаты, то да се… Гулянья будут, фейерверк. Я в Муртозе выкачу бочку вина,
Гонсало, широко улыбаясь, взял его за плечи:
– Говори уж прямо, Барролиньо. Выкладывай, У тебя есть какая-то добрая весть.
Но Барроло шумно отнекивался: ничего он не знает, Андре ничего не говорил, и вообще все это чушь!..
– Ну, бог с тобой, – сказал фидалго, не сомневаясь в существовании приятного секрета. – Спустимся лучше вниз. А если эти сороки еще там, пошли к Грасинье лакея: пусть скажет, и как можно громче, что я приехал и прошу ее подняться ко мне. С этими кикиморами церемониться нечего.
Барроло заколебался:
– Сеньор епископ с ними хорош… А он был сейчас так любезен…
Но, выйдя на лестницу, они услышали звуки рояля и голос Грасиньи. Она уже избавилась от визитерш и пела старую патриотическую песню вандейцев, которую они с Гонсало певали вместе в те давние времена, когда оба горели романтической рыцарской преданностью к Бурбонам и Стюартам:
Гонсало осторожно отодвинул портьеру и закончил куплет, поднявши руку, как знамя:
Грасинья вскочила с табурета-вертушки.
– А мы тебя не ждали! Я думала, ты останешься на выборы дома. Как там?
– Все хорошо, слава богу. Только я вот совсем заработался. Кончил повесть, по избирателям ездил.
Барроло, беспокойно крутившийся по гостиной, подбежал к ним, – его по-прежнему распирало:
– Знаешь, Грасинья, твой брат, как приехал, просто сгорает от любопытства. Ему вздумалось, будто у меня для него заготовлена хорошая весть. А я ничего не знаю, кроме выборов, конечно. А, Грасинья? Правда?
Гонсало ласково поднял за подбородок личико сестры.
– Ты ведь знаешь. Скажи мне.
Она слегка покраснела, улыбнулась. Нет, нет, она ничего не знает, только про выборы…
– Ну, скажи!
– Я не знаю… Это все Жозе…
Она улыбнулась – и в этой жалобной, уступчивой улыбке было признание; тогда Барроло не выдержал, его прорвало, и правда вылетела из его уст, как ядро из мортиры. Ну, так и быть! Есть! Есть новость! Поразительная! Андре ее привез, и сам преподнесет, свеженькую, тепленькую…
– Рад бы, да не могу! Слово дал. Грасинья знает, я с ней поделился. Но и она должна молчать, тоже дала слово. Так что жди Андре. Он к чаю будет и сам взорвет бомбу. Да, именно – бомбу!
Гонсало, сгорая от любопытства, небрежно пожал плечами:








