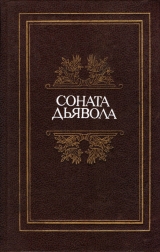
Текст книги "Соната дьявола: Малая французская проза XVIII–XX веков в переводах А. Андрес"
Автор книги: Жорж Сименон
Соавторы: Марсель Эме,Жерар де Нерваль,Шарль Нодье,Жак Казот,Катюль Мендес,Жан-Франсуа де Лагарп
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)
– Это полицейские? – спросил ты, указывая на двух охранников в мундирах, которые мне поклонились.
– Нет, это охрана.
– А почему у них на поясе револьверы?
Швейцар почтительно поздоровался со мной.
– А почему у него на шее цепь?
Это были едва ли не самые приятные часы, которые я когда-либо проводил с тобой. Я получал истинное удовольствие, показывая тебе огромную кабину лифта, куда одновременно могут войти двадцать человек, широкие пустынные коридоры и длинный ряд дверей красного дерева с номерами. Наконец на третьем этаже этого прекрасно организованного улья я с удовольствием ввел тебя в свой кабинет, на двери которого ты прочитал надпись: «Вход воспрещен».
– Почему сюда воспрещается входить?
– Потому что прогнозист не общается с клиентами и ему нельзя мешать.
– А почему?
– Потому что работа у него очень сложная и секретная.
Вот так ты впервые увидел большое светлое помещение, где я работаю, мой письменный стол – огромный, с тремя телефонами, которые вызвали у тебя поток новых вопросов, сейф, комнату, где сидят два моих секретаря, и еще комнату счетчиков со стеллажами во всю стену, битком набитыми папками.
– А это что за штука?
– Это счетная машина.
С того далекого дня ты был у меня всего несколько раз, забегал по поручению матери или по какому-нибудь делу. Последний раз – это было месяца два назад – ты зашел за мной в шесть часов вечера, чтобы вместе идти к портному.
С тех пор ты уже никогда не расспрашивал о моей работе. Тебе хватает тогдашних моих объяснений? А может быть, в лицее или еще где-нибудь тебе уже рассказали, в чем состоит работа прогнозиста? Скорее всего, тебя это больше не интересует…
Ты раз и навсегда уместил меня в определенную рубрику. Прилично, хоть и не слишком модно одетый господин, достаточно сохранившийся для своих сорока восьми лет, занимающий вполне пристойное положение между низшей и высшей ступеньками социальной лестницы…
Я и не рядовой служащий, как те, кого ты видел на первом этаже, но я и не настоящий начальник – у тех кабинеты расположены на втором этаже и вход к ним через приемную, где всегда дежурит швейцар с серебряной цепью на груди. Во мне нет ничего, что могло бы вызвать твое восхищение, но нет и ничего, что внушало бы тебе жалость. Если исходить из той оценки, которую я сам, будь я в твоем возрасте, дал бы себе теперешнему, ты, очевидно, считаешь меня добрым малым, без особых талантов, без особого честолюбия, вполне удовлетворенным своей хоть и однообразной, но хорошо налаженной жизнью, который как огня боится всякого рода риска и случайностей.
А может быть, ты считаешь, что в сорок восемь лет у человека остается не так уж много желаний и ему вполне достаточно удовлетворять свои маленькие причуды?
А ты? К чему ты стремишься? И стремишься ли? Думал ли уже над тем, кем бы ты хотел быть через десять лет, через двадцать? Не знаю, я никогда тебя об этом не спрашивал, потому что сам в твоем возрасте не мог бы ответить на такой вопрос. А если бы даже и мог, то из какого-то целомудрия не стал бы ни с кем говорить об этом.
И без меня тебе достаточно досаждают этим вопросом. У иных просто мания какая-то приставать с ним к детям своих приятелей, даже у людей, в сущности, мало знакомых.
– Какое поприще собираетесь вы избрать, молодой человек?
И всякий раз мама приходит в негодование, но не от вопроса, а от твоего ответа.
– Еще не знаю.
– Такое уж это милое поколение, – торопится объяснить мама. – Они не знают. Их, видите ли, будущее не интересует. Им бы только поменьше учиться да побольше бегать в кино.
Ты даже не споришь с ней. Чувствуешь ли ты в такие минуты, что я на твоей стороне, что я не верю в это пресловутое различие между поколениями, на которое все так охотно сетуют?
Я в твоем возрасте отвечал глухим голосом, потому что был страшно застенчив:
– Хочу быть юристом…
Отвечал так не потому, что мне в самом деле этого хотелось, а потому, что знал: такой ответ доставит удовольствие моему отцу. Сказать тебе правду? В глубине души я был уверен, что сумею избежать этого. Не хотел я быть адвокатом или иметь какое-то отношение к высоким сферам.
Я еще не знал, кем буду, но втайне мечтал о профессии, которая мне позволит как можно меньше соприкасаться с людьми. Охотнее всего я стал бы ученым. Правда, это слово тогда означало для меня прежде всего возможность жить, не общаясь с другими, как бы в ином измерении, притаиться где-нибудь в лаборатории, в тиши своего кабинета.
И что ж, хоть и сложными путями, хоть и волей случая, но в конечном итоге именно этого я и достиг, потому что прогнозирование тоже своего рода наука, пусть и второстепенная.
Поверь мне, я не тщеславен, но все же пишу это с некоторым чувством гордости, ибо табличка «Вход воспрещается» на двери моего кабинета лишь в очень малой степени дает представление о том, как значительна моя роль в роскошном здании на улице Лафит.
Разумеется, в глазах непосвященных огромные, богатые, прямо-таки министерские кабинеты на втором этаже с их мраморными статуями и старинными гобеленами выглядят куда солиднее моего кабинета на третьем этаже, да и сам я не произвожу такого внушительного впечатления, как директора, распорядители и весь персонал страховой компании, который видят клиенты.
А знаешь ли ты, что именно от меня, от бюро прогнозов зависит благополучие всего этого здания?
Впрочем, не в этом даже дело. Главное, пойми: именно в моем кабинете сосредоточена самая интересная – единственно интересная часть всей совершаемой здесь работы. Я не касаюсь денег. Я не продаю страховых полисов, я не командую армией инспекторов и агентов.
Моя обязанность – с наибольшей научно обоснованной приближенностью определять степень риска, вычислять вероятность смертей, пожаров, кораблекрушений, стихийных бедствий или несчастных случаев на производстве.
От меня, от моих расчетов зависят размеры страховых взносов, которые должны будут уплатить наши клиенты, а следовательно, размеры прибылей или убытков компании.
Вот почему в комнате рядом с моим кабинетом ты видел тогда счетную машину, которая произвела на тебя такое впечатление. Не так давно ее заменили другой – электронно-вычислительной.
Не покажется ли тебе очень скучным, если я выскажу здесь кое-какие мысли относительно своей профессии, которые, пожалуй, могут прозвучать как панегирик?
Только что я сказал, что в шестнадцать лет я испытывал какую-то болезненную ненависть к толпе, а может, и страх, я просто боялся толпы, боялся людей – и мечтал о лаборатории.
Так вот, мое бюро прогнозов и есть своего рода лаборатория, где обрабатывают и обобщают материалы, касающиеся определенных жизненных процессов, как это делают биологи. Теория вероятности – это наука, но она становится еще и искусством, когда ее применяют к отдельным индивидам.
Я давно собирался рассказать тебе обо всем этом и чувствую сейчас ту же гордость, с какой когда-то показывал тебе свой кабинет.
Знаешь ли ты, например, что нет такого открытия в медицине, которое не отразилось бы немедленно в наших вычислениях? Самое ничтожное изменение в обычаях, нравах, в потреблении продуктов питания и напитков заставляет нас заново пересматривать наши расчеты. Теплая или, наоборот, очень холодная зима иной раз означает для прибылей компании разницу в сотни миллионов. Я уж не говорю об увеличении количества автомашин, о появлении на кухнях все более сложных электрических приборов и т. д.
Кажется, будто все, что живет и движется там, снаружи, вся эта толпа, кишащая под моими окнами и в других местах, просачивается в мой кабинет, чтобы, пройдя через электронный мозг, превратиться в несколько точных цифр.
Вряд ли в шестнадцать лет можно почувствовать в этом поэзию, так что для тебя я, вероятно, так и останусь господином, избравшим в жизни наиболее легкий путь. Что ж, в конце концов, может, ты и прав.
Подозреваю даже, что ты считаешь меня человеком, которому просто не хватает мужества жить другой, настоящей жизнью, и что именно поэтому я запираюсь каждый вечер в своем «кавардаке». В гости я хожу редко. Реальные живые люди, люди из плоти и крови, мне не очень интересны, я от них устаю, вернее, устаю от усилий, которые прилагаю, чтобы выглядеть достаточно респектабельным. Может быть, это объяснит тебе, почему, когда у нас бывают гости, я всякий раз норовлю улизнуть в свой кабинет.
Считается, что я там работаю, что я вообще «замучил себя работой». Это неверно. Правда, иной раз передо мной на столе разложены служебные материалы, но это для вида, на самом деле я украдкой, словно прячась от самого себя, читаю какую-нибудь книгу, чаще всего мемуары, а случается, и вовсе ничего не делаю.
Сколько я ни наблюдал за тобой в течение многих лет, я так и не смог разобраться, как ты относишься к маме: больше ли она устраивает тебя, чем я? Я хочу сказать, соответствует ли она тому типу женщины, которую ты выбрал бы себе в матери, если бы мог выбирать?
Она более ласкова и вместе с тем более строга с тобой. Если ей случается тревожиться за тебя, то совсем по другим причинам, нежели мне.
Судя по ее словам и поступкам, ей всегда все ясно, она решительно все о тебе знает, и не только о том мальчике, какой ты сейчас есть, но и том человеке, которым ты долженстать. Я уверен даже, что ей уже теперь известно, какая тебе понадобится жена, – ее весьма устроила бы невестка вроде Мирей, отец которой со временем будет министром, а может быть, и председателем Совета.
Я не сержусь на маму, надеюсь, ты понимаешь это? Но ты уже достаточно взрослый и достаточно наблюдателен, чтобы понять, что нас с ней никак не назовешь счастливой парой. Нельзя сказать, что мы несчастливы друг с другом, но отношения наши совсем не таковы, какими им следовало быть…
Мы при тебе редко ссорились, теперь же и вовсе не ссоримся, просто стараемся поменьше быть вместе.
Мы об этом не договаривались, это вышло как-то само собой, постепенно и, по-моему, началось через несколько недель, а может быть, и месяцев после нашей свадьбы, так что мы, собственно, никогда не служили тебе примером истинного супружества.
Я ни в чем не обвиняю твою маму. Виноват только я, потому что я ошибся, ошибся и в отношении себя, и в отношении ее.
Пришло ли время рассказать тебе об этом? Не слишком ли рано переношусь я так далеко назад?
Эти страницы не претендуют на связное изложение событий – прежде всего я на это не способен и потом боюсь, как бы рассказ мой не получился слишком сухим, а тогда уж он наверняка не достигнет своей цели.
Я начал с твоего дедушки, потому что именно на похоронах дедушки пришла мне мысль рассказать или написать тебе обо всем. И еще потому, что он – краеугольный камень того шаткого здания, каким является наша семья. Наконец, ведь это он – главное действующее лицо трагедии, разыгравшейся в Ла-Рошели.
Твоя мама, которую в 1928 году я еще не знал, появилась позднее, в тридцать девятом, когда трагедия была завершена и судьбы наши определены.
Мы с ней уже не были неопытными юнцами – и мне и ей минуло тридцать, и у каждого было свое прошлое.
Она честно рассказала мне о своем прошлом, я тоже не скрыл от нее того, что произошло в Ла-Рошели.
Если бы я не писал, а говорил, если бы я не был почти уверен, что эти страницы попадут к тебе лишь через много лет, я бы кое о чем умолчал. Впрочем, я убежден, что поступил бы неправильно. Но зато в соответствии с общепринятыми условностями, согласно которым мать в глазах детей должна быть не живой женщиной, а каким-то непогрешимым существом.
Ты ведь не станешь меньше любить ее оттого, что о ней узнаешь. Один я рискую, рассказывая тебе о себе всю правду.
В общем-то пустячный случай, но из-за него я вынужден вновь прервать свои воспоминания… Хочу сразу же написать о нем, потому что случай этот имеет непосредственное отношение к твоей маме, к ней и к тебе, попытавшемуся вступить с ней в единоборство. Забавное совпадение, не правда ли? Ведь о маме я писал и в прошлый раз, в пятницу, перед сном. Вчера была суббота, мы с ней ходили в театр, вдвоем, потому что ты так редко изъявляешь теперь желание ходить с нами куда-нибудь, что мы перестали тебя звать. Ты отправился к товарищам на какой-то «сюрбум», – слово это возмущает твою маму, хотя оно такое же нелепое и такое же французское, как слово «party», [8]8
Вечеринка (англ.).
[Закрыть]которое нынче в ходу у взрослых.
Сегодня воскресенье, погода с утра чудесная, и хотя на дворе ноябрь, холодный воздух свеж и солнце яркое, как в январе. К полудню стало пригревать, и мадемуазель Огюстина на несколько минут выставила за окно свою герань, словно вывела на солнышко выздоравливающего.
Твоя мама по воскресеньям всегда более нервна, чем в остальные дни, потому что по воскресеньям не вся прислуга на месте и ей волей-неволей приходится умерять свою активность, оставаясь утром дома. Г-жа Жюль, которая ведет наше хозяйство, в эти дни свободна, а Эмили, хоть и не верует, неукоснительно пользуется своим правом сходить к воскресной мессе. И очевидно, чтобы мы не забывали об этом ее праве, она с самого утра наводит красоту, будто собралась в гости, и распространяет вокруг себя запах косметики, сладковатый и вместе с тем вызывающий.
Обычно воскресным утром, а то еще и в субботу вечером, обсуждается вопрос, что мы будем делать после обеда. Не может быть и речи, чтобы провести вечер дома вдвоем. Между тем улицы запружены машинами, у театров толпа народа, магазины закрыты, а с друзьями, которые в это время года охотятся или отдыхают в своих загородных домах, никак не связаться.
Позвонив двум-трем приятелям и так никуда и не дозвонившись, твоя мама решила, что на худой конец можно провести сегодняшний вечер с супругами Трамбле.
Ты их знаешь. Доктор Трамбле, очевидно, ненамного старше меня, хотя из-за полноты ему можно дать все пятьдесят пять, к тому же он совсем не следит за собой.
Его жена, этакая сдобная булка, на несколько лет моложе его. Многие считают, что они только о еде и думают.
Может быть, и тебе они кажутся смешными со своими кулинарными рецептами, которые они обсуждают с видом заядлых гурманов; особенно смешна она – ее седеющие волосы выкрашены в ярко-рыжий цвет, голосок пронзительный, и каждую минуту она испускает какое-то невероятное кудахтанье, право, я ни у кого больше не слышал такого странного смеха.
А знаешь, в их жизни тоже не все гладко: у них несовместимые группы крови, они потеряли одного за другим четырех детей.
Прийти к нам после обеда они не могли, потому что Трамбле сегодня дежурит, но они пригласили нас к себе на улицу Терн запросто, по-соседски, сыграть две-три партии в бридж. Гостиная, в которой они нас обычно принимают, в остальные дни недели служит приемной, где ожидают больные, по всем углам навалены груды журналов и тех изданий, которые почему-то встречаешь только в приемных врачей.
Сегодня утром я не писал, у меня в самом деле была срочная работа. Часам к одиннадцати луч солнца, дотянувшись до моего стола, заиграл на нем, и я сразу же вспомнил, что писал тебе о темных и светлых периодах жизни.
Мы уже садились обедать, когда зазвонил телефон, и мама сняла трубку с таким видом, словно ждала услышать что-то неприятное.
– Алло! Да, это я. Да, он дома. Хочешь поговорить с ним?
Я сидел далеко от телефона, но сразу же узнал рокочущие интонации твоего дяди Ваше.
– К сожалению, это невозможно, Пьер. Мы с Аленом приглашены к друзьям на бридж и уходим сразу после обеда.
Мы с тобой молча сидели перед своими тарелками с салатом, не притрагиваясь к еде, и пристально смотрели на солнечные блики, игравшие на скатерти.
– Так, понимаю… А нельзя отложить до завтра?
Он что-то долго объяснял, она слушала, сосредоточенно глядя перед собой.
– Да, конечно. Погоди минуту, сейчас я с ним поговорю.
Она прикрыла трубку рукой.
– Звонит Пьер, ему непременно нужно встретиться с тобой сегодня после обеда, чтобы окончательно договориться насчет наследства. Во вторник он улетает в Англию и уже условился по телефону с нотариусом на завтра. Я сказала, что мы приглашены на бридж, но он настаивает.
Я пожал плечами. Эта история с наследством мне противна, я был бы рад как можно скорее покончить с ней.
– Что ж, позвони Трамбле, скажи, что у нас неожиданно изменились обстоятельства, вот и всё, – сказал я.
– Как это похоже на Пьера! Предупредить в последнюю минуту! Алло, Пьер! Ты слушаешь? Нам страшно неловко перед нашими друзьями, они на нас рассчитывают, но раз уж нельзя иначе… Что? Что ты говоришь? Минуточку… – Она обернулась ко мне – Где мы встретимся? У нас или на набережной Пасси?
Ей, конечно, хотелось, чтобы встреча состоялась у Ваше, все-таки это было бы что-то вроде визита. Но я решительно сказал:
– У нас.
Кажется, она поняла почему и не стала настаивать. Я – сын покойного Лефрансуа, Ваше – его зять, и только. Я зол на него уже за то, что он впутался в эту историю с наследством, которое не имеет к нему отношения, так пусть по крайней мере соблаговолит явиться сюда. Видно, и он тоже это понял. А то вообразил, что, если он известный, чуть ли не знаменитый писатель, все должны плясать под его дудку!
Нравятся тебе такие люди? Соблазняет подобная карьера? Приятно тебе сказать, когда ты застаешь товарища с его романом в руках или читаешь о нем в газетах: «А ведь это мой дядя!»?
Мы с ним принадлежим к одному поколению, ведь он всего на четыре с половиной года старше меня. Человек поистине неуемный, все-то он успевает, ко всему причастен – и к театру, и к кино, и к политике, да еще состоит членом множества комитетов…
Даже моя сестра Арлетта, которая в начале их супружеской жизни довольствовалась тем, что покорно отстукивала на машинке его рукописи, и та к сорока годам вдруг возжаждала собственной славы и тоже принялась писать. Печаталась сначала в женских журналах, потом и в других, так что теперь на литературные приемы их приглашают порознь и каждый из них представляет самого себя.
У меня будет еще повод говорить о них, это неизбежно, ибо в трагедии 1928 года они были не только свидетелями. Пьер Ваше, только что женившийся тогда на моей сестре, был в ту пору начальником канцелярии в префектуре Шарант-Маритим. Четвертый отдел, вторая канцелярия (Общественные работы и строительство)… Удивительно, как это я припомнил все эти названия, я-то был уверен, что начисто их забыл…
Это был рыжеватый блондин, худощавый, с недобрым лицом. С тех пор он несколько пополнел, но выражение лица не изменилось, и то, что у него теперь совершенно голый череп, не старит его и лишь подчеркивает это недоброе выражение.
– Начинайте обедать, я только предупрежу Трамбле!
Зато твоя мама – пишу об этом без всякого раздражения – очень горда своим родством с человеком, о котором столько говорят, и огорчается, что он так редко у нас бывает, а по правде говоря, не бывает вовсе, только при случае посылает контрамарки на генеральную или на премьеру.
– Мой зять, ну да вы знаете, Пьер Ваше… он во вторник улетает в Англию, у него там выступления… Спасибо, Ивонна! Вы старые друзья, с вами я не церемонюсь…
Я предвидел, что кому-то придется платить за эту несостоявшуюся партию в бридж, но никак не ожидал, что это будешь ты. Я-то был уверен, что козлом отпущения окажется Эмили, которая как раз подавала на стол, распространяя вокруг свой тошнотворный запах. Но мама вдруг обратилась к тебе.
– А ты что собираешься делать после обеда? – спросила она, разворачивая салфетку.
– Не знаю, – отвечал ты рассеянно.
– Пойдешь куда-нибудь?
Ты удивился – по воскресеньям ты редко сидишь дома.
– Вероятно.
Должен тебе сказать, ты иногда, хотя бы и сегодня, держишься возмутительно. Я уверен, ты грубишь не нарочно, а то ли по наивности, то ли по рассеянности. Ты попросту не понимал, почему вдруг тебе задают такие вопросы, ведь обычно по воскресеньям никто тебя ни о чем не спрашивает. И твое лицо сразу приняло упрямое выражение.
– Вероятно или пойдешь?
– Не знаю, мама.
– В кино?
– Может быть.
– С кем?
– Еще не знаю.
– Не знаешь, с кем пойдешь в кино?
Я-то хорошо помню себя в твои годы и понял тебя, но я понимаю и раздражение твоей матери. Взрослым людям трудно поверить, что такой великовозрастный балбес не знает, что станет делать через несколько часов. В твои годы мне случалось выходить из дому безо всякой цели, и я почти бессознательно шел туда, где скорее мог встретить товарищей, – к ближайшему кино или кафе или на облюбованную нами улицу, по которой можно слоняться взад-вперед. Ни с кем заранее не уславливаешься, никаких телефонных звонков… А никого не встретишь – толкнешься к кому-нибудь из ребят, к одному, другому, пока не застанешь дома. Так, во всяком случае, бывало со мной.
Ты ответил, не поднимая головы от тарелки:
– Да, не знаю.
– А куда ты вообще ходишь по воскресеньям?
– Как когда.
– Ты не хочешь нам сказать, где ты проводишь время?
Ты все больше замыкался в себе, твои глаза стали совсем черными.
– Я повторяю: как когда.
Одно из двух – или у девушек все иначе, или твоя мама забыла собственную молодость, потому что она упорно продолжала настаивать, не понимая, как необходима юным своя, потаенная жизнь. Кстати, когда пяти лет ты пошел в школу и по вечерам я спрашивал тебя, что ты там делал, ты отвечал односложно:
– Ничего.
– У тебя нет друзей?
– Почему? Есть.
– Кто они?
– Не знаю.
– Что вам сегодня объясняли?
– Разное.
Уже тогда у тебя была инстинктивная потребность в собственной жизни, не подвластной нашему контролю.
Очевидно, если хорошенько подумать, именно с этой потребностью ни одна мать не может примириться.
– Нет, ты слышишь, что он мне отвечает, Ален?
– Слышу.
Что я мог еще сказать?
– И ты считаешь в порядке вещей, чтобы шестнадцатилетний мальчишка не желал сказать своим родителям, где и с кем он проводит время?
– Но послушай, мама… – начал ты, должно быть уже готовый уступить.
Слишком поздно! Фитиль был подожжен, уже ничто не могло предотвратить неминуемого взрыва.
– Я имею право, слышишь ты, это даже мой долг требовать у тебя отчета, раз твой отец не считает нужным тобой заниматься.
Ты спросил, слегка побледнев:
– Я должен докладывать тебе всякий раз, как иду в кино?
– А почему бы и нет?
– И всякий раз, как иду к товарищу или…
– Да, всякий раз.
– Ты знаешь молодых людей, которые это делают?
Вы оба были накалены до предела.
– Надеюсь, что так поступают все, во всяком случае все приличные молодые люди.
– Значит, среди моих товарищей нет ни одного приличного молодого человека.
– Потому что ты плохо выбираешь себе товарищей. Так вот, имей в виду, пока ты живешь в нашем доме, ты обязан отдавать нам отчет в каждом…
У тебя задрожала нижняя губа, совсем как в детстве, в минуты сильного волнения. Я всегда знал, что в эти минуты ты готов заплакать и только из гордости сдерживаешься. Ты редко плакал при нас, помню, лишь однажды – тебе было года три – я обнаружил тебя плачущим в стенном шкафу, где мы, очевидно, нечаянно тебя заперли. Ты тогда крикнул мне сквозь рыдания: «Уходи! Я тебя не люблю!» И когда я стал вытаскивать тебя из шкафа, ты брыкался, а потом в бессильной ярости вцепился зубами мне в руку. Помнишь, сынок?
Маму ты не укусил, ты только вдруг стремительно поднялся, напряженный, не зная еще, что сейчас будешь делать. Нерешительно посмотрел на нее и наконец выдавил:
– В таком случае я уйду немедленно.
Ты подождал с минуту, думая, что тебя начнут удерживать, но мама, ошеломленная твоей выходкой, молчала. Я же тщетно делал тебе знаки успокоиться – ты не смотрел в мою сторону.
Теперь тебе ничего не оставалось, как уйти из столовой, и, уходя, ты вдобавок хлопнул дверью, а потом ринулся в свою комнату.
– Нет, ты слышал? – бросила мне твоя мать.
– Да.
– Я всегда тебя предупреждала. Вот плоды твоего воспитания.
Я молчал, а бедняга Эмили, сбитая с толку, стояла в недоумении, не зная, убирать ей со стола или нет.
– Подавайте десерт, Эмили, – сказала мама и, обращаясь ко мне, добавила – Ты молчал. Ты слушал его с сочувствующим видом. Потому что, я знаю, ты ему сочувствуешь. Ведь сочувствуешь, да?
Не мог я сказать ей: «Да». Но я не хотел лгать и не сказал: «Нет».
– Надеюсь, по крайней мере ты накажешь его хотя бы за то, что он позволил себе так со мной разговаривать. И будь я на твоем месте, я прежде всего запретила бы ему уходить сегодня из дому.
Я встал.
– Куда ты?
– Пойду скажу ему.
– Что скажешь?
– Что запрещаю ему уходить из дому.
– Будешь его утешать, конечно.
– Нет.
– Будешь, будешь, не словами, так всем своим видом.
Я не ответил и вышел из комнаты. Дальнейшее тебе известно, если только ты еще помнишь, – я все забываю, что ты, вероятно, будешь читать это через много лет.
Ты лежал на своей постели, очень длинный, уткнувшись в подушку. Но ты не плакал. Ты узнал мои шаги – и не пошевелился.
– Послушай, сын…
Ты слегка повернул голову, ровно настолько, чтобы освободить рот; мне виден был лишь твой утонувший в подушке профиль.
– Я не хочу, чтобы вы со мной разговаривали: ни ты, ни…
– Я пришел сказать, что запрещаю тебе сегодня выходить.
– Знаю.
Мы молчали, и скрип пружинного матраса в этой тишине казался оглушительным. Я колебался, должен ли я еще что-нибудь сказать, когда ты произнес немного хриплым голосом:
– Я никуда не пойду.
Пожалуй, за все шестнадцать лет, что мы живем рядом, никогда мы не были так близки. И хотя окна твоей комнаты выходят во двор и она довольно темная, в моей памяти она навсегда останется словно озаренной солнцем этого воскресного дня.
Украдкой я ласково коснулся твоего плеча и вышел, бесшумно затворив за собой дверь.
– Что он сказал?
– Он останется дома.
– Он плачет?
Я хотел было солгать, потом все же сказал: «Нет».
Часа в четыре – мы уже некоторое время беседовали в гостиной с Ваше и моей сестрой – я, шагая взад и вперед по комнате, шепнул, проходя мимо твоей матери:
– Ты не забыла о Жан-Поле?
Она вопросительно взглянула на меня… Глазами я показал ей на окна, за которыми уже садилось солнце. И спросил одними губами:
– Да?
Она поняла.
– Сейчас, – сказала она и вышла.
Те двое – у них детей нет и они их не хотят, – растерянно переглянулись. Я только сказал:
– Небольшая семейная драма.
И налил в стаканы виски, ибо Ваше и моя сестрица пьют только виски – из снобизма или в самом деле предпочитают его другим напиткам, это уж их дело.
Когда мама вернулась в гостиную, у нее было умиротворенное лицо.
– Он сейчас зайдет поздороваться с вами, прежде чем уйти, – сказала она, обращаясь к ним.
И потом еще некоторое время избегала встречаться со мной взглядом.
Когда ты ушел, прерванный разговор возобновился, но я больше молчал, поскольку защиту наших интересов взяла на себя мама, которая делала это лучше, чем сделал бы я.
Пьер Ваше зарабатывает побольше меня, да и сестрица моя, грех жаловаться, тоже неплохо зарабатывает, но живут они не по средствам, так что твоя тетушка не раз забегала ко мне на службу перехватить деньжонок до конца месяца – правда, последние два года этого не случалось.
Еще когда мы хоронили мою мать, Ваше спросил меня с невинным видом:
– Ты, я полагаю, не собираешься жить в этом домишке?
Я не мог ответить, что собираюсь, потому что действительно не собирался – уже давно парижане не выезжают на лето в Везине.
В то время дедушка твой был еще жив; и тем не менее мне стало известно из надежного источника – работая в страховой компании, многое узнаешь, – что твой дядя связался с компанией по продаже недвижимого имущества, имея в виду возможную продажу виллы.
Он не подозревал, что мне это известно. Я и сегодня промолчал, когда он заявил:
– Один мой приятель, весьма, кстати, деловой человек, спрашивал меня, каковы наши намерения. Он уверяет, что сейчас благоприятный момент, за виллу могут дать хорошую цену.
Твоя мама, хотя я не говорил ей о том, что мне стало известно, многозначительно взглянула на меня – она сразу смекнула, в чем дело. Сама вилла в ее теперешнем состоянии мало чего стоит, зато она имеет определенную ценность из-за земельного участка. На улице, где она стоит, вокруг старых домов уже возвышаются новые шестиэтажные здания. Здесь собираются создать современный ансамбль, а для этого понадобится снести виллу «Магали».
Хотя в этой вилле умерли мои родители, я примирился с этой необходимостью, вот только никак не мог справиться со своим лицом – на протяжении всего нашего разговора оно было таким же отчужденным, как твое, когда ты сегодня бунтовал против своей матери.
Понятно, почему Ваше так хлопочет и так заинтересован в этой продаже, мне говорили, что компания обещала ему в качестве комиссионных некоторое количество акций.
Вместе с Ваше твоя мама прикидывала стоимость дома, выискивала способ, как обойти закон и поменьше заплатить казне.
Договорились, что завтра мы идем к нотариусу. Поскольку отец не оставил завещания, его имущество должно быть разделено поровну между мной и Арлеттой.
Все это и само по себе было довольно неприятно, но окончательно я накалился, когда Ваше, держа в руке стакан с виски, начал небрежным тоном:
– Да, нам нужно еще договориться о книгах, ведь прочее имущество, очевидно, пойдет с торгов?
«Прочее имущество», которое собирался продавать с торгов твой дядя, – это те немногие вещи, среди которых отец и мать провели последние свои годы.
– За исключением маминого ночного столика с инкрустациями, – не постыдилась вмешаться сестра, – мама мне его давно обещала. Я не взяла его тогда, после ее смерти, но теперь…
– Тебе известно, Ален, что этот столик был обещан Арлетте? – спросила меня твоя мать.
Я ответил сухо и решительно:
– Нет!
– Но послушай, Ален! Ты вспомни, когда мы еще жили в Ла-Рошели…
– Нет!
– У тебя плохая память. Хотя ты так мало знал маму…
– Меня интересует, что хотел сказать твой муж по поводу книг.
– Просто я хотел предложить тебе одну вещь, но ты, по-видимому, не в духе.
– Я слушаю.
– Говорить?
– Да.
– Я лучше, чем ты, знаю библиотеку твоего отца – ведь там, в Ла-Рошели, я был уже женатым человеком, написал свой первый роман, а ты еще был студентом и мало чем интересовался. Поприще, которое ты себе избрал, имеет отношение к управлению, к науке, если угодно, а твоего отца интересовали в основном исторические мемуары, философские сочинения…
На самом деле моего отца интересовали все книги. Он ведь был еще и библиофилом, не пропускал в Ла-Рошели ни одного книжного аукциона, которые происходили по субботам в зале Минаж. У него, так же как и у меня, было свое убежище, только не «кавардак», а великолепный кабинет, в котором все стены были уставлены книгами в роскошных переплетах.
Книги эти составляли излюбленную тему его разговоров, они были с ним до последнего его часа, и, вероятно, именно они помогли ему прожить вторую половину жизни.







