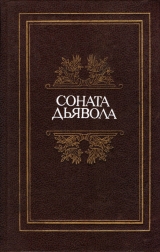
Текст книги "Соната дьявола: Малая французская проза XVIII–XX веков в переводах А. Андрес"
Автор книги: Жорж Сименон
Соавторы: Марсель Эме,Жерар де Нерваль,Шарль Нодье,Жак Казот,Катюль Мендес,Жан-Франсуа де Лагарп
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц)
Пожалей меня в моих несчастьях!
9 мая
Я еще не рассказывал тебе, что во время моего последнего визита в замок Валанси речь зашла о мезальянсах, в связи с этим беспутным Сублиньи, который недавно окончательно упрочил свою славу сумасброда, женившись на танцовщице. Воспользовавшись этим поводом, я высказал свое мнение, и с горячностью, которую, так же как и обилие мыслей об этом предмете, можно объяснить скорее некоторыми обстоятельствами моего положения, чем значительностью самой темы. Я сказал, что считаю действительно непростительными и несообразными с пользой общества лишь те мезальянсы, в которых неравенство относится к нравственным качествам, и что такой брак – явление весьма необычное, ибо редко случается, чтобы прекрасная душа не прилепилась к себе подобной, как говорит Шекспир, или так долго находилась под властью обманчивой внешности, чтобы грустное счастье разочарования не выпало ей на долю прежде, чем она свяжет себя узами торжественного обряда; что же до мезальянса в том принятом у нас значении слова, которое подразумевает лишь разницу сословий, то такой брак может вызвать негодование только у людей, которые, придерживаясь самого нелепого и возмутительного из предрассудков, присваивают одному определенному сословию некие особые или, лучше сказать, исключительные права; что, поскольку я не знаю никого, кто осмелился бы утверждать, будто добродетели подкрепляются титулами или приобретаются вместе с привилегиями, я не понимаю, почему человек с чувствительной душой не имеет права искать свое счастье всюду, где есть добродетель, – а ведь только она и может дать счастье; что я нахожу нелепым и до крайности жестоким обрекать привлекательную женщину, наделенную всеми достоинствами и всеми прелестями, на невозможность когда-либо принадлежать любимому ею человеку только потому, что эта несчастная волей случая лишена того преимущества, которое само по себе является делом случая и не может заменить – даже в свете – тех преимуществ, какими щедро наградили ее природа и воспитание; что если люди, одаренные большими талантами, всегда отмечены в глазах современников и потомков безусловной печатью благородства, то не меньшее право на почет и уважение добродетельных умов имеют все те, кто скромно несет свои куда более трудные обязанности перед лицом религии и нравственности в частной жизни, – и что, следовательно, я никогда не позволил бы себе осуждать брачный союз, подобный тому, о котором идет речь, если бы знал, что в нем есть та счастливая гармония взглядов и характеров, которая и является единственным верным залогом семейного счастья и благополучия.
Вероятно, мои рассуждения показались г-ну де Монбрёзу вовсе недостойными ответа, ибо он лишь строго посмотрел на меня, но не произнес при этом ни слова, и я заметил вслед за тем, что он повернулся к Эдокси с видом единомышленника, выражая на своем лице что-то вроде горького презрения. Сама же Эдокси, чьим убеждениям я бросил явный вызов, – казалось, не придала моим словам достаточного значения, чтобы соблаговолить оспаривать их всерьез; она ограничилась несколькими обычными в таких случаях избитыми мыслями, высказанными в изящной форме и с тонкой иронией, которые придавали им больше приятности, чем убедительности. Адель слушала меня с волнением: щеки ее горели, и она избегала встретиться со мной взглядом. Г-жа Аделаида вначале смотрела на меня с улыбкой, однако затем лицо ее приняло более строгое, чем обычно, и, боюсь даже сказать, более печальное выражение. Когда я кончил, она мягко стала возражать мне, ласково выговаривая за мой запальчивый тон и за восторженность, с которой я высказывал самые странные, по ее мнению, и нередко самые пагубные взгляды. Она посетовала, что люди моего поколения склонны так легковерно усваивать и распространять софизмы, все последствия которых они не могут достаточно предвидеть, а между тем эти ложные идеи постепенно ведут к извращению истинных понятий. Признавая, что в моих словах кое-что было справедливо с точки зрения благородных чувств, она вместе с тем настоятельно советовала мне поразмыслить о причинах и последствиях обычая сочетаться браком с равным себе – обычая, заслуживающего уважения уже вследствие того влияния, какое он оказывал на наших отцов, да и по той причине, что он приобрел характер почти религиозного установления, будучи освящен веками, на приговоре которых зиждется в конечном итоге вся мудрость общества; она присовокупила к этому (тоном, в котором были мягкость и покорность, но отнюдь не страстная убежденность), что долг доброго гражданина – подчиняться существующим установлениям, не пытаясь спорить с ними, и что, поскольку люди, будучи существами несовершенными, вынуждены отдавать дань известным заблуждениям, освященным необходимостью или требованиями времени, мудрые и честные сердца должны ради пользы человечества подчинять свой разум всеобщему порядку.
Возможно, что она и права. Но чего бы я не дал, чтобы исчезло даже воспоминание об этой еще различимой границе, которую случайность рождения провела между несколькими родами и великой человеческой семьей, чтобы забыть обо всем том, что заставляет меня подчиняться помимо собственной воли какому-то особому порядку, налагает путы на свободу моего сердца; кладет запрет на мои самые естественные и самые сладостные чувства; чтобы исчезло то, что разлучает меня с Аделью, разлучает со счастьем!
Разлучает! О варварский предрассудок! Да падет на тебя гнев всех тех, кто обладает верной и чувствительной душой!
Разлучает! А ведь я прошел бы через весь земной шар ради одного поцелуя ее уст!
Разлучает! О, приди, приди же на грудь к Гастону, бедная сиротка, отверженная людьми! Доверься ему, и, клянусь тебе в этом невинностью и чистотой твоей ангельской души, никакие силы ада уже не смогут разлучить нас!
16 мая
Никогда еще я так усердно не посещал маленькую рощу, как в эти последние дни, и никогда еще мой гербарий не обогащался так медленно. Это очень удивляет Латура, который проявляет к моему гербарию такой же интерес, как и ко всем остальным моим развлечениям, хотя не обо всех из них я считаю нужным сообщать ему. Тебя же это не удивит, ибо ты хорошо помнишь, что через эту рощу каждый день, в один и тот же час, проходит Адель, и понимаешь, что мне может быть хорошо только там, где я могу надеяться встретить ее. Ты также заметил уже, что между этим моим письмом и предыдущими лежит немалый промежуток времени, и, вероятно, вывел из этого заключение, что обилие впечатлений и событий, случившихся в эти дни, заставило меня позабыть о самых излюбленных моих занятиях. Все это действительно так, дорогой Эдуард, и тем не менее я не могу сообщить тебе ничего нового о своей жизни, ибо любовь моя для тебя уже не новость, а единственно в ней и состоит сейчас вся моя жизнь.
Я уже рассказал тебе о происхождении Адели то немногое, что мне удалось почерпнуть в неясных людских толках. От г-жи Аделаиды я узнал немного больше, но все же еще недостаточно для того, чтобы удовлетворить мое любопытство, которое я к тому же боялся проявить слишком открыто. И вот наконец давеча, провожая Адель от рощицы до селения, я заговорил с нею об этом, заговорил со всей той осторожностью, которой требует такого рода деликатный вопрос; и так как ее рассказ может представить интерес даже для людей, совершенно чуждых тому, что занимает меня, я хочу, чтобы ты услышал эту повесть из собственных уст Адели, в том виде, в каком услышал ее я сам. Прости меня, если, передавая ее безыскусственную речь, я не смог достаточно сохранить ее естественную прелесть и тот оттенок простосердечной и трогательной доверчивости, которые придавали ее рассказу еще большее очарование. Бывают вещи, которых не выразить словами.
«Мой отец, – так начала Адель, – родился в Валанси, в семье состоятельных землевладельцев. Звали его Жак Эврар. И по уму, и по всем наклонностям своим он уже в детстве обещал стать человеком недюжинным, и потому родители решили дать ему приличное воспитание, которое помогло бы ему достичь в жизни более блистательного положения, чем то, которое выпало на их долю. Прилежание его всецело оправдывало их надежды, но все оказалось напрасно. Многочисленные бедствия, одно за другим, свалились в то время на моего деда: несколько неурожайных лет, последовавших одно за другим и истощивших все его запасы, которые он не смог уже восполнить; два пожара, во время которых сгорели сначала амбар, затем дом; наконец, проигранное судебное дело, от исхода которого зависело все сохранившееся еще у него состояние, – все это превратило его из богатого человека в бедняка. Теперь уже невозможно стало осуществить все те планы, которые строились вначале относительно моего отца; от них пришлось отказаться, и, чувствуя себя еще несчастнее оттого, что рушились его надежды покинуть свое селение, он с отчаяния завербовался в солдаты.
Полк, в который он вступил, стоял тогда лагерем в Сомюре. В ту пору мой отец был еще очень молод; у него было привлекательное лицо, в котором находили черты благородства; он отличался беззаветной храбростью и обладал множеством тех приятных талантов, какие обычно открывают доступ во всякое общество. Он пользовался благосклонностью своего полковника и других офицеров, его уже два раза повышали в чине, и хотя такое быстрое продвижение было на военной службе делом необычным, оно не вызывало ни малейшего недовольства со стороны его товарищей, искренне отдававших должное его высоким качествам. И понемногу почти все его начальники стали уже заранее видеть в нем человека, равного им по положению. Случилось так, что одна девушка весьма знатного рода, жившая в этом городе, подарила его своим вниманием и, сама не отдавая себе сначала отчета в своем чувстве к нему, так усвоила милую для себя привычку видеть его, что сердце ее не могло уже обходиться без этих встреч. Вскоре она поняла, что эта потребность – не что иное, как любовь, но поздно было уже бороться с ней; так, во всяком случае, думала она, и точно так же думал мой отец. Что сказать вам еще, господин Гастон? Так, в итоге ошибки, я появилась на свет.
Мать моя не смогла скрыть свой грех от родителей; они были люди мягкие и добрые, но все же гордость их не могла допустить, чтобы грех их дочери покрыл Жак Эврар. Были приняты необходимые меры для того, чтобы никто не узнал о моем рождении; мою кормилицу вместе со мной отправили в это далекое селение, где я и была крещена при заботливом участии госпожи настоятельницы. Вы догадываетесь, что селение это было выбрано не случайно: моей матери приятна была мысль, что я буду расти на глазах у своего отца, пекущегося обо всех моих нуждах. Срок его службы к тому времени уже истек, и все свои надежды на будущее он, не задумываясь, принес в жертву возможности никогда больше не разлучаться со мной и наблюдать, как я все больше и больше становлюсь похожей на избранницу его сердца. Любовь его не остановилась перед еще большими жертвами. Мог ли он чувствовать себя счастливым, не смея назвать меня своей дочерью? Моя молодая кормилица – несчастная жертва обманутой сердечной склонности – считалась моей матерью и его женой. Одна лишь госпожа Аделаида была посвящена в эту тайну; она глубоко сочувствовала его несчастьям.
Так я росла, и детство мое не было безрадостным. Оно было согрето и дружественным расположением моей крестной, и внимательной, подлинно материнской заботой кормилицы, имевшей в моих глазах еще более священные права на благодарность, а главное – любовью моего доброго отца. Но только когда он, бывало, вернувшись с полевых работ, обнимал меня, я чувствовала не раз, как льются на меня его слезы; впрочем, это не тревожило меня – я думала, что он плачет от радости.
Между тем моя настоящая мать не забывала нас. Она часто писала отцу, изливая ему свою скорбь и делясь своими надеждами. И вот на третий или четвертый год революции, когда ее отец отправился служить королю в вандейской армии, она, оставшись одна в Сомюре, решила воспользоваться представившейся ей свободой для того, чтобы повидать меня (мать ее к этому времени уже умерла). Каким счастливым для нашей маленькой семьи был тот день, когда мы неожиданно узнали о предстоящем путешествии! Правда, я была слишком еще мала, чтобы ясно понимать все эти обстоятельства, но отец, насколько мог, объяснил мне их, и после недолгих сборов, которые все же казались ему недостаточно короткими, мы пустились в путь. И вот наконец я возвращена той, которой обязана жизнью, и могу вернуть ей ту нежность, что так долго принадлежала другой; однако я не отнимала мою привязанность и у этой другой, и мать мою это вовсе не огорчало – она с удовольствием наблюдала за тем, как удается мне сочетать чувства, подсказанные долгом благодарности, с теми, что подсказываются мне природой. Я была так счастлива и окружена такой любовью! Зачем надо было, чтобы все это кончилось так скоро!..
Мой отец принял в то время решение, достойное его благородной души, и мать моя одобряла его намерения. Гражданская смута, доведенная до высшей своей точки, открывала перед людьми решительными возможность быстро завоевать себе положение в обществе, и он не терял надежды снискать столь высокие награды, чтобы моему деду уже не казалось, будто он роняет свою дворянскую честь, давая согласие на его брак с дочерью. Вот почему он покинул нас, полный надежд, что мы скоро снова свидимся, чтобы никогда уже больше не расставаться.
На время его отсутствия матушка отдала меня в пансион, где часто навещала меня. Я считалась там ее дальней родственницей, оставшейся круглой сиротой, и ко мне относились столь же заботливо, как если бы известны были наши подлинные отношения. Когда мы оставались одни, она говорила мне о моем отце, и мы подолгу вместе плакали. Через несколько месяцев я стала замечать, что у нее были еще и другие горести, которыми она со мной не делилась, но, не зная, в чем дело, я могла лишь потихоньку скорбеть об этом и ни о чем ее не спрашивала. И вот наступил день, когда она больше не пришла; протекла неделя, другая; миновал месяц; я спрашивала у всех, почему ее нет, – никто не мог ответить мне. Тогда я поняла, что напрасно жду свою мать, что счастью моему пришел конец.
Между тем вот что произошло: надежды моего отца осуществились. Смелыми подвигами он обратил на себя внимание своих генералов и был назначен командиром дивизии».
«Да, в самом деле! – вскричал я, прерывая здесь рассказ Адели. – Его имя Мариус Эврар». – «Мне, действительно, говорили, – ответила Адель, – что так его называли на войне». – «Да, да, – продолжал я, – я помню все совершенно ясно, словно это было только что. Окруженный главными силами вражеского авангарда, наш генерал уже в полном изнеможении… Убитый под ним конь, падая, увлек и его за собой; тяжело раненный, он ничего не может противопоставить теснящим его врагам, он сопротивляется – но тщетно. И вот внезапно появляется капитан Эврар; он прокладывает себе дорогу через толпу пораженных его отвагой солдат, вырывает окровавленного, лишившегося чувств генерала из рук тех, кто оспаривает друг у друга честь первым поразить его, и, под градом пуль, невредимый возвращается в наши ряды. Да, я помню, за свою храбрость он был произведен в командиры дивизии, несколько дней спустя он куда-то исчез, и все мы были убеждены, что он погиб в какой-нибудь схватке».
«Сейчас я объясню вам, что с ним случилось, – сказала Адель, продолжая рассказывать историю своих родителей с того самого места, где я прервал ее. – Тотчас же после того, как он был удостоен перед всей армией нового назначения, которое ему предстояло еще оправдать, он, не столько гордясь этим отличием, сколько радуясь, что может поставить его на службу своей любви, немедленно поспешил к моему деду, бросился к его ногам и поведал ему о своей вине, своем раскаянии и своих пламенных желаниях. Судите же, какова была радость, сменившая в его душе все волнения и горести, которые отягощали ее в течение стольких лет, когда он услышал, что моя мать дарована ему в супруги. Но ему было мало испытать эту радость одному – он должен был поделиться ею. Сомюр находился неподалеку от штаб-квартиры армии. Наступившие два дня передышки позволяли ему незаметно отлучиться из армии, и он, переодевшись в первое попавшееся платье, как на крыльях полетел в объятия моей матери. Первое мгновение их встречи всецело было полно радости свидания; второе – тревоги и ужаса: Сомюр был в руках республиканцев, и отец мой – вне закона.
Я не открыла вам еще тайной причины той мрачной печали, которую я заметила у моей матери в последний раз, когда она была у меня в пансионе. Некий молодой дворянин, только что покинувший королевское знамя под предлогом какого-то поручения внутри страны и явившийся к матери с письмом от моего деда, в котором тот рекомендовал его в довольно неопределенных выражениях своей семье, осмелился воспылать к ней чувством, которое ей дано было разделить лишь с одним-единственным человеком. Страсть этого чужака тем более была ей в тягость, что все настраивало ее против него и что доходившие до нее слухи заставляли испытывать по отношению к нему недоверие, которое, будь даже ее сердце совершенно свободно, не могло бы быть совместимо с любовью. Однако из уважения к рекомендации отца, чье мнение было для нее нерушимым, а в особенности из прирожденной своей робости, еще усилившейся благодаря столкновению с бешеным, неудержимым характером этого человека, она старалась, насколько было в ее силах, терпеливо сносить его домогательства, не проявляя открыто всей своей неприязни к нему. Он же, убежденный в том, что у него есть соперник, и притом счастливый, ничем не пренебрегал, чтобы отыскать обстоятельства, подтверждающие эти подозрения; и вот гибельная случайность оказала услугу его ревности, приведя его к моей матери в ту самую минуту, когда, прощаясь, она в последний раз обнимала своего супруга. Ничто не может дать представления о том, в какой гнев, в какое бешенство впал этот одержимый при виде человека, похитившего у него сердце, в котором он намеревался царить безраздельно; его угрозы и крики были слышны во всем доме; он дошел до того, что оскорбил моего отца, и тот, потеряв терпение, не выдержал… Разъяренные, они вместе вышли из дома и скоро оказались в уединенном месте, где спор их мог найти свое разрешение; мать же моя в безутешном отчаянии осталась ждать, какой исход принесет ей страшный этот поединок.
Едва только стали они друг против друга и отец мой сбросил наземь свой плащ, как в глаза противнику бросилось украшавшее его грудь «сердце» вандейцев, сей единственный, как вы знаете, орден благочестивой этой армии, и он, дико обрадовавшись возможности тут же расправиться с соперником, не подвергая себя никакой опасности, испустил вопль, на который тотчас же сбежалось человек двенадцать разбойников, спрятанных им, вероятно, в этих местах для каких-либо других мерзких целей. «Арестуйте его! – закричал он тут. – Этот офицер роялистской армии, это враг республики!» Тщетно боролся мой отец против негодяев: его окружили, схватили, разоружили и повели в тюрьму.
Между тем мать моя нетерпеливо считала часы и, не получая утешительных известий, предавалась горьким предположениям, которые все же были менее страшными, чем действительность. И вдруг до нее доносится с улицы неясный гул, прерываемый грохотом барабана, и глухой топот шагающих солдат… О, позвольте мне, не стесняясь, поплакать, господин Гастон. Слишком трудно мне сдерживать свое горе… Она прислушивается, она бежит, спускается с лестницы, пробегает площадь, отталкивает людей на своем пути, догоняет отряд, вглядывается, вскрикивает и падает…
«Анжелика, Анжелика моя, приди в себя. Будь достойна своего отца и своего возлюбленного! Живи ради Адели и в память обо мне!..» Он говорит, но она не слышит. Он покрывает ее сомкнутые веки поцелуями, но они не могут пробудить ее. Она не чувствует слез, которые льются на нее. И вот их уже разлучили. Смолк барабан, отряд остановился. Мать моя приходит в себя; она открывает глаза, ее взгляд растерянно блуждает кругом. Она еще счастлива… Она еще не помнит… Но вот в ушах ее раздается залп, и она снова теряет сознание. Отец мой мертв!
Три месяца спустя за мной пришли в пансион, чтобы отвести к моей матери. Она находилась в тюрьме, меня повели к ней в сопровождении вооруженных солдат. Никогда не забудет мое сердце, как пронзили его печаль и ужас, когда в этом страшном месте, среди каких-то отвратительных людей, один взгляд которых вызывал у меня содрогание, я узнала мою мать – увы, бледную, изможденную, умирающую – на куче гнилой соломы… Я бросилась к ней, плача навзрыд и спрашивая, почему она в тюрьме и за что с ней так обращаются. Говоря со мной, она не плакала, но ее провалившиеся глаза были красны от пролитых слез; она сообщила мне все то, о чем я только что рассказала вам. Она прибавила к этому, что теперь мне уже не от кого ждать больше поддержки, кроме как от моей сострадательной крестной, которой она послала для меня все, что могла, и к которой, как ей обещали, я буду препровождена, с тем чтобы остаться у нее уже навсегда. Затем угасшим голосом, который все с большим трудом исторгался из ее груди, она воскликнула: „Дочь моя, бедняжка моя Адель, единственная моя любовь, дай тебе бог счастья, и пусть когда-нибудь супруг, которого он даст тебе в своей милости… слышишь, дочь моя, – она приподнялась, и голос ее, торжественный и мрачный, еще и поныне звучит в моих ушах, – пусть этот супруг, которому предназначено будет отомстить за твоих родителей, воздаст за кровь твоего отца кровью его убийцы Можи!“»
При этом имени я вздрогнул; Адель же, приписавшая мое волнение другой причине, продолжала свой рассказ: «Я не хотела покидать матушку в таком состоянии и продолжала сидеть подле нее на соломе до того часа, когда настало время запирать тюремные камеры. Тогда один из стражников стал грубо прогонять меня, говоря, что не могу же я оставаться здесь ночевать. Матушка дремала, лицо ее было красным, дыхание прерывистым. Я боялась, что нарушу ее покой, если поцелую, и только прижалась губами к краю ее платья. Потом меня отвели к привратнику тюрьмы, который разрешил, чтобы я провела эту ночь вместе с его детьми; но я не могла уснуть от горя, да к тому же еще из тюрьмы то и дело доносился какой-то шум. И едва я услышала звук отодвигаемых засовов и скрип дверных петель, как побежала в камеру, где вечером оставалась матушка. Я вбегаю туда, ищу! зову, спрашиваю – ее уже нет… Мне говорят, что ее труп унесли на рассвете. Не суждено мне было еще раз поцеловать матушку!..»
Так, дорогой мой Эдуард, окончила свою повесть Адель; и не раз во время ее рассказа слезы мои смешивались с ее слезами. О том, каковы были последствия этого разговора и какие новые мысли он возбудил у меня, я напишу тебе позднее; я открою тебе тогда свое сердце со всей безоговорочной искренностью, которая отличает нашу братскую дружбу. Сегодня же я оставляю тебя твоим собственным впечатлениям. О, дорогой Эдуард, ведь ты понимаешь… Во имя чести, во имя любви, во имя добродетели я обязан взять на себя искупительную жертву… Где найти того благодетеля, который укажет мне этого Можи!
19 мая
Давно мне пора было сбросить с сердца отягощающее его бремя. Последние дни казались мне бесконечными – так я был полон нетерпения. «Что удерживает меня? – говорил я себе. – Ведь все мое счастье только в ней; кто же может помешать мне упрочить это счастье, если она меня любит?» А между тем, признаюсь тебе, всякий раз, как мне представляется случай исполнить мое решение, я как будто забываю о нем – до последнего дня я все медлил сказать ей о моих чувствах. И вот какие обстоятельства пришли мне на помощь.
Есть один новый роман, герой которого затронул меня за живое – потому ли, что обстоятельства его жизни чем-то напоминают собственное мое положение, – ведь мы всегда в таких случаях невольно отождествляем себя с другими, – потому ли, что он немного похож на того человека, каким я желал бы быть, если бы жизнь моя зависела от меня. Не то чтобы я очень уж одобрял романические характеры, тем более в обществах упорядоченных, где свойственные им безумные крайности или глупая наивность почти всегда неуместны; но бывают такие периоды, когда причуды самого своенравного воображения стоят больше, чем все то, что приходится видеть вокруг себя, и являются возмещением за печальные дела, творящиеся в мире. Ну так вот, мое мнение об этом вымышленном герое стало для очаровательной Эдокси предметом непрекращающихся насмешек, и потому роман этот с каждым днем все больше возбуждал любопытство Адели, и хотя я убежден, что для девушки, чувствительность которой только пробуждается, нет ничего более пагубного, чем чтение сочинений такого рода, и, как ты знаешь, очень далек от того, чтобы рассчитывать подобным образом воздействовать на нежную юную душу (меня возмущает даже мысль о столь постыдных соображениях, о таком отвратительном расчете!), я все же не мог ответить отказом на ее просьбу и оставил ей книгу – вот какую власть имеет надо мной малейшее ее желание! Сегодня, в обычный час, я ходил взад и вперед большими шагами по тропинке, ведущей в Валанси, удивляясь, почему Адель пропускает час обычной своей прогулки через рощу, и вдруг увидел ее; она шла задумавшись, опустив головку, с книгой в руке. Заметив меня, она тотчас же протянула мне книгу, грустно улыбнувшись при этом, и, не говоря ни слова, пошла рядом со мной. «Ну, – сказал я, – каково же ваше мнение об этом неистовом безумце, одно имя которого приводит в негодование мадемуазель Эдокси? Показался ли он и вам достойным презрения?» Она ничего не сказала мне в ответ, но слезы блеснули в ее глазах, и ручка, которой она опиралась на мою руку, задрожала. «О добрая моя Адель, – вскричал я тут, – счастливо то сердце, которое будет услышано твоим! Тысячу раз счастлив будет тот, кого ты полюбишь!» И губы мои в страстном порыве прижались к ее руке. «О, что вы делаете? Гастон, во имя неба! Господин Гастон, что вы делаете? Оставьте меня, – продолжала она взволнованным голосом, – вы же знаете, что меня зовут Адель Эврар!» Сердце мое сжималось в груди, голова была в огне, я чувствовал, что задыхаюсь. «Адель, сестра моя, любовь моя, возлюбленная моя супруга, знаешь ли ты, что такое ты для Гастона? Ты единственный предмет всех его помыслов, единственная радость его жизни, единственная еще оставшаяся ему надежда». И слезы, сладостные слезы заструились по моим щекам! Чувствуя, что силы оставляют меня, я упал на одну из скамеек, которые, как я уже писал тебе, разбросаны самой природой внутри той маленькой зеленой беседки, куда сходятся главные лесные тропы, и уронил голову на руки. Когда спустя некоторое время я вновь открыл глаза, Адель стояла неподалеку, но спиной ко мне, связывая в букет только что сорванные цветы. Я подошел к ней и тихонько обвил рукой ее шею, ничего не осмеливаясь сказать. «Взгляните, – сказала она, – взгляните, каких красивых цветов я набрала; хотелось бы мне знать, как называется вот этот?» То был прелестный цветок, который называют сильвией, [2]2
От silva (лат.) – лес.
[Закрыть]потому что растет он только в лесных чащах, в местах уединенных. Мне пришла вдруг на память прелестная строфа немецкого поэта, и я громко прочитал ее: «Это сильвия, недавно распустившаяся сильвия, нежный анемон лесов. Нет другого цветка, о сильвия, который мог бы соперничать с тобой в изяществе и красоте, когда, овеваемая дыханием ветерка, ты покачиваешь своей головкой в бело-розовом пятиконечном венчике. Пышная краса всех других цветов – и сам Амур не сделал бы исключения даже для розы – никогда не сравнится со скромной твоей прелестью. Твой склоненный стебель – эмблема меланхолии, а дрожание твоей трепещущей чашечки напоминает о волнениях юного сердца. Пусть небо, о прелестнейший из цветов, навеки окружит тебя мягкой и влажной муравой, пусть вновь и вновь осеняет тебя тенистая листва, пусть вновь и вновь овевает тебя дыхание зефиров. Это сильвия, недавно распустившаяся сильвия, цветок уединения и весны, нежный анемон лесов…»
Адель уже не помнила о своем букете, и он выскользнул бы из ее рук, если бы я не подхватил его, чтобы прижать к своему сердцу. «Гастон, я больше не приду сюда!» – тихо промолвила она.
Между тем прогулка наша, как всегда, была спокойной. Необычным было в ней только то, что разговор наш шел о самых безразличных вещах, как если бы мы были чужими друг другу, а между тем каждое из этих ничего не значащих слов пламенем обжигало мне сердце. То, что в другое время не показалось бы мне в них достойным внимания, теперь звучало для меня такой лаской! Что за удивительные чары! Они наполняют вас жизнью, делают все прекрасным, озаряют все вокруг божественным светом! И все ваши пять чувств, словно опьянев от восторга, озаряющего душу, жаждут лишь ароматов, лишь света, лишь божественных мелодий… Какое райское блаженство!
Да, я слышу голос предрассудка – он громко повторяет мне: «Ведь она – незаконная дочь Жака Эврара. Вот кто твоя возлюбленная, Гастон!» Да, незаконная дочь Жака Эврара, – и это самый драгоценный из титулов, о моя Адель! Чем несчастней ты была, тем сладостней мне наполнить будущую твою жизнь безоблачным счастьем. Незаконная! Разве любовь, разве постоянство, слава да и само признание твоей матери не узаконили тебя? Разве холодная торжественная церемония, которую называют бракосочетанием, была бы лучшим свидетельством твоего рождения, чем тот последний поцелуй, которым обменялись твои родители перед лицом бога, народа и своих палачей, – чем это скрепленное кровью таинство, что соединило их навеки? Дочь Жака Эврара! Кто бы он ни был – земледелец или солдат, – никто не превзошел этого человека в благородстве; и разве тот, кто получает высокое звание дворянина в награду за несравненную доблесть, не более благороден, чем те, кто получает его по наследству? Родиться знатным – дело случая; стать им ценою мужества – счастливый удел героя. Низкое происхождение! – говорят они. Не знаете вы, о дети, влюбленные в пустые побрякушки, что дворянство восходит к великим эпохам государственных переворотов, что оно возникает, дряхлеет и обновляется вместе с монархиями. Настоящее дворянство, как оно понимается в монархических государствах, возводит короля на трон или же находит свою гибель вместе с ним. Оно всегда блистает лишь подле воздвигаемого или низвергаемого трона. Воины, несущие на щите короля, воины, умирающие вместе с его династией, – они-то и суть дворянства, они-то и составляют благородное сословие. Я признаю права дворянства только за теми, кто завоевал их мечом или утвердил эшафотом. Все остальные – лишь чернь, которой пожаловали дворянские грамоты.







