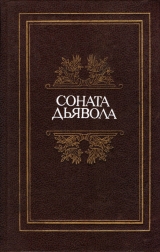
Текст книги "Соната дьявола: Малая французская проза XVIII–XX веков в переводах А. Андрес"
Автор книги: Жорж Сименон
Соавторы: Марсель Эме,Жерар де Нерваль,Шарль Нодье,Жак Казот,Катюль Мендес,Жан-Франсуа де Лагарп
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 31 страниц)
Палач вновь приставил к виселице свою лестницу и пощупал ноги повешенного у лодыжек – пульса уже не было; он перерезал артерию – не было и крови. А рука между тем все продолжала свои судорожные движения.
Человека в красном трудно было удивить; он счел своим долгом еще влезть на плечи, вызвав насмешливые возгласы публики; но рука обошлась с его прыщавой физиономией с той же непочтительностью, какую она проявила по отношению к мэтру Шевассю, и тогда палач с громким проклятием вытащил широкий нож, который всегда носил под своей одеждой, и двумя ударами отрубил «одержимую» руку.
Она стремительно подпрыгнула и, сделав огромный скачок, упала, вся окровавленная, в самую гущу толпы, которая в ужасе отпрянула, разделившись надвое; тогда, опираясь на гибкие свои пальцы, она сделала еще несколько гигантских прыжков и, так как все расступились перед ней, скоро оказалась у подножья башенки Шато-Гайар; и здесь, подобная крабу, цепляясь пальцами за шероховатости и выбоины стены, она доползла до амбразуры того окна, за которым ждал ее цыган.
Этим странным концом Бельфоре обрывает свой рассказ и завершает его следующими словами: «Эта история, записанная, сопровожденная комментарием, снабженная различными примечаниями, в течение долгого времени служила предметом всяких толков как в компаниях приличных людей, так и среди народа, который всегда падок до рассказов о необычных и сверхъестественных событиях. Но очень возможно, что это лишь одна из тех занимательных историй, которыми забавляют детей, сидя у камелька, и которым люди положительные и здравомыслящие не должны придавать особенной веры».
Зеленое чудовищеI
ЗАМОК ДЬЯВОЛА
Я расскажу вам сейчас об одном из самых древних обитателей Парижа; когда-то его называли «зеленым бесом», «бесом Вовером». Отсюда и поговорки: «Это у беса Вовера», «А поди-ка ты к бесу Воверу!»
Другими словами: «А поди-ка ты к… сам знаешь куда!»
Привратники, те обычно говорят: «Да это у самого беса Вовера в трубе», когда хотят дать вам понять, что место, куда вы посылаете их с поручением, где-то у черта на куличках. И это означает, что надобно хорошенько уплатить им за услугу. Но это, кроме того, еще весьма дерзкое и неприличное выражение, как и некоторые другие, коими охотно пользуются парижские простолюдины.
Бес Вовер – исконный житель Парижа, и живет он в нем, если верить историкам, уже много-много веков. Соваль, Фелибьен, Сент-Фуа и Дюлор {183} подробно рассказали нам о его похождениях.
Судя по всему, он квартировал сперва в замке Вовер, который расположен был на том самом месте, где в наши дни находится танцевальный зал «Шартрез», по ту сторону Люксембургского сада и насупротив аллей Обсерватории, что на улице Ад а.
Этот замок, пользовавшийся недоброй славой, частично был разрушен, а его развалины использованы для служебной пристройки картезианского монастыря, в каковой пристройке в 1414 году скончался Жан де ла Люн, племянник антипапы Бенедикта XIII {184} . Жана де ла Люна заподозрили в сношениях с неким бесом, который, возможно, был постоянным домовым разрушенного замка Вовер, поскольку каждое здание подобного рода, как известно, имело своего собственного домового.
Историки не оставили нам никаких точных сведений об этом интересном периоде.
Снова о бесе Вовере заговорили уже в эпоху Людовика XIII. Долгое время каждый вечер в одном из домов, построенных из обломков бывшего монастыря, владельцы которого давно уже там не жили, слышался какой-то дикий грохот.
И это очень пугало соседей.
Они пожаловались на это начальнику полиции, и тот послал туда несколько вооруженных солдат.
Каково же было удивление прибывших воинов, когда в этом грохоте они явственно услыхали взрывы хохота вперемешку со звоном стекла.
Сперва они подумали, что там пируют какие-нибудь фальшивомонетчики, а так как, судя по производимому шуму, их собралось там немало, решено было отправиться за подмогой.
Однако, когда подмога прибыла, стало очевидно, что ее недостаточно: ни один сержант не брался вести своих людей в этот вертеп, где, казалось, бесчинствует целая армия.
Наконец, уже поближе к утру, прибыл большой отряд полицейских; они ворвались в дом. И никого не нашли.
Взошло солнце и рассеяло ночную тьму.
Целый день продолжались поиски, потом кто-то высказал предположение, что шум доносится из винных погребов, которые, как известно, расположены под этим кварталом.
Начали готовиться к новой вылазке; но, пока полиция судила да рядила о плане действий, опять наступил вечер, и поднялся шум пуще прежнего.
На этот раз уже никто не осмеливался спускаться туда, ибо было совершенно очевидно, что в погребе нет ничего, кроме бутылок, а стало быть, не иначе как это сам черт играет ими в лапту.
Поэтому полицейские удовольствовались тем, что заняли все подходы к улице и обратились к священникам с требованием, чтобы те усерднее молились.
Священники целый день возносили молитвы и даже окропили погреб святой водой, проведя ее туда через отдушину с помощью клистирных трубок.
А шум все не умолкал.
II
СЕРЖАНТ
Целую неделю толпа парижан осаждала улицы предместья, пересказывая друг другу всякие ужасы и ожидая новостей.
Наконец один сержант, более отважный, чем остальные, предложил спуститься в этот окаянный погреб, при одном, однако, условии, чтобы за это ему назначена была пенсия, которую в случае, если он оттуда не вернется, получит некая белошвейка по имени Марго.
Это был человек весьма храбрый, но не то чтобы слишком доверчивый, а попросту очень уж влюбленный. Он души не чаял в этой белошвейке, которая была изрядной щеголихой и при этом особой весьма расчетливой, можно даже сказать, скуповатой: она не желала выходить замуж за простого сержанта, не имеющего ни гроша за душой.
Между тем, получив пенсию, наш сержант стал бы совершенно другим человеком.
Обнадеженный такой возможностью, он воскликнул, что не верует ни в бога, ни в черта и уж как-нибудь совладает с этим шумом.
– Во что же ты веруешь? – спросил его один из товарищей.
– А верую я, – ответствовал он, – только в господина начальника полиции и в господина парижского прево.
Умри, лучше не скажешь.
Держа в зубах свою саблю и в каждой руке по пистолету, он осторожно стал спускаться по лестнице.
Поразительное зрелище представилось его глазам, когда он достиг дна погреба.
Все бутылки с увлечением отплясывали сарабанду, образуя собой изящнейшие фигуры.
Те бутылки, что запечатаны были зеленым сургучом, танцевали за кавалеров, а те, что красным, – за дам.
Был здесь даже оркестр – он разместился на полках, предназначенных для хранения бутылок.
Пустые изображали собой духовые инструменты, разбитые тренькали, как цимбалы и стальные треугольники, а надтреснутые издавали звуки, в коих слышалось нечто близкое к проникновенной гармонии скрипок. Сержант, который прежде чем пуститься в это предприятие, успел опрокинуть не один стаканчик для храбрости, при виде пляшущих бутылок совершенно успокоился, развеселился и вслед за ними пошел танцевать.
И, все более подбадриваемый этим веселым и увлекательным зрелищем, открывшимся его взору, он схватил очаровательную бутылку с длинным горлышком, судя по всему с бордоским вином, и любовно прижал ее к своей груди.
Неистовый смех грянул тут со всех сторон; от неожиданности сержант выронил из рук бутылку, которая упала и вдребезги разбилась на тысячу кусков.
Пляска тотчас же остановилась; изо всех углов погреба послышались крики ужаса, и сержант почувствовал, что волосы шевелятся на его голове: пролитое вино, растекаясь, казалось, становится лужей крови.
У его ног было распростерто тело нагой женщины, и ее разметавшиеся белокурые волосы тонули в этой крови.
Явись перед ним сам черт собственной персоной, сержант и то бы не испугался, но это зрелище наполнило его ужасом; однако, сообразив, что, как бы там ни было, а придется же ему отдавать отчет о порученном деле, он схватил бутылку с зеленой головкой, которая словно бы строила ему рожи, и воскликнул:
– Хоть эта по крайней мере достанется мне!
Громовой хохот был ответом на эти слова.
А он тем временем бросился по лестнице наверх и, показывая бутылку товарищам, крикнул им:
– Вон он, домовой-то! А вы все трусливые бабы (он произнес здесь словечко почище), раз боитесь туда спускаться!
Слова эти были исполнены столь едкой насмешки, что все тут же гурьбой ринулись в погреб. Однако ничего там не обнаружили, кроме одной разбитой бутылки из-под бордо. Остальные бутылки смирнехонько стояли на полках.
Солдаты весьма сокрушались по поводу разлитого вина. Но ничего более не опасаясь, каждый схватил себе по бутылке, и они поспешили наверх.
И каждому позволено было выпить свою.
Сержант сказал:
– А я свою сохраню до дня свадьбы.
Невозможно было отказать ему в обещанной пенсии, он ее получил, женился на своей белошвейке и…
И они народили кучу детей, думаете вы?
Всего лишь одного.
III
ЧТО БЫЛО ПОТОМ
Во время свадебного пира, который устроен был в Рапэ, сержант поставил пресловутую бутылку с зеленой головкой меж собою и своей молодой женой, строго следя за тем, чтобы никому из нее не наливали, кроме как им двоим.
Бутылка была зеленая, что твоя петрушка, вино было красное, словно кровь.
Прошло девять месяцев, и белошвейка произвела на свет маленькое чудовище сплошь зеленого цвета и с красными рожками на лбу.
А вы, юные девицы, ходите-ка, почаще ходите на танцы в бальную залу «Шартрез»… что стоит на месте замка Вовер!
Ребенок меж тем рос себе да рос, прибавляя если не в добронравии, то, во всяком случае, в весе. Две вещи крайне огорчали его родителей: его зеленый цвет и хвостовой отросток, который поначалу казался лишь удлинением копчика, но мало-помалу становился самым настоящим хвостом.
Обратились за советом к ученым; те заявили, что случай этот довольно редкий, но что примеры подобного явления отмечены у Геродота и Плиния Младшего {185} . В ту пору никто еще не предвидел теории Фурье.
Что касается окраски, то ее приписали избытку желчи в организме. И было испробовано великое множество всяких средств и снадобий, дабы хоть немного смягчить слишком уж пронзительно-зеленый цвет кожи маленького чудовища, и путем всяческих втираний и омовений порой удавалось доводить его то до бутылочного, то до светло-зеленого, а то и до желтоватого. Случалось даже, что кожа становилась почти совсем белой, но к вечеру она принимала свой обычный вид.
Маленькое чудовище причиняло своим родителям беспрерывные огорчения, становясь что ни день все более ехидным, упрямым и злобным.
Печаль, которую испытывали по этому поводу сержант и белошвейка, была столь велика, что, будучи не в силах ей противиться, они постепенно поддались пороку, весьма распространенному среди людей этого сословия, – они начали пить.
Но при этом сержант никогда не желал пить никакого вина, кроме как из бутылок с красной головкой, а его супруга пила вино только из бутылок с зеленой.
И каждый раз, когда сержант допивался до бесчувствия, во сне ему являлась та окровавленная женщина, чье появление так испугало его тогда в погребе, после того как он разбил бутылку.
И женщина эта говорила ему: «О, зачем прижимал ты меня к своему сердцу, а потом убил… А я так тебя любила!»
И каждый раз, когда жена сержанта слишком долго прикладывалась к бутылке с зеленой головкой, во сне ей являлся огромнейший бес самого отталкивающего вида. И бес говорил ей: «Ты удивляешься, что я пришел к тебе? Разве не пила ты из той бутылки?.. Разве не я отец твоего ребенка?»
О, неразгаданная тайна!
Дожив до тринадцати лет, ребенок исчез.
Безутешные родители продолжали пьянствовать. Однако страшные видения, что тревожили до того их сон, никогда больше не повторялись.
IV
МОРАЛЬ
Так был наказан сержант за богохульство, а белошвейка – за расчетливость.
V
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ЗЕЛЕНЫМ ЧУДОВИЩЕМ
Этого никто никогда не узнал.
Катюль Мендес
(1841–1909)
Жизнь и смерть одной танцовщицыВ двенадцать лет синьорина Мариетта Даль’Оро танцевала на сцене неаполитанского театра Сан-Карло сильфид и бабочек. Как ни удивительно, но у нее совсем не было того болезненного вида, которым отличаются обычно балетные девочки ее возраста, все эти хилые заморыши, смутно тоскующие по солнечному свету, по полям и лугам среди мертвящего, искусственного мира, из которого они рвутся прочь. В Мариетте, преждевременно созревшей, жил такой внутренний огонь, что он вполне возмещал отсутствие внешних условий, необходимых для физического развития. Она с детства привыкла взбираться на кулисы и декорации и греться в лучах солнца, изображенного на театральном заднике. С белым шиповником в волосах, в розовом креповом платьице, вся белая, вся розовая, являла она публике свои еще полудетские, но уже пухлые плечики; ее руки, хотя, может быть, еще слишком тонкие, ничем не напоминали девичьих угловатых ручонок и острых локотков ее сверстниц. Она обращала на себя внимание своими сильными, словно у калабрийского жеребенка, ногами и крепкими, мускулистыми бедрами.
Служил в театре некий Гульельмо Тирадритто, знаменитый в свое время танцор, который еще в пору расцвета своей славы ненароком сломал правую ногу, перелезая через стену женского монастыря в Болонье, вследствие чего жестоко хромал и был обречен на костыли до конца своих дней; однако и с одной ногой он способен был достичь большего, чем иной с двумя. Благодаря его советам Мариетта, которая поистине рождена была с крыльями на пятках, превратилась в превосходную танцовщицу и стала пользоваться шумным успехом; к тому же ее созревающая женская плоть, которой еще не совсем изжитая детскость придавала особую прелесть, рождала вожделение – появились многочисленные поклонники. В дело вмешалась ее мать, незаметная фигурантка и неутомимая сводня, которая немедленно принялась отваживать тех, кто был победнее и недостаточно родовит. Генерал Фримон, князь Ан-тордокко, главнокомандующий австрийскими войсками в Италии {186} , преподнес танцовщице драгоценный убор стоимостью в семь тысяч фридрихсдоров, а герцог Салернский, брат короля Фердинанда {187} , в подпитии не раз клялся в том, что готов сочетаться с синьориной Мариеттой Даль’Оро морганатическим браком. Было от чего закружиться головке у маленькой танцовщицы; она и всамом деле у нее закружилась, но самым неожиданным образом: в один прекрасный день Мариетта бежала с неким юнцом из Палермо, у которого не было за душой и тридцати пиастров и который промышлял тем, что кропал стихотворные комедии.
Целых полгода эти двое детей, вместе с последовавшим за ними Тирадритто, скрывались в одном из предместий Катании у подножия Сицилийских гор. Это было сияющее утро их любви, любви, полной улыбок и взаимной нежности. Синьорина впоследствии всегда с умилением вспоминала этого бедняжку Лоренцо, у которого были такие огромные глаза и который писал такие чудные сонеты.
В начале зимы ей вдруг вздумалось отправиться танцевать ко двору герцога Модены. Это была уже совсем не та малютка Мариетта, которой рукоплескали завсегдатаи театра Сан-Карло. Из рано созревшего подростка родилась молодая женщина. Ее губы, налившиеся кровью под поцелуями Лоренцо, теперь ярче выделялись на белоснежном лице, а в глубине глаз еще трепетали отсветы страсти. В ее танце, прежде слишком простодушном и по-детски нетерпеливом, теперь появилась какая-то округлость, изнеженность, сладострастность; казалось, будто тело ее в опьянении танцем источает из себя горячее пламя; и движения ее были словно воспоминанием о любовных объятиях, о бесконечно длящихся ласках, ответной дрожью отзываясь в зрителях и доводя их до неистовства. Герцогство Модены пришло в полное смятение. Сам Франческо д’Эсте {188} собственной персоной однажды поздним вечером, без всякой свиты, в маске постучался у дверей синьорины. И дабы ублаготворить его высочество, она превзошла самое себя, исполнив перед ним босиком забытую пантомиму, секрет которой некогда подсмотрела ее мать еще в те времена, когда была причастна к интригам двора Обеих Сицилий, – то сладостное па-де-шаль, что танцевала мисс Эмма Гарт в облике богини Гигиеи и о котором, будучи уже леди Гамильтон {189} , она вспоминала на интимных вечерах королевы Каролины Марии. Франческо IV, ошалев от восторга, обещал завтра же вечером посетить ее снова. Однако на рассвете следующего дня синьорина упорхнула вместе со своим верным Тирадритто.
Довольно долго жила она во Флоренции, откуда ее слава постепенно распространилась по всей Италии. Театр «Ла Скала» едва не разорился, заключая с ней контракт, а заключив его, сказочно обогатился. Но как раз тогда началась ее нежная связь с одним членом высокой венты Алессандрии {190} , и в дальнейшем, чтобы обозначить время своего пребывания в Милане, она имела обыкновение говорить наподобие одной воспетой поэтами принцессы: «Когда я была республиканкой…» Однако увлечения синьоры Даль’Оро не отличались постоянством: вопреки всем уговорам Тирадритто, который по-прежнему таскался за ней из города в город, все больше и больше хромая, она, заплатив импресарио неслыханную сумму неустойки, расторгла договор с «Ла Скала» и вернулась в Неаполь, где только что скончалась ее мать. Оплакав ее, Мариетта ударилась в политику и, поскольку теперь была связана с маршалом Радецким {191} , заступившим место князя Антордокко, она стала сторонницей абсолютизма. «Когда я была австриячкой…» – говорила она впоследствии об этой поре своей жизни. Танцевать в театре Сан-Карло она не пожелала: ей не по вкусу были зеленые трико, в которых танцевали в то время балерины, ляжки в них были похожи на пальмовые стволы; синьорина была сторонницей розовых. Однако после трех лет томного безделья и нескольких никому не ведомых любовных связей страсть к сцене, эта безжалостная мучительница, заставила ее подписать ангажемент с Ковент-Гарденом. Лондонские туманы навеяли на нее такую тоску, что она чуть не сошла с ума; несмотря на радости театральной жизни, она всю зиму предавалась сплину и в надежде на разнообразие вышла замуж за сэра Уильяма Кэмбелла. Когда перед свадебным обрядом ее головку стали украшать миртовыми цветами, она вдруг фыркнула. «Чему вы смеетесь, миледи?» – с важным видом спросил ее супруг. «Я просто вспомнила, что точь-в-точь такие веночки на меня напяливали когда-то в третьем акте в тех балетах, где Коломбина выходит за Арлекина». Медовый месяц не принес Мариетте ничего, что хоть сколько-нибудь могло ее развлечь: к сэру Уильяму она с самого начала испытывала полнейшее равнодушие; двое или трое случившихся в ту пору любовников почти не затронули ее чувств, и в одно прекрасное утро, поспешно уложив чемоданы, миледи Кэмбелл отбыла на пароходе, идущем в Дувр, к вящей радости Гульельмо Тирадритто, чье сердце под ливреей старшего дворецкого все это время изнывало от тоски и который целыми днями только и делал, что напевал мелодии старых балетов, отбивая такт своим костылем.
Парижские поэты еще и поныне помнят Мариетту Даль’Оро, эту обольстительную балерину с губами цвета спелого граната, которая словно швыряла им в лицо пригоршни солнца и в вальсе из «Жизели» кружилась в бешеном темпе неаполитанских тарантелл. За одну неделю синьорина успела стать знаменитостью и истой парижанкой; у нее появилось все, что полагается иметь парижанке: и роскошные экипажи, и слуга-негр, и барон де Шальми, который ради нее вконец разорился, и ложа в театре «Буфф» в те вечера, когда у нее самой не было спектакля. Но все были того мнения, что она слишком уж близко принимает к сердцу судьбу некоего шведского музыканта, который посвятил ей польку-мазурку и умирал от чахотки. В самом деле, то была прегрустная страничка в ее радостной жизни. Она, такая любительница приключений, всерьез влюбилась в этого юного иностранца, ласкового, словно больное дитя, так спокойно смотревшего в глаза надвигавшейся смерти. Когда он умер, она горько плакала. И как раз в этот момент газеты сообщили о кончине сэра Уильяма Кэмбелла, который одним октябрьским утром кончил свои дни, повесившись на кипарисе; это случилось как нельзя более кстати: смерть супруга позволила ей надеть траур по возлюбленному. Но траурные наряды снашиваются быстро. И снова принялась синьора кружить по белу свету. В Германии ей выпала честь несколько раз встретиться с графиней Морганой де Полеастро – то было мимолетное знакомство, каприз светской дамы, снизошедшей до знакомства с куртизанкой. Танцевала она в Вене, затем в Мадриде, затем в Лиссабоне, танцевала все с тем же неистовством, все такая же безудержно веселая, подобная бубенчику на колпаке шута, все еще юная вопреки быстротекущему времени, почти совсем такая же, как маленькая Мариетта из театра Сан-Карло, и в тысячу раз более обворожительная. Да неужто же в самом деле ей стукнуло уже сорок лет? Это немножко ее беспокоило. Она получила приглашение в Санкт-Петербург, разорила там владельца платиновых приисков, отпустила на волю сотню крепостных, вновь появилась в Испании и вновь возвратилась в Россию. Но в Москве она чуть было совсем не замерзла, затосковала по солнцу и помчалась в Италию. И там, в Ферраро, на бульваре, она повстречала беднягу Лоренцо, который с трудом сводил концы с концами, пробавляясь сочинениями оперных либретто и балетных сценариев.
Его нищенская жизнь совсем отбила у него память о прошлом. «Я старик», – говорил он и почти уже не помнил ни театра Сан-Карло, ни предместья Катании у подножия горы Джибелло. Да и сама Мариетта соглашалась с тем, что все это было уже очень давно. Что касается Тирадритто, то и он порядком приустал. И она решила покинуть сцену, решила сразу, без колебаний. Только изредка, когда не было горничной в комнате, позволяла себе теперь потанцевать перед зеркалом. Уйдя из театра, она возобновила знакомство с бароном де Шальми и, списавшись с ним, переехала во Францию, где и поселилась под именем леди Кэмбелл.
Прошло пять лет. Однажды зимним вечером отставная балерина, нисколько, впрочем, не утратившая своей красоты и кокетливости, в своем прелестном маленьком особняке на улице Мариньи, напоминающем охотничий домик фаворитки своими цветными стеклами и легкими балкончиками, украшенными бенгальскими пальмами и китайскими кактусами, стояла у себя в будуаре между двумя зеркалами – горничная надевала на нее розовое креповое платье и украшала голову цветами белого шиповника; однако де Шальми, который должен был бы в тот вечер прийти, не пришел. Собственно говоря, он предупредил об этом письмом, в котором уведомлял ее, что не придет уже никогда. Чем же он это объяснял? Тем, что ему уже шестьдесят лет. «Это только предлог!» – с сердцем сказала Мариетта, которой было пятьдесят. С уходом барона она оставалась без средств к существованию. Вернуться в театр? Несколько морщинок, неумело замаскированных с помощью белил, сбегались от ее виска к ямочке у внешнего угла глаза, напоминая собой расходящиеся лучами складки веера; кожа на шее, некогда столь ослепительно белая, а теперь цвета слоновой кости и старых кружев, спереди слегка выпячивалась вперед, будто бы стянутая двумя невидимыми глазу параллельными нитями; к тому же она стала несколько грузноватой, с уже расплывающимися формами. Но эти первые приметы разрушительницы-старости скорее преобразили ее красоту, нежели ее уничтожили. Появилась в ней некая чарующая томность, усталая грация, истомная обольстительность чего-то, чего скоро уже не будет, как прежде когда-то в ней было пронзительное очарование того, чего еще нет. И при взгляде на нее невольно приходило на ум сравнение с роскошной свежей розой, к благоуханию которой смутно примешивался бы тот печальный аромат, что источает цветок, сохранившийся меж страницами книги. Да и к тому же в ней отнюдь не умерла артистка: она жестоко страдала, лишившись беспокойных радостей постоянных переездов и любовных встреч; ей мало было одних воспоминаний; на нее находили минуты плохо сдерживаемого возмущения; в те часы, когда в былые времена она отправлялась в театр, ее охватывала та особая ностальгия, что заставляет сидящую в клетке пичужку трепетать крылышками в пору перелета птиц. Комната, которую она предпочитала всем остальным, с ее лиловыми обоями, вычурной мебелью, валяющимися повсюду пестрыми тряпками, с огромным высоким зеркалом, потрескавшимся по углам, и затерянной на этажерке баночкой румян напоминала собой театральную уборную, ей стоило большого труда удерживаться от тех вульгарных выражений, которыми было принято обмениваться за кулисами; она никогда не могла бы отвыкнуть от внезапных «тыканий»; и когда ей случалось на каком-нибудь балу артистов танцевать кадриль, длинная юбка по странной аберрации понятий смущала ее, как нечто непристойное.
Она вернулась в Оперу, и в течение трех лет все шло превосходно, ибо у нее был фельетонист, я имею в виду любовник, который каждую пятницу запирался у себя, чтобы исписать двадцать четыре страницы для одной газеты, каждый понедельник печатавшей его фельетоны. Но фельетонист носил парик. И во время ссоры из-за некоей малютки из кордебалета, чьи юные прелести он превознес в своем фельетоне, Мариетта сорвала с него парик и бросила к ногам соперницы. Не стерпев унижения, фельетонист, которому было известно, сколько его любовнице лет, упомянул о ее возрасте в печати, и, когда кончился театральный сезон, с ней не возобновили контракта. На свое счастье, выходя на аплодисменты, она иной раз с авансцены посылала улыбки одному сочинителю водевилей, и тот устроил ее в театр Порт-Сен-Мартен. Здесь она свела знакомство с некоей фигуранткой из кордебалета, существом, развращенным до мозга костей, и поселила ее в своем особняке на улице Мариньи, а когда та наделала долгов ради какого-то певца из кафешантана, Мариетта, чтобы выручить ее, продала свои бриллианты; однако она тут же приобрела себе другие, за которые не уплатила. Опасаясь, как бы в результате не наложили арест на ее мебель, она переписала на эту подругу все свое недвижимое имущество, и та в один прекрасный вечер выставила ее за дверь, обругав «старой идиоткой». Мариетта горько плакала: ведь это в первый раз ее назвали старой. Вместе с верным Тирадритто, который неотлучно все это время был при ней, она переехала жить в гостиницу.
В театре Порт-Сен-Мартен она успеха не имела; тем не менее один первоклассный театр предложил ей второстепенную роль в новом балете. Она отказалась и, чтобы иметь средства к существованию, продала те самые бриллианты, за которые еще не было уплачено. Но ее вызвали в суд, ей пришлось эти деньги возвратить, и она согласилась уже на третьестепенную роль во второсортном театрике. После тридцати представлений, не имевших никакого успеха, ее оттуда уволили, сказав, что у нее слишком толстые бедра. Это был ужасный удар. Ведь она была знаменитой артисткой. Но ей было уже пятьдесят пять.
Однажды, впав окончательно в бедность, она решила пойти к сочинителю водевилей – не мог же он, думала она, позабыть ее улыбку. Он предложил ей двадцать франков. Она их взяла. У фельетониста, к которому она отправилась после этого, ее попросту не приняли; выйдя на улицу, она оглянулась на дом своего бывшего любовника и увидела в его окне малютку из кордебалета, успевшую с тех пор стать примадонной; та узнала ее и весело смеялась. «Тощая швабра!» – прошептала Мариетта, – надо же было хоть чем-то отомстить! В другой раз, когда в ее старом дырявом кошельке оставалось всего десять су, она позвонила у дверей барона де Шальми. «Уж он-то человек приличный», – думала она. «Вы хотите поговорить с отцом?» – с любопытством глядя на нее, спросила совсем еще юная девушка, появившаяся за спиной лакея, как только тот открыл дверь. Старая грешница покраснела. «Нет, мадемуазель, – сказала она, – я ошиблась этажом».
Мариетта и Тирадритто жили той печальной жизнью, когда каждое утро удивляешься тому, что накануне удалось пообедать.
Существовала на улице Тур д’Овернь школа танцев, ею руководил какой-то отставной военный. Мариетта купила это заведение; денег у нее не было, она обещала заплатить потом. По вторникам она давала танцевальные вечера. Все знают, что такое эти вечера. За вход никто не платил, никто не обращал внимания на Тирадритто, с важным видом восседавшего на контроле; но около полуночи пили шампанское, и это приносило некоторый доход.
Мариетта стала сочинять балеты и сама же их исполняла вместе с наименее бездарными из своих учениц, ибо у нее были ученицы, только за уроки ей никто не платил. Как-то вечером она согласилась на то, чтобы в углу танцевального зала сыграли партию в баккара. С тех пор стали играть каждый вторник; некоторые игроки передергивали, пошли слухи, будто Мариетта входит с ними в долю, это была неправда; в общем – игорный дом. И однажды ночью нагрянула предупрежденная кем-то полиция, карты арестовали, а игроков выгнали на улицу.
Мужчины ругались, женщины хихикали; послали за фиакрами, и все отправились по домам, кроме Мариетты и Тирадритто, которые остались на улице по двум причинам: потому что касса была опечатана и у них не было денег, чтобы нанять фиакр, и потому что танцевальный зал, откуда их только что выдворили, был единственным их домом.
Было все это в феврале, на масленицу; моросил дождик, почти невидимый, вроде тумана, но дул сильный ветер. Мариетта была в розовом креповом платье, с белым шиповником в волосах, из-под короткой юбки виднелись ее все еще красивые ляжки. Зимние ночи тянутся долго. «Что ж нам теперь делать?» – спросила танцовщица. От холодного ветра у нее закоченели икры. «Пойдемте, – сказал Тирадритто, – тут неподалеку у меня есть один знакомый контролер танцевального зала при игорном доме, он впустит нас задаром, вы хоть погреетесь».
Они пришли туда, однако контролер соглашался впустить их лишь при том условии, что они поднесут ему стаканчик вина. «Идет!» – сказал Тирадритто. У него было много знакомых среди завсегдатаев подобных заведений, и он надеялся найти кого-нибудь, у кого можно будет занять двадцать су; он действительно встретил одного приятеля, и тот одолжил ему два франка, но когда вино было выпито и дело дошло до оплаты, вышло недоразумение с кельнером, и в результате их отвели в полицейский участок, где им пришлось заночевать.
– Как здесь грязно! – сказала Мариетта, входя в арестантскую. Невеселая то была ночь.
Есть неподалеку от укреплений, что у заставы политехнического института, богом забытые домишки, где ночуют нищие. В одном из таких домишек поселились теперь эти двое горемык. Мариетта сильно кашляла, потому что окна не закрывались; она спала с тела, ей было шестьдесят четыре года. «Вот будут у меня деньги, куплю себе зеркало», – говорила она.







