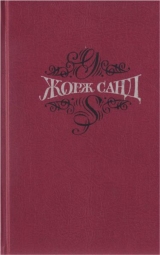
Текст книги "Собрание сочинений. Т.4. Мопра. Ускок"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 36 страниц)
– Пустяки, – проговорил он, – это меня позабавило. Я теперь вижу, что ноги у меня еще крепкие, а голова ясная. Эхе-хе, старый сержант, – прибавил он, глядя на свою ногу, – старый идальго, старый крысолов, теперь уж никто больше не будет потешаться над твоими икрами!
Если бы Антуан де Мопра был человек смелый, он мог бы сыграть со мной дурную шутку, объявив себя очевидцем якобы совершенного мною покушения на Эдме. Прежние его преступления служили более чем достаточной причиной для того, чтобы скрываться, и Антуан мог бы сказать, что именно поэтому он окружал себя тайной и молчал о происшествии у башни Газо. В мою пользу говорили одни только свидетельские показания Пасьянса. Достаточно ли будет их для моего оправдания? Ведь столько других свидетелей, даже друзья, даже Эдме, не отрицали, что у меня неистовый нрав, и тем самым их показания были направлены против меня, делали вероятным мое преступление.
Однако Антуан, на словах самый наглый из всех Мопра Душегубов, на деле был самым трусливым. Едва попав в руки правосудия, он тотчас во всем повинился, еще не зная даже, что брат отступился от него.
Позднее, на судебных заседаниях, носивших скандальный характер, братья самым низким образом сваливали вину один на другого. Траппист, как обычно, прибегавший к лицемерию, хладнокровно предоставил убийцу его судьбе и упорно защищался от обвинения в том, что он когда-либо подстрекал брата совершить преступление; Антуан же, доведенный до отчаяния, обвинял Жана в самых ужасных злодеяниях, в частности – в отравлении моей матери и матери Эдме: обе они умерли в страшных муках, одна вслед за другой. Жан де Мопра, утверждал он, был мастер изготовлять яды; искусно меняя обличье, он проникал в дома и подмешивал отраву в пищу. Антуан заявил, что в день, когда Эдме была обманом завлечена в Рош-Мопра, Жан собрал всех братьев, дабы обсудить с ними способ, как лучше избавиться от этой наследницы значительного состояния; он будто бы давно уже мечтал прибрать его к рукам и лелеял преступный замысел – уничтожить потомство старого кавалера Юбера де Мопра. Отец Эдме выразил настойчивое желание усыновить меня, и одно это стоило жизни моей матушке. Братья Мопра единодушно хотели избавиться разом и от меня и от Эдме, и Жан уже приготовлял яд, когда стражники, осадив замок, помешали осуществлению этого чудовищного плана. Жан со страхом отвергал эти обвинения, смиренно признавая, что он и без того совершил немало смертных грехов, погрязнув в безверии и разврате, и незачем приписывать ему еще новые. Опираясь лишь на показания Антуана, без дополнительного расследования, суд не мог обвинить Жана де Мопра в этих преступлениях, а провести такое расследование вряд ли удалось бы, тем более что духовенство было слишком влиятельно и слишком заинтересовано в том, чтобы не допустить скандального разоблачения трапписта; вот почему суд снял с Жана де Мопра обвинение в сообщничестве с Антуаном; однако его отослали в монастырь траппистов, и архиепископ не только запретил ему появляться в нашей епархии, но и предложил настоятелю траппистов вообще не дозволять Иоанну Непомуку выходить за пределы обители. Жан умер там через несколько лет, предаваясь раскаянию, приступы которого принимали у него характер тяжелого помешательства. Вполне возможно, что сначала он только играл роль человека, мучимого угрызениями совести, чтобы добиться морального оправдания в глазах общества, а затем, когда замыслы его потерпели неудачу, он под влиянием сурового режима и жестоких наказаний, принятых в его ордене, действительно почувствовал ужас, испытал муки нечистой совести и запоздалого раскаяния. Муки ада – вот единственное, во что верят и чего боятся люди с низкой душой.
Едва я был оправдан, восстановлен во всех правах и освобожден, как тут же помчался к Эдме; я застал старого кавалера уже при смерти. Перед своей кончиной он вновь обрел не скажу память о событиях, но память сердца. Он узнал меня, прижал к груди, благословил меня и дочь и соединил наши руки. Отдав последний долг этому благородному человеку и чудесному отцу, утрата коего была для нас так горестна, словно мы не предвидели и не ожидали ее уже с давних пор, мы покинули на некоторое время родные края, не желая быть свидетелями казни Антуана, которого приговорили к колесованию. Двое свидетелей, давших против меня ложные показания, были биты плетьми, заклеймены палачом и изгнаны из провинции. Мадемуазель Леблан, которую прямо нельзя было уличить в лжесвидетельстве, ибо она ничего не утверждала, а лишь высказывала предположения, ко всеобщему неудовольствию вышла сухой из воды и переехала в другую провинцию, где жила безбедно; это давало основание предполагать, что она получила некую сумму за то, чтобы меня погубить.
Мы не захотели ни на минуту расстаться с нашими лучшими друзьями, с моими единственными защитниками – Маркасом, Пасьянсом, Артуром и аббатом Обером. Все мы разместились в одной дорожной карете; Маркас и Пасьянс, привыкшие к вольному воздуху, охотно заняли наружные места; мы обращались с ними как с равными. Никогда с тех пор они больше не сидели за отдельным столом. У некоторых людей хватало невоспитанности удивляться этому, но мы пренебрегали всеми толками. Существуют обстоятельства, когда бесследно стираются все мнимые или действительные различия в положении и воспитании.
Мы посетили Швейцарию. Артур считал это путешествие необходимым для полного выздоровления Эдме; нежные и предупредительные заботы нашего преданного друга, наша любовь и старания сделать Эдме счастливой, великолепные горные виды – все способствовало тому, чтобы рассеять ее печаль и изгладить из души воспоминания о недавно перенесенных нами бурях. Швейцария оказала на поэтическую натуру Пасьянса магическое действие. Часто он приходил в такое восторженное состояние, что мы бывали этим одновременно и восхищены и испуганы. Он было прельстился мыслью построить себе хижину где-нибудь в долине и провести остаток дней своих, созерцая природу; однако любовь к нам заставила его отказаться от этого намерения. Впоследствии Маркас объявил, что, несмотря на все удовольствие, какое он получал в нашем обществе, для него это путешествие было самой печальной порой его жизни. Дело в том, что однажды после нашего возвращения с прогулки Барсук, который к старости начал страдать несварением желудка, скончался, пав жертвой великолепного приема, оказанного ему на кухне гостиницы в Мартиньи. Сержант не произнес ни слова. Некоторое время он мрачно молчал, глядя на своего бездыханного друга, затем похоронил его в саду под самым красивым розовым кустом; впервые он заговорил о своем горе лишь год спустя.
Во время путешествия по Швейцарии Эдме проявляла ко мне ангельскую доброту и заботливость; следуя теперь велению своего сердца, не испытывая больше недоверия или же сказав себе, что я был достаточно несчастлив и заслужил награду, она тысячу раз давала мне чудесные доказательства своей любви, которую впервые выразила, подняв голос в мою защиту в зале суда. Признаюсь, недомолвки, поразившие меня в ее свидетельских показаниях, и воспоминание о словах обвинения, которые слетели с ее уст, когда Пасьянс нашел ее истекающей кровью, заставили меня долго страдать. Я полагал, и, быть может, не без основания, что Эдме стоило немалых усилий поверить в мою невиновность до разоблачений Пасьянса. Правда, она касалась этой темы лишь очень осторожно и сдержанно. Но однажды она окончательно исцелила мою рану, воскликнув с присущей ей очаровательной непосредственностью:
– Ну, а если я тебя так любила, что способна была оправдать в своем сердце и защитить перед людьми, пусть даже солгав, что тогда?
Мне очень хотелось понять, как следует относиться к утверждению Эдме, будто она полюбила меня с первых же дней нашего знакомства. Тут она немного смутилась, словно неодолимая гордыня внушила ей ревнивое сожаление о том, что эта тайна отныне принадлежит не ей одной. Тогда аббат взял на себя труд передать мне исповедь ее души; он уверял, что на первых порах частенько бранил Эдме за пристрастие к «юному дикарю». Когда же я напомнил ему о задушевном разговоре между ним и Эдме, который мне довелось однажды вечером подслушать в парке (я пересказал ему эту беседу почти слово в слово, ибо память у меня отличная), аббат на это возразил:
– Если бы в тот вечер вы прошли за нами еще немного дальше по аллее, то сделались бы свидетелем ссоры, которая бы вас весьма обнадежила: она объяснила бы вам, каким образом из антипатичного, я бы сказал, почти ненавистного мне человека вы стали сначала терпимым, а мало-помалу чуть ли не самым дорогим для меня существом.
– Расскажите об этом! – вскричал я. – Что послужило причиной такого чуда?
– Всего лишь одно сказанное ею слово, – отвечал аббат, – Эдме вас любила. Сделав мне это признание, она закрыла лицо руками и на несколько мгновений застыла, словно оцепенев от стыда и горя; затем, внезапно подняв голову, она воскликнула:
«Ну что ж! Да, я люблю его, раз уж вам так хочется это знать, без памяти влюблена, как вы изволите выражаться. Это не моя вина, и мне нечего краснеть. Ничего не поделаешь, так судил рок. Я никогда не любила господина де ла Марша, я отношусь к нему только как к другу. А к Бернару у меня совсем иное чувство – такое сильное, противоречивое, бурное, сотканное из вражды и страха, жалости, гнева и нежности, что я ничего в нем не понимаю, да и не стараюсь понять».
«О женщина, женщина! – вскричал я вне себя от удивления, воздевая руки. – Ты бездна, ты тайна, и тот, кто мнит, будто знает тебя, – трижды безумец!»
«Называйте это как хотите, аббат, – продолжала она с решимостью, но в голосе ее слышались досада и смятение, – мне совершенно безразлично. По этому поводу я столько уже говорила сама себе, сколько вы не сказали за всю свою жизнь всей вашей пастве. Я знаю: Бернар – сущий медведь, барсук, как его именует мадемуазель Леблан; он дикарь, деревенщина – что вам еще? Нет на свете человека более своенравного, угловатого, скрытного и злобного, чем Бернар; это неуч, который едва умеет подписать свое имя; это грубиян, который надеется укротить меня, как вареннскую кобылицу. Он жестоко ошибается: я скорее умру, чем соглашусь принадлежать ему, если только он не переделает себя, чтобы сделаться моим мужем. Стало быть, остается рассчитывать лишь на чудо; так я и поступаю, хотя и не очень верю в чудеса. Но пусть он принудит меня покончить с собой или уйти в монастырь, пусть останется таким, каков он есть, или даже сделается еще хуже, я все равно буду его любить. Милый аббат, уж вы-то понимаете, чего стоит мне это признание, и если я, точно кающаяся грешница, припадаю к вашим стопам и взываю к вашему сердцу, вы не должны унижать меня такими восклицаниями и заклятиями: ведь вы мне друг! А теперь судите сами, рассуждайте, спорьте, доказывайте! Вот болезнь – я люблю его! Вот ее симптомы – я думаю только о нем, я вижу только его одного и сегодня не стала обедать потому лишь, что его не было дома. Для меня он самый необыкновенный человек на свете. Когда он говорит, что любит меня, я вижу, я чувствую, что это правда; его страсть меня и оскорбляет и восхищает. С тех пор как я узнала Бернара, де ла Марш кажется мне слащавым и напыщенным, в Бернаре я вижу себя: он столь же горд, неистов, отважен, как и я, он столь же чувствителен, ибо плачет, как ребенок, когда я рассержу его; вот и я плачу, едва подумала о нем».
– Дорогой аббат, – вскричал я, бросаясь на шею Оберу, – я сейчас задушу вас в объятиях за то, что вы все это вспомнили!
– Аббат преувеличивает, – лукаво заметила Эдме.
– Как! – воскликнул я и крепко, до боли сжал ее руки. – Ты заставила меня страдать целых семь лет, а теперь скупишься подарить несколько целительных слов…
– Не жалей о прошлом, – сказала она, – ведь мы погибли бы, если бы у меня недостало благоразумия и сил для нас обоих. Вспомни только, каким ты был! Боже мой, что сталось бы с нами сегодня? Ты все равно страдал бы от моей суровости и моей гордыни, но только еще горше; конечно, ты в первый же день нашего брака оскорбил бы меня, и я бы тебя наказала, либо уехав, либо покончив с собой, либо убив тебя самого, ибо в нашем роду убивают: к этому нас приучали с детства. Во всяком случае, ты сделался бы мне ненавистен, твое невежество заставляло бы меня краснеть, ты хотел бы властвовать надо мной, и мы бы не ужились друг с другом; это привело бы в отчаяние моего отца, а ведь он, ты знаешь, был для меня всем! Я бы, пожалуй, не задумываясь, попытала счастья с тобой, будь я одна на свете, – ведь я не робкого десятка; но мой отец должен был жить счастливо, спокойно и пользоваться всеобщим уважением, ибо он делал все, чтобы я была счастливой и независимой. Я бы никогда не простила себе, если б отняла у него в старости те блага, которые он так щедро дарил мне всю жизнь. Не думай, что я так добродетельна и благородна, как полагает аббат, – просто я люблю, но люблю сильно, беззаветно и неизменно. Я приносила тебя в жертву отцу, мой бедный Бернар! И небо, которое прокляло бы нас, если бы я принесла отца в жертву тебе, ныне нас вознаградило: оно пожелало, чтобы мы вышли из всех испытаний, сохранив любовь и верность друг другу. По мере того как ты вырастал в моих глазах, я чувствовала, что могу терпеливо ждать, ибо мне предстояло любить тебя долго и я не опасалась, что страсть моя улетучится, прежде чем я утолю ее, как подчас бывает со слабодушными. Мы оба – люди недюжинные, и нам нужна героическая любовь, чувства обыденные сделали бы нас дурными.
Мы вновь приехали в Сент-Севэр, когда закончился траур Эдме; к этому времени была приурочена наша свадьба. Покидая родные места, где на нашу долю выпало столько горьких мук и великих несчастий, мы воображали, что нам никогда не захочется сюда возвратиться; однако столь велика сила воспоминаний детства и столь крепкие узы привязывают нас к домашнему очагу, что во время пребывания в чарующей стране, не омраченной никакими горестными воспоминаниями, мы довольно скоро начали жалеть о покинутой нами печальной и дикой Варенне, тосковать по старому дубовому парку Сент-Севэра. Мы вошли в него с глубокой и благоговейной радостью. Эдме прежде всего нарезала в саду красивых цветов и, опустившись на колени, убрала ими могилу отца. Мы поцеловали эту священную для нас землю и поклялись употребить все свои силы, дабы наши имена после смерти были окружены таким же уважением и почетом, как имя старого кавалера Юбера де Мопра. Честолюбивое стремление оставить по себе добрую память превратилось для него в страсть, но то была благородная страсть, то было святое честолюбие.
Нас венчали в деревенской часовне, а свадьбу мы отпраздновали в семейном кругу: никто, кроме Артура, аббата, Маркаса и Пасьянса, не присутствовал на этом скромном пиршестве. Мы не нуждались в свидетелях, чуждых нашему счастью! Чего доброго, они еще решили бы, будто оказывают нам милость своим присутствием, которое поможет скорее забыть о тех, кто запятнал позором наш род. Для довольства и счастья мы больше ни в ком не нуждались. Сердца наши до краев были переполнены чувством дружбы. Мы были слишком горды, чтобы искать чьего-нибудь расположения, слишком довольны друг другом, чтобы еще чего-либо желать. Пасьянс снова поселился в хижине, по-прежнему отказываясь что-либо изменить в своей одинокой и скромной жизни; в определенные дни недели он отправлял обязанности «главного судьи» и «казначея». Маркас оставался возле меня до самой своей кончины, которая последовала в конце Французской революции; надеюсь, мне удалось в меру моих сил вознаградить его не стесняемой никакими условностями дружбой и ничем не омрачаемой близостью.
Артур, посвятивший нам целый год жизни, не мог отрешиться от любви к отечеству и от желания споспешествовать его возвышению, отдавая этому свои познания и плоды своих трудов; он возвратился в Филадельфию, где я и навестил его, после того как овдовел.
Не стану описывать вам счастливые годы, проведенные мною с этой благородной и великодушной женщиной: о таких годах не рассказывают. Нельзя было бы жить, после того как они безвозвратно ушли, если бы всеми силами не отгонять воспоминаний о них! Эдме подарила мне шестерых детей, из которых четверо еще живы и занимают достойное положение в обществе. Я льщу себя надеждой, что благодаря им из памяти людской окончательно изгладятся постыдные воспоминания о наших предках. Я жил ради наших детей, следуя завету Эдме, которая поручила мне их на смертном одре. Позвольте мне не касаться более этой утраты, которая постигла меня всего лишь десять лет назад, я и до сих пор ощущаю ее столь же болезненно, как в первый день, и даже не стараюсь утешиться; я лишь стремлюсь быть достойным того, чтобы соединиться в лучшем мире со святой спутницей моей жизни, когда и я окончу свой земной путь. Она была единственной женщиной, которую я любил; никогда другая не привлекла моего взора и не испытала страстного пожатия моей руки. Таков я от природы: то, что я люблю, я люблю вечно – в прошлом, настоящем и будущем.
Бури революции не разрушили нашего благополучия, и вызванные ею страсти не внесли разлад в нашу семью. Мы охотно, от всего сердца, отдали большую часть своего имущества, подчиняясь законам республики; мы считали эти жертвы справедливыми. Аббат, испуганный кровопролитием, порою отступался от своих политических верований: то суровое время нередко требовало непомерной для него силы духа. В нашей семье он был жирондистом. [61]61
Жирондисты– политическая партия периода французской революции конца XVIII в., выражавшая интересы торговой и промышленной буржуазии.
[Закрыть]
Эдме, не менее чувствительная от природы, оказалась более мужественной; женщина с отзывчивой душой, она глубоко сочувствовала горестям всех партий, оплакивала все невзгоды своего века, но никогда не забывала о его величии, окрашенном священным фанатизмом. Она осталась верна идее всеобщего равенства. В те времена, когда деяния Горы [62]62
Гора(монтаньяры) – революционно-демократическая группировка в Конвенте во время французской революции конца XVIII в.
[Закрыть]возмущали и приводили в отчаяние аббата, она великодушно приносила в жертву дружбе свои патриотические порывы и с присущей ей деликатностью никогда не произносила при нем имена некоторых людей, заставлявшие его содрогаться; между тем сама она была такой стойкой и убежденной их сторонницей, каких я среди женщин не видывал.
Что касается меня самого, то могу утверждать: я был воспитан Эдме; всю жизнь я всецело доверялся ее разуму и чувству справедливости. Когда в своем искреннем увлечении я захотел принять участие в общественной борьбе, она удержала меня, напомнив, что мое имя помешает мне приобрести влияние среди простого народа, ибо люди не станут доверять мне и будут думать, что я желаю опереться на них, дабы заставить забыть, что я дворянин. Но когда враг появился у ворот Франции, Эдме сама послала меня служить в армию волонтером; когда же военное поприще стало поприщем честолюбия, а республика была уничтожена, жена призвала меня к себе и сказала:
– Больше ты меня не покинешь.
Пасьянс играл видную роль в годы революции. Он был единодушно избран судьей своего округа. Его неподкупность, беспристрастие, с каким он относился и к дворцу и к хижине, его твердость и мудрость оставили неизгладимые воспоминания в памяти жителей Варенны.
На войне мне представился случай спасти жизнь господину де ла Маршу и помочь ему бежать за границу.
– Вот, пожалуй, и все события моей жизни, в которых играла роль Эдме, – закончил свой рассказ старый Бернар де Мопра. – Об остальном нет смысла вспоминать. Если в повести этой есть что-либо доброе и полезное, нужно, чтобы вы, молодые люди, извлекли из нее урок. Стремитесь иметь рядом с собой прямодушного советчика, взыскательного друга и любите не того, кто вам льстит, но того, кто вас исправляет. Не слишком доверяйтесь френологии: [63]63
Френология– лжеучение о связи психических свойств человека с формой поверхности его черепа.
[Закрыть]ведь у меня весьма выражена шишка убийцы, и, как иногда грустно шутила Эдме, в нашем роду убивают, к этому нас приучали с детства. Не верьте в неотвратимость рока или, по крайней мере, никогда не призывайте безропотно покоряться его воле. Вот мораль моей истории.
В заключение старый Бернар угостил нас вкусным ужином и непринужденно беседовал с нами почти весь вечер. Мы попросили его подробнее остановиться на том, что он назвал моралью своей истории; и тогда он перешел к общим соображениям, здравый смысл и ясность которых нас поразили.
– Я говорил о френологии, – сказал он нам, – не для того, чтобы подвергнуть критике теорию, у которой есть свои хорошие стороны, ибо она направлена к тому, чтобы пополнить наши познания в области физиологии и тем самым лучше изучить человека. Я воспользовался словом «френология», ибо в наши дни верят, будто одни лишь инстинкты формируют человека, верят столь же слепо, как древние верили в могущество рока. Я не думаю, что френология более проникнута духом фатализма, чем любая другая теория такого же порядка, и Лафатер, [64]64
ЛафатерИоганн Каспар (1741–1801) – швейцарский пастор и писатель-богослов, основатель физиогномики – науки, стремившейся обнаружить закономерные связи между характером человека и чертами его лица.
[Закрыть]которого еще при жизни обвиняли в фатализме, на самом деле был ближе многих других христиан к духу Евангелия.
Не верьте в абсолютную неотвратимость рока, дети мои, и все же не отрицайте некоторой доли влияния, которое оказывают на человека его инстинкты, его способности, впечатления, окружавшие его с колыбели, первые картины, поражавшие его детское воображение, одним словом – весь внешний мир, так как он и определяет развитие нашей души. Помните, что мы не всегда бываем вполне свободны в выборе между добром и злом, не забывайте об этом, если только хотите быть терпимы к виновному, то есть справедливы, как само небо, ибо суд господень исполнен милосердия; иначе правосудие божье было бы несовершенным.
То, что я сейчас сказал, быть может, и не вполне согласуется с буквой христианской религии, но заверяю вас, мысль моя вполне отвечает духу христианства, ибо она истинна. Человек не рождается злым; не рождается он и добрым, как полагает Жан-Жак Руссо, старый учитель моей дорогой Эдме. Человек от рождения наделен теми или иными страстями, теми или иными возможностями к их удовлетворению, большей или меньшей способностью извлекать из них пользу или вред для общества. Но воспитание может и должно исцелять от всякого зла; в том и заключается великая задача, ждущая своего решения, – речь идет о том, чтобы найти такую форму воспитания, которая отвечала бы натуре каждого отдельного человека. Всеобщее и совместное образование представляется необходимым; но следует ли отсюда, что оно должно быть одинаковым для всех? Если бы меня десяти лет от роду отдали в коллеж, я бы, конечно, вырос вполне приемлемым для общества человеком; но разве удалось бы таким путем избавить меня от неистовых желаний и научить их обуздывать, как это сделала Эдме? Сомневаюсь. Каждый испытывает потребность быть любимым, это поднимает его в собственных глазах; но людей нужно любить по-разному: одного – с бесконечной снисходительностью, другого – с неослабной строгостью. А пока будет разрешена проблема воспитания, общего для всех и одновременно приспособленного к особенностям каждого, старайтесь сами исправлять друг друга.
Вы спросите меня, каким образом? Ответ мой будет краток: возлюбите друг друга всем сердцем. Тогда нравы станут воздействовать на законы, и вы придете к уничтожению самого отвратительного и самого безбожного из всех законов – закона возмездия, к уничтожению смертной казни; ведь смертный приговор представляет собою не что иное, как признание власти рока над людьми, ибо такой приговор полагает виновного неисправимым, а небо – беспощадным.
Перевод Л. Коган (от автора, вступление и главы I–XVII) и Я. Лесюка XVIII–XXX.








